Читать книгу "Снова нас читает Россия…"
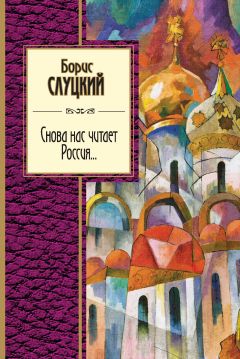
Автор книги: Борис Слуцкий
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Борис Слуцкий
Снова нас читает Россия
© Слуцкий Б. А., наследник, 2019
© Крамаренко А. Г., вступительное слово, состав., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
От составителя
«По-моему, всем ясно, что пришел поэт лучше нас», – произнес Михаил Светлов после первого чтения Борисом Слуцким своих стихов в Союзе писателей. Это случилось в 1954 году. Много позже свою оценку дал Иосиф Бродский:
Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии…[1]1
И. Бродский. Literature and War. The Simposium / The Soviet Union // Literary supplement 17 may 1983. Р. 43 (Пер. В. Кулле).
[Закрыть]
А что помимо выдающегося вклада Слуцкого в развитие стихотворной речи позволяет считать, что он «лучше нас» (на мой взгляд – и по сей день)? Это – его мудрость, нравственная чистота, сердечный дар, непоколебимая позиция в отстаивании незыблемых человеческих ценностей: справедливости, милосердия, добра, любви.
Поэзия Слуцкого глубоко созидательна: она формирует, развивает в человеке его лучшие качества как в сфере личных отношений, так и в его отношениях с обществом и государством.
Время высвечивает масштаб поэта. Сегодня все очевидней становится, что Слуцкий – один из важнейших маяков не только поэзии, а русской культуры вообще, что вектор, им заданный, – это путь сохранения в человеке человеческого.
Слуцкий ведет честный и серьезный разговор с читателем на самые важные, животрепещущие темы: о совести, чести, сострадании, о Родине. Откройте этот сборник, станьте собеседником поэта – очень может быть, эта книга станет вашей настольной.
Несколько слов о структуре сборника. Он составлен из трех частей.
Первая, Хрестоматийное, – известные шедевры поэта. Важно отметить, что некоторые из них впервые публикуются без цензурных поправок и допущенных ранее опечаток.
Вторая, Из неизданного, – выборка из стихотворений, опубликованных в периодике верным помощником поэта Юрием Леонардовичем Болдыревым, но не вошедших ни в одну из книг.
И третья, Из архивов, – выборка из стихов, найденных мной в архивах и опубликованных в периодике в 2017–2018 годах.
В завершение выражаю сердечную признательность всем, кто оказал помощь при подготовке сборника: Ирине Рувинской, Игорю Бяльскому, Дмитрию Сухареву, Илье Фаликову, Олегу Хлебникову.
Андрей Крамаренко
* * *
Меня не обгонят – я не гонюсь.
Не обойдут – я не иду.
Не согнут – я не гнусь.
Я просто слушаю людскую беду.
Я гореприемник, и я вместительней
радиоприемников всех систем,
берущих все – от песенки обольстительной
до крика – всем, всем, всем.
Я не начальство: меня не просят.
Я не полиция: мне не доносят.
Я не советую, не утешаю.
Я обобщаю и возглашаю.
Я умещаю в краткие строки —
в двадцать плюс-минус десять строк —
семнадцатилетние длинные сроки
и даже смерти бессрочный срок.
На все веселье поэзии нашей,
на звон, на гром, на сложность, на блеск
нужен простой, как ячная каша,
нужен один, чтоб звону без.
И я занимаю это место.
* * *
Снова нас читает Россия,
а не просто листает нас.
Снова ловит взгляды косые
и намеки, глухие подчас.
Потихоньку запели Лазаря,
а теперь все слышнее слышны
горе госпиталя, горе лагеря
и огромное горе войны.
И неясное, словно движение
облаков по ночным небесам,
просыпается к нам уважение,
обостряется слух к голосам.
Хрестоматийное
В начале
Лошади в океане
И. Эренбургу
Лошади умеют плавать.
Но – нехорошо. Недалеко.
«Глория» по-русски значит «Слава», —
это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем гордый,
океан старался превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
тыща лошадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось – плавать просто,
океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
вдруг заржали кони, возражая
тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их —
рыжих, не увидевших земли.
И дяди, и тети
Дядя, который похож на кота,
с дядей, который похож на попа,
главные занимают места:
дядей толпа.
Дяди в отглаженных сюртуках.
Кольца на сильных руках.
Рядышком с каждым, прекрасна на вид,
тетя сидит.
Тетя в шелку, что гремит на ходу,
вдруг к потолку
воздевает глаза
и говорит, воздевая глаза:
– Больше сюда я не приду!
Музыка века того: граммофон.
Танец эпохи той давней: тустеп.
Ставит хозяин пластиночку. Он
вежливо приглашает гостей.
Я пририсую сейчас в уголке,
как стародавние мастера,
мальчика с мячиком в слабой руке.
Это я сам, объявиться пора.
Видите мальчика рыжего там,
где-то у рамки дубовой почти?
Это я сам. Это я сам!
Это я сам в начале пути.
Это я сам, как понять вы смогли.
Яблоко, данное тетей, жую.
Ветры, что всех персонажей смели,
сдуть не решились пушинку мою.
Все они канули, кто там сидел,
все пировавшие, прямо на дно.
Дяди ушли за последний предел
с томными тетями заодно.
Яблоко выдала в долг мне судьба,
чтоб описал, не забыв ни черта,
дядю, похожего на попа,
с дядей, который похож на кота.
Музыка над базаром
Я вырос на большом базаре, в Харькове,
где только урны чистыми стояли,
поскольку люди торопливо харкали
и никогда до урн не доставали.
Я вырос на заплеванном, залузганном,
замызганном, заклятом ворожбой,
неистовою руганью заруганном,
забоженном истовой божбой.
Лоточники, палаточники пили
и ели, животов не пощадя.
А тут же рядом деловито били
мальчишку-вора, в люди выводя.
Здесь в люди выводили только так.
И мальчик под ударами кружился,
и веский катерининский пятак
на каждый глаз убитого ложился.
Но время шло – скорее с каждым днем,
и вот – превыше каланчи пожарной,
среди позорной погани базарной,
воздвигся столб и музыка на нем.
Те речи, что гремели со столба,
и песню – ту, что со столба звучала,
торги замедлив, слушала толпа
внимательно, как будто изучала.
И сердце билось весело и сладко.
Что музыке буржуи – нипочем!
И даже физкультурная зарядка
лоточников хлестала, как бичом.
Музшкола имени Бетховена в Харькове
Меня оттуда выгнали за проф
так называемую непригодность.
И все-таки не пожалею строф
и личную не пощажу я гордость,
чтоб этот домик маленький воспеть,
где мне пришлось терпеть и претерпеть.
Я был бездарен, весел и умен,
и потому я знал, что я – бездарен.
О, сколько бранных прозвищ и имен
я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
тебе на ухо наступил медведь.
Поешь? Тебе в чащобе бы реветь!
Ты никогда не будешь понимать
не то что чижик-пыжик – даже гаммы!
Я отчислялся – до прихода мамы,
но приходила и вмешивалась мать.
Она меня за шиворот хватала
и в школу шла, размахивая мной.
И объясняла нашему кварталу:
– Да, он ленивый, да, он озорной,
но он способный: поглядите руки,
какие пальцы: дециму берет.
Ты будешь пианистом. Марш вперед! —
И я маршировал вперед. На муки.
Я не давался музыке. Я знал,
что музыка моя – совсем другая.
А рядом, мне совсем не помогая,
скрипели скрипки и хирел хорал.
Так я мужал в музшколе той вечерней,
одолевал упорства рубежи,
сопротивляясь музыке учебной
и повинуясь музыке души.
Елка
Гимназической подруги
мамы стайка дочерей
светятся в декабрьской вьюге,
словно блики фонарей.
Словно елочные свечи,
тонкие сияют плечи.
Затянувшуюся осень
только что зима смела.
Сколько лет нам? Девять? Восемь?
Елка первая светла.
Я задумчив, грустен, тих:
в нашей школе нет таких.
Как зовут их? Вика? Ника?
Как их радостно зовут!
– Мальчик, – говорят, – взгляни-ка!
– Мальчик, – говорят, – зовут! —
Я сгораю от румянца.
Что мне, плакать ли, смеяться?
– Шура – это твой? Большой.
Вспомнила, конечно. Боба. —
Я стою с пустой душой.
Душу выедает злоба.
Боба! Имечко! Позор!
Как терпел я до сих пор!
Миг спустя и я забыт.
Я забыт спустя мгновенье,
хоть меня еще знобит,
сводит от прикосновенья
тонких, легких детских рук,
ввысь! подбрасывающих вдруг.
Я лечу, лечу, лечу,
не желаю опуститься,
я подарка не хочу,
я не требую гостинца,
только длились бы всегда
эти радость и беда.
Отец
Я помню отца выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то соображения
о нашей любви к порядку.
Я помню отца читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«здоровье – главное!».
Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято
в то, что здоровье —
главное.
Нам оставалось шутить не слишком долго.
Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковноприходского училища
за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.
Не было мешка,
который бы он не поднял,
чтобы облегчить нашу ношу.
Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,
а он лежал в своей куртке —
полувоенного типа —
в гробу – соснового типа, —
и когда его опускали
в могилу – обычного типа,
темную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.
Ботинки Маяковского
47-й номер:
огромные, как сапоги.
Ботинкам Маяковского
не подобрать ноги.
Ботинки Маяковского
носить не смог никто.
Кроме того, осталось
его пальто.
Кроме того, остался
его пример,
но больше человеческого
его размер.
В маленькой квартирке
маленький музей:
вещи Маяковского,
книги его друзей.
Чашечки Маяковского
на полочках стоят.
Сколько меду и яду
чашечки таят!
Кроме того, ботинки.
Кроме того, пальто.
Чашу Маяковского
не осушил никто.
Золото и мы
Я родился в железном обществе,
постепенно, нередко – ощупью
вырабатывавшем добро,
но зато отвергавшем смолоду,
отводившем всякое золото
(за компанию – серебро).
Вспоминается мне все чаще
и повторно важно мне:
то, что пахло в Америке счастьем,
пахло смертью в нашей стране.
Да! Зеленые гимнастерки
выгребали златые пятерки,
доставали из-под земли
и в госбанки их волокли.
Даже зубы встречались редко,
ни серьги, ничего, ни кольца,
ведь серьга означала метку —
знак отсталости и конца.
Мы учили слова отборные
про общественные уборные,
про сортиры, что будут блистать,
потому что все злато мира
на отделку пойдет сортира,
на его красоту и стать.
Доживают любые деньги
не века – деньки и недельки,
а точней – небольшие года,
чтобы сгинуть потом навсегда.
Это мы, это мы придумали,
это в духе наших идей.
Мы первейшие в мире сдунули
золотую пыльцу с людей.
Старуха в окне
Тик сотрясал старуху,
слева направо бивший,
и довершал разруху
всей этой дамы бывшей.
Шептала и моргала,
и головой качала,
как будто отвергала
все с самого начала,
как будто отрицала
весь мир из двух окошек,
как будто отрезала
себя от нас, прохожих.
А пальцы растирали,
перебирали четки,
а сына расстреляли
давно у этой тетки.
Давным-давно. За дело.
За то, что белым был он.
И видимо – задело.
Наверно – не забыла.
Конечно – не очнулась
с минуты той кровавой.
И голова качнулась,
пошла слева – направо.
Пошла слева направо,
потом справа налево,
потом опять направо,
потом опять налево.
И сын – белее снега
старухе той казался,
а мир – краснее крови,
ее почти касался.
Он за окошком – рядом
сурово делал дело.
Невыразимым взглядом
она в окно глядела.
* * *
Шел фильм.
И билетерши плакали
семь раз подряд
над ним одним.
И парни девушек не лапали,
поскольку стыдно было им.
Глазами горькими и грозными
они смотрели на экран,
а дети стать стремились взрослыми,
чтоб их пустили на сеанс.
Как много создано и сделано
под музыки дешевый гром
из смеси черного и белого
с надеждой, правдой и добром!
Свободу восславляли образы,
сюжет кричал, как человек,
и пробуждались чувства добрые
в жестокий век,
в двадцатый век.
Долгая была война
Сон
Утро брезжит, а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале в углу.
Я еще молодой и рыжий,
мне легко на твердом полу.
Еще волосы не поседели,
и товарищей милых ряды
не стеснились, не поредели
от победы и от беды.
Засыпаю, а это значит:
засыпает меня, как песок,
сон, который вчера был начат,
но остался большой кусок.
Вот я вижу себя в каптерке,
а над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!
Девятнадцатый год рожденья —
двадцать два в сорок первом году —
принимаю без возраженья,
как планиду и как звезду.
Выхожу, двадцатидвухлетний
и совсем некрасивый собой,
в свой решительный, и последний,
и предсказанный песней бой.
Потому что так пелось с детства.
Потому что некуда деться
и по многим другим «потому».
Я когда-нибудь их пойму.
* * *
Последнею усталостью устав,
предсмертным равнодушием охвачен,
большие руки вяло распластав,
лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
он мог лежать с женой в своей постели,
он мог не рвать намокший кровью мох,
он мог…
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх – за совесть и за почесть.
Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
а жаловаться ни на что не хочет.
Госпиталь
Еще скребут по сердцу «мессера»,
еще
вот здесь
безумствуют стрелки,
еще в ушах работает «ура»,
русское «ура – рарара – рарара!» —
на двадцать
слогов
строки.
Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм —
лежим
под диаграммами труда,
но прелым богом пахнет по углам —
попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!
Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
Здесь
ад
ревмя
ревет!
На глиняном истоптанном полу
томится пленный,
раненный в живот.
Под фресками в нетопленом углу
лежит подбитый унтер на полу.
Напротив,
на приземистом топчане,
кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом – как мертвые кричат.)
Он требует, как офицер, как русский,
как человек, чтоб в этот крайний час
зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
оглаживает,
гладит гимнастерку
и плачет,
плачет,
плачет
горько,
что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний
зал,
чтоб он
своею смертью черной
комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют воины:
– Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
попробуй
перевоевать
по-своему!
Кельнская яма
Нас было семьдесят тысяч пленных
в большом овраге с крутыми краями.
Лежим, безмолвно и дерзновенно.
Мрем с голодухи в Кельнской яме.
Над краем оврага утоптана площадь —
до самого края спускается криво.
Раз в день на площадь выводят лошадь,
живую сталкивают с обрыва.
Пока она свергается в яму,
пока ее делим на доли неравно,
пока по конине молотим зубами, —
о бюргеры Кельна, да будет вам срамно!
О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
когда, зеленее, чем медный пятак,
мы в Кельнской яме с голоду выли?
Собрав свои последние силы,
мы выскребли надпись на стенке отвесной,
короткую надпись над нашей могилой —
письмо солдату страны Советской.
«Товарищ боец, остановись над нами,
над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
мы пали за родину в Кельнской яме!»
Когда в подлецы вербовать нас хотели,
когда нам о хлебе кричали с оврага,
когда патефоны о женщинах пели,
партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу…»
Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
партком разрешает самоубийство слабым.
О вы, кто наши души живые
хотели купить за похлебку с кашей,
смотрите, как, мясо с ладони выев,
кончают жизнь товарищи наши!
Землю роем, скребем ногтями,
стоном стонем в Кельнской яме,
но все остается – как было, как было! —
каша с вами, а души с нами.
Как убивали мою бабку
Как убивали мою бабку?
Мою бабку убивали так.
Утром к зданию горбанка
подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города,
легкие от годовалого голода,
бледные от предсмертной тоски,
пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
бодро теснили старух, стариков
и повели, котелками бряцая,
за город повели, далеко.
А бабка, маленькая, словно атом,
семидесятилетняя бабка моя
крыла немцев,
ругала матом,
кричала немцам о том, где я.
Она кричала: – Мой внук на фронте,
вы только посмейте,
только троньте!
Слышите, наша пальба слышна!
Бабка плакала и кричала.
Шла. Опять начинала сначала
кричать.
Из каждого окна
шумели Ивановны и Андреевны,
плакали Сидоровны и Петровны:
– Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них. Иди ровно! —
Они шумели: – Ой, що робыть
з отым нимцем, нашим ворогом! —
Поэтому бабку решили убить,
пока еще проходили городом.
Пуля взметнула волоса.
Выпала седенькая коса,
и бабка наземь упала.
Так она и пропала.
Немецкие потери
(Рассказ)
Мне не хватало широты души,
чтоб всех жалеть.
Я экономил жалость
для вас, бойцы,
для вас, карандаши,
вы, спички-палочки (так это называлось),
я вас жалел, а немцев не жалел,
за них душой нисколько не болел.
Я радовался цифрам их потерь:
нулям, раздувшимся немецкой кровью.
Работай, смерть!
Не уставай! Потей
рабочим потом!
Бей их на здоровье!
Круши подряд!
Но как-то в январе,
а может, в феврале, в начале марта
сорок второго, утром на заре
под звуки переливчатого мата
ко мне в блиндаж приводят «языка».
Он все сказал:
какого он полка,
фамилию,
расположенье сил.
И то, что Гитлер им выходит боком.
И то, что жинка у него с ребенком,
сказал, хоть я его и не спросил.
Веселый, белобрысый, добродушный,
голубоглаз, и строен, и высок,
похожий на плакат про флот воздушный,
стоял он от меня наискосок.
Солдаты говорят ему: «Спляши!»
И он сплясал.
Без лести,
от души.
Солдаты говорят ему: «Сыграй!»
И вынул он гармошку из кармашка
и дунул вальс про голубой Дунай:
такая у него была замашка.
Его кормили кашей целый день
и целый год бы не жалели каши,
да только ночью отступили наши —
такая получилась дребедень.
Мне – что?
Детей у немцев я крестил?
От их потерь ни холодно, ни жарко!
Мне всех – не жалко!
Одного мне жалко:
того, что на гармошке вальс крутил.
Памятник
Дивизия лезла на гребень горы
по мерзлому,
мертвому,
мокрому
камню,
но вышло, что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.
Солдаты сыскали мой прах по весне,
сказали, что снова я родине нужен,
что славное дело,
почетная служба,
большая задача поручена мне.
– Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
– Вставай, подымайся! —
Я встал и поднялся.
И скульптор размеры на камень нанес.
Гримасу лица, искаженного криком,
расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным, а был я живым.
Расту из хребта, как вершина хребта.
И выше вершин над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
не взятая мною в бою высота.
Здесь скалы от имени камня стоят.
Здесь сокол от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
который Советский Союз представляет.
От имени родины здесь я стою
и кутаю тучей ушанку свою!
Отсюда мне ясные дали видны —
просторы освобожденной страны.
Где графские земли
вручал
батракам я,
где тюрьмы раскрыл,
где голодных кормил,
где в скалах не сыщется
малого камня,
которого б кровью своей не кропил.
Стою над землей
как пример и маяк.
И в этом
посмертная
служба
моя.
* * *
Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.
Не выдержал. Не смог. Убег.
Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.
Убили всех до одного,
его не тронув одного.
Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.
Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.
До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.
* * *
– Хуже всех на фронте – пехоте!
– Нет! Страшнее саперам.
В обороне или в походе
хуже всех им, без спора!
Верно, правильно! Трудно и склизко
подползать к осторожной траншее.
Но страшней быть девчонкой-связисткой,
вот кому на войне всех страшнее.
Я встречал их немало, девчонок!
Я им волосы гладил,
у хозяйственников ожесточенных
добывал им отрезы на платье.
Не за это, а так отчего-то,
не за это, а просто случайно
мне девчонки шептали без счета
свои тихие, бедные тайны.
Я слыхал их немало, секретов,
что слезами политы,
мне шептали про то и про это,
про большие обиды!
Я не выдам вас, будьте спокойны.
Никогда. В самом деле,
слишком тяжко даются вам войны.
Лучше б дома сидели.
М. В. Кульчицкий
Одни верны России потому-то,
другие же верны ей оттого-то,
а он – не думал, как и почему.
Она – его поденная работа.
Она – его хорошая минута.
Она была отечеством ему.
Его кормили.
Но кормили – плохо.
Его хвалили.
Но хвалили – тихо.
Ему давали славу.
Но – едва.
Но с первого мальчишеского вздоха
до смертного
обдуманного
крика
поэт искал
не славу,
а слова.
Слова, слова.
Он знал одну награду:
в том,
чтоб словами своего народа
великое и новое назвать.
Есть кони для войны
и для парада.
В литературе
тоже есть породы.
Поэтому я думаю:
не надо
об этой смерти слишком горевать.
Я не жалею, что его убили.
Жалею, что его убили рано.
Не в третьей мировой,
а во второй.
Рожденный пасть
на скалы океана,
он занесен континентальной пылью
и хмуро спит
в своей глуши степной.
* * *
Я говорил от имени России,
ее уполномочен правотой,
чтоб излагать с достойной прямотой
ее приказов формулы простые.
Я был политработником. Три года:
сорок второй и два еще потом.
Политработа – трудная работа.
Работали ее таким путем:
стою перед шеренгами неплотными,
рассеянными час назад в бою,
перед голодными, перед холодными,
голодный и холодный.
Так!
Стою.
Им хлеб не выдан, им патрон недодано,
который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Все то, что в письмах им писали из дому,
все то, что в песнях с их судьбой сплелось,
все это снова, заново и сызнова
коротким словом – Родина – звалось.
Я этот день, воспоминанье это,
как справку, собираюсь предъявить
затем, чтоб в новой должности – поэта —
от имени России говорить.
Школа войны
Школа многому не выучила —
не лежала к ней душа.
Если бы война не выручила,
не узнал бы ни шиша.
Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учеба в поле —
не уроки на войне.
Объяснила, вразумила,
словно за руку взяла,
и по самой сути мира,
по разрезу, провела.
Кашей дважды в день кормила,
водкой потчевала и
вразумила, объяснила
все обычаи свои.
Был я юным, стал я мудрым,
был я сер, а стал я сед.
Встал однажды рано утром
и прошел насквозь весь свет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































