Текст книги "Воспоминания и реплики"
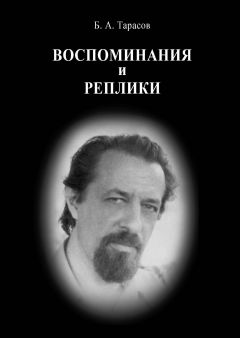
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Как я стал музыковедом
Что же дальше? Приезжаю на первую сессию, причем дня за три до ее начала. Поселяют меня жить на легендарной Собачьей площадке, в старом помещении Гнесинского училища. Моим соседом по комнате оказался Толя Артамонов. Разговорились. Он учился в классе Илюхина в институте и уже переходил на пятый курс, когда однажды на уроке не выдержал, хватил балалайкой об пол и вышел из класса, а заодно и из института. Этой же осенью поступил на теоретическое отделение училища имени Гнесиных (заочно) на первый курс и в данный момент тоже находился на сессии.
Узнав о том, что я втайне подумываю о теоретическом отделении, он тут же предложил мне отправиться на урок в училище на следующий день. Нет, я, конечно же, не думал, что когда-нибудь грохну баян об пол, но на урок пошел. Преподаватель Виктор Кельманович Фрадкин не возражал против этого. Диктант я написал первым, и Фрадкин сказал мне, что перевод в теоретики зависит только от моего желания. Затем меня еще послушал Павел Геннадьевич Козлов, который в то время был заведующим кафедрой в институте и отделом в училище, и таким образом я стал теоретиком. Получилось, что у судьбы есть в данном случае три имени: Володя Коллегов, Лёня Пуриц и Толя Артамонов. Только одно непонятно: почему эти три человека вдруг «объединились», чтобы повлиять на мою судьбу.
Итак, в Барнаул я после сессии вернулся теоретиком. Ну и задал же я проблем Д.Н. Волховицкому, который в сентябре на каждом перекрестке всем хвастался, что его ученик поступил в Гнесинский институт! Теперь же Дмитрию Николаевичу приходилось говорить нечто другое или просто молчать.
Надо сказать, что эти 2,5 года, которые мне остались до вторичного моего поступления в институт, проходили под знаком крайнего фанатизма. До чего иногда доходило, показывает следующий случай. Как-то однажды, будучи на летней сессии, я совершенно не рассчитал свои финансовые возможности и, накупив пластинок, книг и партитур, вдруг, уже перед самым отъездом, обнаружил, что оставил на дорогу самую малость, которой хватило только на две бутылки кефира и две булочки. А ехать на поезде надо было трое суток. Со всей беспечностью молодости я надеялся, что авось как-нибудь доеду. Доехать-то я доехал, только дойти не смог. Метров за двести до дома рухнул без сознания на землю. Очнулся от нашатыря, это медики подъехали на «скорой помощи». Мне тут же сделали соответствующий укол. За это время собрался народ, и я помню, как какая-то бабушка, вздохнув, сказала: «Совсем заучился, бедняга». Дело в том, что при мне были чемодан, сумка, а за спиной перевязанные ремнями стопки книг и партитур, которые были видны. После укола я окончательно очнулся и с помощью местных жителей добрел до дома.
На третьем курсе приезжаю на летнюю сессию. И тут происходит следующее: Женя Пекелис, мой сокурсник, начинает меня агитировать, чтобы поступать в институт этим летом, не дожидаясь окончания училища. Здесь надо сказать, что учеба на заочном отделении предполагала пять лет обучения. Тем более что Гена Чернов и Виталий Русских благополучно поступили в институт летом прошлого года после второго курса (они учились на вечернем отделении). Они оба до училища имени Гнесиных окончили московские вузы: Гена Чернов – химико-технологический институт (причем учился уже в аспирантуре), а Виталий Русских – Московский электротехнический институт. Женя же Пекелис до училища окончил математический факультет МГУ и сразу же поступил в аспирантуру.
О нашем решении как-то узнала Ида Яковлевна Коган, заведующая теоретическим отделом училища на тот момент, и это сильно ее обеспокоило. Дело в том, что это был первый набор теоретиков на заочное отделение, и вот этот-то набор уже начал распадаться, еще до нашего решения. Для того чтобы воспрепятствовать этому процессу, Ида Яковлевна позвала меня на беседу, после которой вполне заверила меня, что я не готов к поступлению в институт. «Поверьте мне, – сказала она, – я работаю и в училище, и в институте и знаю, что говорю».
Этот разговор совпал с окончанием сессии, и я, настроенный таким образом, решил ехать домой, а на следующий день начинался первый вступительный экзамен в институт. В день отъезда домой я решил зайти последний раз в нотный магазин на улице Горького (сейчас его давно уже нет), чтобы запастись музыкальным «продовольствием». После этого собирался ехать на вокзал за билетом. И тут меня в очередной раз настигла судьба. Судьбу звали на этот раз Елена Евгеньевна Дурандина, она работала вместе со мной в Барнаульском музыкальном училище, куда была направлена по распределению. В Москве она находилась на своей сессии в заочной аспирантуре, где ее руководителем был Михаил Самойлович Пекелис[4]4
Впоследствии Елена Евгеньевна стала доктором искусствоведения и профессором Российской академии музыки им. Гнесиных.
[Закрыть].
Она выходила из этого магазина, а я входил в него, столкнулись мы с ней в дверях. Это я говорю для того, чтобы показать, что всё дело было в каких-то пятнадцати секундах, приди я в магазин чуть позже, или она могла уйти на столько же секунд раньше. Вообще каждый знает по собственному опыту, что встретить в Москве знакомого человека почти невероятно.
Лена знала о том, что я собираюсь поступать в институт, и тут же спросила об этом. Я рассказал ей о разговоре с Коган. Реакция ее была самой бурной. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что она взяла с меня слово, что я буду поступать, причем это надо было начинать немедленно, так как прием документов был до пяти часов вечера, а время было половина пятого.
Когда я пришел в институт, то застал огромную очередь, которая рассосалась только к половине восьмого, и всё это время добрейший Аркадий Абрамович Виленский принимал у нас документы, несмотря на регламент[5]5
Кстати, он вёл у нас ту часть военного дела, которая касалась медицины в военных условиях. Чуть позже мы прочитали на стенде, вывешенном к какой-то военной дате, что, оказывается, во время войны он был полковником разведки и кроме других наград имел орден Ленина. Мы были буквально потрясены этим обстоятельством, так как никак не могли предполагать всего этого в тихо говорящем, предельно воспитанном, скромнейшем человеке.
[Закрыть].
На первый экзамен по сольфеджио, бывший на следующий день, я опоздал на несколько минут, к тому же я не успел сфотографироваться на экзаменационный лист. Виктор Осипович Берков, переглянувшись с членами комиссии, тем не менее разрешил мне сесть на место. И тут я начал писать свой первый в жизни трехголосный диктант. Концентрация была столь высока, что я всё еще помню его первые несколько тактов. Замечу попутно, что когда я сдавал музлитературу, то проходя после ответа мимо рояля, на котором лежали ведомости уже сданных экзаменов, я каким-то чудом сумел «высветить» свою фамилию из множества других и увидеть, что по сольфеджио у меня стоит «отлично». Излишне напоминать, что оценки в то время не сообщались, просто вывешивались списки прошедших дальше.
Еще помню, как на экзамене по музыкальной литературе, который вели Рузана Карповна Ширинян и Фёдор Георгиевич (Аствацетур Геворкович) Арзаманов, я не ответил на второй вопрос, бывший в билете. Вопрос этот касался вокальных циклов Ф. Шуберта. Как-то ответив на первый вопрос (не помню о чем), я вполне дипломатично заявил, что отвечать на второй вопрос не смогу, так как не знаю музыкальный материал достаточно хорошо. Оно и неудивительно, так как я специально к экзаменам не готовился. После пятисекундного замешательства Рузана Карповна спросила: «Тогда вы, может быть, расскажете о фортепианных сонатах Бетховена?» Ответ на этот вопрос я знал и, таким образом, прошел дальше.
Для чего я это всё рассказываю? Для того, чтобы было на моем примере понятно, что существовало такое понятие, как гнесинская педагогика, которая отличалась каким-то особым вниманием к «маленьким человечкам», которыми были мы, в данном случае абитуриенты. Ведь ничто не мешало А.А. Виленскому прекратить прием документов ровно в пять часов, В.О. Беркову не пустить меня на экзамен, а Р.К. Ширинян просто поставить мне двойку. И тот факт, что все эти люди поступали так, а не иначе, как раз и свидетельствует об этом внимании. «Мешали» им простая человеческая порядочность, снисходительность к нашим мелким слабостям и, если угодно, любовь к «племени младому, незнакомому». Тон этой педагогике задавали все Гнесины, которые для нас уже (увы!) персонифицировались только в лице Елены Фабиановны, а лично для меня еще и в лице Фабия Евгеньевича Витачека, но о нем особый разговор позднее.
Воспоминания о Е.М. Пекелисе
Как я уже писал, познакомился я с Женей в то время, когда стал музыковедом, учащимся первого курса училища имени Гнесиных. От этого времени осталось мало воспоминаний, возможно потому, что мы оба учились на заочном отделении. Ситуация изменилась к лучшему, когда мы оба поступили в институт имени Гнесиных, я на дневное отделение, а он на вечернее – кстати, это ничего не меняло для нас, поскольку студенты дневного и вечернего занимались вместе по расписанию дневного отделения.
Я неоднократно бывал у Жени дома, и всякий раз меня поражало обилие книг, полки начинались буквально с порога и уходили вглубь квартиры. Отец Жени – крупный специалист в области русской музыки, до войны был профессором Московской консерватории, под редакцией и при активном участии которого выпущен первый учебник по истории русской музыки для вузов. Михаил Самойлович был интеллигентом в высоком смысле этого слова. С 1955 по 1979 год (год смерти) он работал в ГМПИ им. Гнесиных.
Здесь я позволю себе (при молчаливом согласии читателя) чуть отклониться от героя повествования и уйти в воспоминания о Михаиле Самойловиче. Будучи на втором курсе института, мы вместе с моим сокурсником Васей Горбатовым решили прослушать курс оперной драматургии, который вел М.С. на четвертом курсе в течение одного семестра, благо расписание это позволяло. Как сейчас вижу внушительную фигуру М.С., который во время вопроса к аудитории немного выступал вперед и поворачивал ухо по направлению к отвечающему. Дело в том, что в эти годы уже давала о себе знать его глухота, кстати, перешедшая по наследству и к Жене в последние годы его жизни. М.С. был потрясающе осведомлен обо всем, что касалось оперы. В память врезалось его изумление: «Как?! Вы не знаете “Весталку” (Спонтини. – Б.Т.)?!» Этого он не мог понять. Он любил иногда задавать такие каверзные вопросы, как, например: «В какой русской опере находится самый большой вокальный ансамбль?» Я знал ответ на этот вопрос, но решил подождать, пока не выскажутся четверокурсники. Желающих не обнаружилось, и тогда я решился поднять руку. «Пожалуй, начал я неуверенно, – это децимет с хором из первого действия оперы Чайковского “Чародейка”». «Совершенно точно», – сказал М.С. С тех пор он в подобных ситуациях выразительно посматривал на меня.
От М.С. мы узнали, например, такое его наблюдение, которое запомнили на всю жизнь. Суть его передаю упрощенно. В речитативе собственно музыка отступает на второй план, так как здесь важен смысл произносимого. Другое дело в арии. Для нее крайне важна первая фраза, например: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга». Дальнейший текст становится уже не столь важным, поскольку вступает в свои права музыка.
М.С. считал профессию музыканта несерьезной, по крайней мере для своего сына, поэтому он настоял на том, чтобы Женя сначала приобрел «приличную» специальность, а потом действовал по своему усмотрению. Женя так и сделал, имея к моменту поступления в институт степень кандидата наук.
Он не мог ходить на все лекции, поскольку работал в научно-исследовательском институте метеорологии, где надо было находиться на службе, что называется, от звонка до звонка. К тому же Женя скрывал, что учится в институте. И вот настал час расплаты за содеянное. Как-то однажды, когда мы были на пятом курсе, Женя говорит мне: «Представляешь, вызывает меня шеф и говорит, вертя в руках какую-то бумагу: “Что-то я, Женя, ничего не пойму, может, ты мне разъяснишь? Здесь написано, что ты заканчиваешь институт имени Гнесиных и от меня требуется, чтобы я дал на тебя характеристику по месту работы”. В общем, ситуация, – продолжил Женя, – конечно же, совершенно скандальная, к тому же раскрылась моя ложь относительно того, как я в течение пяти лет отпрашивался на лекции, мотивируя это каким-то серьезным заболеванием родственников». Весьма неудачно обернулось для него рутинное требование института имени Гнесиных для всех студентов-вечерников перед выпуском.
Женя скрывал от коллег, что он музыковед. Это объясняет появление музыковеда под псевдонимом А. Андреев. Как-то, через несколько лет после окончания учебы, читаю статью в журнале «Советская музыка» и вижу внизу примечание, которое журнал дает по поводу каждого автора, впервые публикующегося в нем. Вижу текст, сообщающий о том, что некий А. Андреев закончил в 1969 году теоретико-композиторский факультет института имени Гнесиных, в настоящее время работает в одном из московских НИИ. Прочитав, возмутился: не было никакого А. Андреева ни в 1969 году, ни рядом. Хотел даже позвонить в редакцию журнала, чтобы сообщить об ошибке. Но потом смотрю – статья-то посвящена творчеству Г. Шютца, а кто у нас писал по Шютцу? Это был Женя, значит, он придумал себе псевдоним.
Под этим псевдонимом вышли все его труды и даже справка о М.С. Пекелисе в Биографическом энциклопедическом словаре Московской консерватории, вышедшем в 2007 году. Псевдоним был раскрыт после смерти Жени в одном из томов шеститомного собрания его наследия.
Помню, как Рузана Карповна Ширинян говорила мне, ознакомившись с этими трудами еще в рукописи: «Старый Пекелис был глыба, но молодой…» – и тут она очертила руками максимальный масштаб его как ученого.
Лет десять назад мы созвонились с Женей и пошли навестить Р.К. Ширинян. В разговоре зашла речь о недавно вышедшей книжечке Р.К. о симфониях Д. Шостаковича. Меня тогда поразил категоричный отзыв Жени о последнем разделе под названием «Шостакович и Мусоргский»: «Напрасно вы, Рузана Карповна, написали об этом. Никакого влияния Мусоргского на Шостаковича не было и быть не могло». Р.К. покорно склонила голову и ничего не ответила.
Я же, соглашаясь с Женей в принципе, никогда бы не решился на такой выпад. Женя всегда говорил (если говорил) то, что думал. И тем более мне приятно отметить, что, когда я пригласил Женю послушать, как моя дочь играет Н. Метнера, он заявил: «Первый раз в жизни я слушал музыку Метнера с интересом. Спасибо тебе».
В разговоре Женя никогда ничего не говорил о себе, перенося тему разговора на собеседника. Он ушел из жизни внезапно, упав с крутой лестницы, через несколько дней его не стало. В память о Жене я купил шесть томов его наследия и подарил библиотеке РАМ им. Гнесиных, в которой он учился.
Я обещаю тебе, дорогой мой друг, что как только издам эту книгу, которую читатель держит в своих руках, так сразу же примусь за изучение твоей концепции развития европейской музыки.
Воспоминания о С.П. Горчакове[6]6
Публикуется впервые.
[Закрыть]
Я студент историко-теоретико-композиторского факультета Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. 1964 год. Сижу в читальном зале, что-то читаю. Буквально надо мной стоят двое (один седовласый, другой темноволосый) и о чем-то разговаривают, мешая мне читать. Невольно начинаю прислушиваться. Оказывается, один из них не может вспомнить автора книги «История музыки, пережитая мной». У меня была эта книга, но пока я молчу. Наконец не выдерживаю и говорю: «Буттинг!» Тот, кто никак не мог вспомнить фамилию (темноволосый), тут же уставился на меня и медленно произнес: «Правильно. Только произносить надо – Бюттинг». Я: «Но так написано на обложке книги». Он: «Мало ли что написано…»
Дальше история повторилась. Надо заметить, что разговоры велись по той причине, что библиотекарь вышла на какое-то время и они просто дожидались ее прихода. А им необходимо было знать, какую книгу из трех, принадлежавших Ф.О. Геварту, следует спросить. Седовласый не помнил, как называется та книга, которую переводил П.И. Чайковский по указанию А. Рубинштейна, будучи студентом консерватории. И опять я вынужден был вмешаться: «Книга называется “Руководство по инструментовке”. Там еще Пётр Ильич добавил шесть нотных примеров от себя из музыки Глинки». Тут уже седовласый внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ты, пострел, и тут успел!»
Темноволосого я никогда больше не видел (кстати, им оказался музыкальный критик И.И. Мартынов), а при встрече с седовласым он первый подошел ко мне и, протягивая мне руку, сказал: «Ну, давай знакомиться – Сергей Петрович Горчаков». Я назвал себя и тут же радостно заговорил: «Так, значит, это вы дирижировали первым исполнением увертюры В. Калинникова “Былина”?» Он рассмеялся: «Ну вы просто ходячая энциклопедия. Кто сейчас это помнит?» И потом добавил: «Помню, что-то там не получалось с выстраиванием формы».
Здесь я должен пояснить. Дело в том, что еще с учебы в Барнаульском училище я увлекся Василием Калинниковым. Сначала интерес подогревался тем, что мы оба были заиками. Но по мере узнавания его музыки мне всё отчетливее стал вырисовываться масштаб композитора. (О своем увлечении музыкой Василия Калинникова Б.А. Тарасов рассказывает в статье «Реплики». – Прим. ред.)
Но вернусь к Горчакову. Из интернета узнал годы его жизни (10.02.1905–04.07.1976). Оказывается, мы с ним родились в один день – 10 февраля.
В этом же (консерваторском) справочнике сказано, что он работал с 1973 года на дирижерской кафедре ГМПИ им. Гнесиных. Это неправда – так, я свидетельствую, что по крайней мере с 1964 года он уже работал в институте имени Гнесиных, видимо, по совместительству. Пользуюсь случаем, чтобы отметить другие неточности или сомнительные утверждения С. Бутаковой в книге Б. Егорова «Факультет народных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных» (М.: РАМ им. Гнесиных, 2000. С. 79–80), где сказано, что Е.Ф. Светланов участвовал в I Всесоюзном конкурсе симфонических дирижеров в 1938 году. Это неправда, так как Светланов родился в 1928 году и, следовательно, в 1938 году ему было 10 лет.
Еще одна неправда заключается в том, что, как считает С. Бутакова, С.П. Горчаков переводил «Большой трактат об инструментовке» Г. Берлиоза с немецкого. На самом же деле с немецкого он переводил только примечания Р. Штрауса к «Трактату», а основной текст переводила его жена с французского, то есть с подлинника. Так, по крайней мере, он говорил лично мне.
Ну и, наконец, утверждение С. Бутаковой о «двойном опережении», которое якобы Горчаков использовал в своей исполнительской и педагогической практике. Как странно, что я не обнаруживал его ни в исполнении Горчаковым «Поганого пляса» из балета И. Стравинского «Жар-птица», ни у его студента Бориса Осипова, окончившего институт в 1965 году, а в 1972 году ассистентуру-стажировку у Сергея Петровича (я был на его выпускном экзамене).
И, наконец, моя жена Валентина Тарасова (Богомолова), которая училась у Сергея Петровича с 1973 по 1976 год, тоже ничего об этом не знает. Сама же С. Бутакова окончила институт имени Гнесиных в 1971 году.
Судьба как-то свела меня с еще одним учеником Сергея Петровича. Однажды в телефонном разговоре с Е.И. Максимовым я задал ему какой-то вопрос, касающийся прошлого русского народного оркестра. Профессор не смог ответить на него, но тут же поспешил добавить, что то, что касается исторической части, знает его коллега по МГИКу профессор Владимир Давидович Глейхман. Он дал его телефон. С Владимиром Глейхманом мы вместе поступили в институт имени Гнесиных на заочное отделение в 1961 году, он по классу балалайки, я по классу баяна. Но, естественно, мы друг друга не помнили, так как я после первой же сессии перевелся на заочное отделение теоретического отдела училища имени Гнесиных. Но я знал, что он по дирижированию учился у Сергея Петровича, так как неоднократно видел их беседующих в коридоре института.
И вот как-то однажды звоню Глейхману по поводу Сергея Петровича, а также сообщить ему, что я достал видео с записью цикла М. Мусоргского «Картинки с выставки» в оркестровке Горчакова в исполнении оркестра Гевандхауза под управлением Курта Мазура. Он спросил: «А вы кто?» Я назвался, добавив, что он должен меня знать по публикациям в журнале «Народник». Он, немного подумав, сказал: «Олега Тарасова знаю, а Бориса Тарасова не знаю, не слышал».
Вообще-то я считаю, что профессор-народник не обязан вообще что-то читать, ведь он и так всё знает. Когда я рассказал об этом В.К. Петрову, участнику «трио», которое трудилось над изданием этого журнала, он удивленно воскликнул: «Как же так? Ведь именно Глейхман являлся распространителем “Народника” в Московском институте культуры!» Я специально для этого случая подсчитал, сколько раз я «выходил» на публику в журнале, – получилось 28 раз. Добавлю лишь одну выразительную деталь – Глейхмана это исполнение на диске не заинтересовало, так что всё сходится.
Но я, кажется, сильно отклонился от темы. Итак, продолжаю. В конце первого курса нам сказали, что со второго курса у нас вводится предмет, который называется «специальность». В связи с этим было предложено подумать над тем, чем бы мы предпочли заниматься, а также выбрать себе научного руководителя. Здесь и думать не пришлось, так как я давно знал, что буду заниматься историей и теорией оркестровки, а руководителем у меня будет Сергей Петрович.
С этим я и подошел к профессору, точнее к доценту, кем был в ту пору (в 1965 году) Сергей Петрович. Он сразу же согласился в принципе стать моим руководителем, но для окончательного решения этого вопроса назначил мне встречу у себя дома. Переписываю адрес из своей древней записной книжки: Москва, Ленинградское шоссе, 2-й квартал, корп. 38, кв. 61. Мария Семёновна (жена), Виктор Сергеевич (сын). Метро «Речной вокзал». В назначенный день и час я появился у Сергея Петровича. Он был дома один. Я принес ему партитуру «Русского интермеццо» Василия Калинникова для симфонического оркестра, о чем мы заранее условились. Сергей Петрович внимательно изучил текст, и лишь просмотрев его весь, стал делать замечания. Он сразу же с первого такта отметил, что негоже так обращаться с авторским текстом. Я стал возражать ему, говоря, что именно так автор поступает в начале второй симфонии, но Сергей Петрович был непреклонен. Затем он на минуту над чем-то задумался, а потом сказал: «То, что вы поручили начальную тему валторне, конечно, похвально, но мне кажется, существует более точное решение – это английский рожок». И тут только меня осенило – как же я сам не догадался до этого! И лишь позднее понял, что заранее исключил из состава оркестра все видовые инструменты. Это был хороший урок, преподанный мне Сергеем Петровичем.
Когда он узнал, что это мой первый опыт в симфонической оркестровке, то сильно удивился, а потом добавил: «А знаете, ведь так начинает далеко не каждый композитор». Затем, после чаепития, Сергей Петрович попросил меня сыграть модуляцию. Я знал, как это делается, но то ли от неожиданности задания, то ли от излишней ответственности просто сидел, тупо уставившись на клавиатуру. В конце концов Сергей Петрович сказал: «Ладно, не играйте. Я беру вас в свой класс без модуляции. Оформляйте всё, как у вас на кафедре положено, и с сентября начнем заниматься».
Окрыленный таким решением, я пошел к заведующему кафедрой композиции и инструментовки, которым в ту пору был Ф.Г. Арзаманов. Он, прочитав мое заявление, тут же отреагировал: «Не могу разрешить. У нас на кафедре есть прекрасный специалист в этой области, поэтому варяги нам не нужны». Так для меня впервые прозвучала фамилия Витачека.
Из бесед с Сергеем Петровичем кое-что запомнилось. Так, например, он говорил, что выполнил оркестровку «Картинок с выставки» М. Мусоргского вовсе не в пику Равелю, а просто потому, что считал своим долгом сделать «кучкистскую» версию цикла, как бы балакиревско-бородинско-корсаковскую. В связи с этим говорил, что в «Старом замке» соло альтового саксофона порождено французской традицией, а начало «Богатырских ворот» оркестровано в полном согласии с западноевропейской традицией башенной музыки, в то время как здесь нужна соборность, отсюда и тутти всего оркестра в начале номера. Он при этом говорил: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет, а не Францией».
Конечно, что-то память сохранила, а что-то не сохранила, но это неважно, а важен сам факт общения со столь крупным мастером. И если я чего-то не помню, это вовсе не значит, что этого не было. В то время всё работало на результат. В этих кратких встречах и разговорах мы (студенты) проверяли курс, которым идем. Иногда это общение давало свои результаты спустя десятилетия. Приведу пример из собственной жизни. С.П. Горчаков был настоящим «полиглотом» в оркестровке, поскольку оркестровал и дирижировал не только для симфонического и духового оркестра, но и для русского народного оркестра (не забуду его исполнение «Поганого пляса» из балета И. Стравинского «Жар-птица» в его же оркестровке) и оркестра баянистов.
До Электростали мне приходилось довольно много оркестровать для русского народного и баянного оркестров, а в Электростали пришлось заняться оркестровкой для духового, а позднее и для симфонического оркестров. И вот, спустя сорок лет, я вдруг понял, что это проросли семена, брошенные в мою «почву» Сергеем Петровичем. Поистине педагогика, как, впрочем, и дирижирование, «темное» дело.
С.П. Горчакову принадлежат следующие труды: «Практическое руководство по инструментовке для духового оркестра: переложение фортепианных произведений» (М., 1962) – я изучил основательно эту крайне полезную книгу еще до поступления в институт; «Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке Г. Берлиоза» (Т. 1 и 2. М., 1972) и еще три издания, посвященные дирижерской технике и инструментовке для духового оркестра.
Из изданных (а сколько было неизданных!) партитур отмечу «Картинки с выставки» Мусоргского и Чакону И.С. Баха. Мне известно, что «Картинки» исполнял только К. Симеонов. Других исполнителей не знаю. А вообще я бы перефразировал известную поговорку: что имеем не храним, а потерявши, даже не понимаем, что потеряли.
Вот Курт Мазур понял. По всей видимости, кто-то сказал ему, что партитура «Картинок» выполнена немецким дирижером. «Как? Он что, немец? А на партитуре написано “Горчаков”». – «Так это его псевдоним. Он на самом деле русский немец Цвейфель». – «Это весьма интересно, я обязательно посмотрю эту партитуру». К. Мазур озвучил версию С.П. Горчакова, и я предлагаю читателю стать слушателем и зрителем этого исполнения (запись 1993 года). Кроме того, Курт Мазур записал аудиодиск с «Картинками» с Лондонским филармоническим оркестром, что говорит о сознательной пропаганде версии С.П. Горчакова. «Картинки с выставки» М. Мусоргского в оркестровке С.П. Горчакова читатель может легко найти в интернете.
А все русские дирижеры, по почину Е.Ф. Светланова, записавшего в своей антологии русской симфонической музыки равелевскую версию, пусть ее и играют. Они на самом деле не понимают, что они потеряли.
Прошло уже больше полувека с момента моей встречи с Сергеем Петровичем Горчаковым. А из памяти никак не стирается его улыбка, его веселый взгляд из-под густо заросших бровей. И молодость старика, исходящая от него.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































