Текст книги "Воспоминания и реплики"
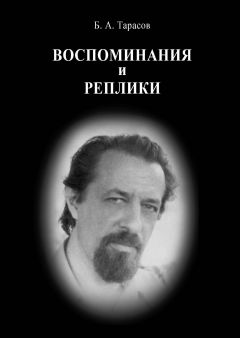
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Воспоминания об Ааре Суссь и Неэми Ярви[7]7
Публикуется впервые.
[Закрыть]
Как-то ко мне в комнату вошел симпатичный парень и сказал, что ему порекомендовали меня как оркестровщика. Я, конечно, видел его, но еще не был с ним знаком. «Ааре Суссь – контрабасист», – представился он. «А я Борис Тарасов – теоретик». Его просьба состояла в том, что необходимо было оркестровать Концерт для контрабаса с оркестром Д. Драгонетти (1763–1846), партитуры которого не обнаружилось ни в Москве, ни в Таллине. Он сразу же пояснил, что если я это сделаю, то мы вместе с ним полетим в Таллин на репетиции, где ему будет аккомпанировать Камерный оркестр Эстонского радио.
От неожиданности такой перспективы у меня даже дух перехватило, и я с жаром и самонадеянностью молодости принялся за оркестровку, на которую ушла пара недель. За это время состоялась встреча с дирижером Н. Ярви, который приехал в Москву, где должен был исполнять программу, из которой я запомнил лишь одну из D-dur’ных симфоний И. Гайдна. Мы с Ааре ждали его перед концертным залом. Ааре о чем-то поговорил с ним, после чего подвел меня к Ярви и сказал, что я оркеструю концерт. Мы представились друг другу, он испытующе посмотрел на меня и сказал: «Хорошо. Буду ждать партитуру». Это происходило в октябре-ноябре 1967 года.
И вот наконец мы полетели в Таллин. Остановились в доме сестры Ааре, которая была замужем за русским. Погода была пасмурная, низко нависали тучи. И тут я впервые в жизни (мне было в ту пору 25 лет) увидел море, которое, вопреки моим ожиданиям сибиряка, не произвело на меня должного впечатления. Зато меня поразили дома местных жителей. Они были двухэтажные, каменные, с угловой башней.
Наутро поехали в филармонию. Не буду оригинальным и скажу, что вся обстановка в городе, в филармонии, в транспорте, в общении с людьми была явно не советской – всё вокруг совершенно не походило на то, что эстонцы были по сути оккупированным народом. Начну с того, что директор оркестра, которым в ту пору, если не ошибаюсь, был Петер Сауль, приняв от меня партитуру и партии, сказал мне, что, к сожалению, оплатить мне эту работу он сможет только завтра. Я представляю, сколько времени меня бы мурыжили с оплатой в России, а тут с извинениями – только завтра. Более того, для меня, выросшего в России, вообще стало неожиданностью, что я что-то получу, хотя Ааре и говорил мне об этом.
На следующий день репетиция в комнате. Когда подошла очередь репетировать концерт, дирижер представил меня оркестру. Оркестр зааплодировал, я поклонился. Перед этим я спросил у Ааре, как мне обращаться к дирижеру. Он сказал, что или Ярви, или «маэстро». Я выбрал «маэстро».
Надо сказать, что Ярви дирижировал с листа, ему только что принесли партитуру. В одном месте я подошел к нему и попросил слова. Он остановил оркестр. Я указал на имитацию альтов, которую, как мне показалось, он не заметил. «Имитация? А, ну конечно же, извините», и повторил этот фрагмент.
Сейчас, когда я пишу эти строки, мне непомерно стыдно, что я посмел сделать замечание великому дирижеру. Но об этом позже.
На следующий день я улетел в Москву, а Ааре остался на запись концерта. Когда он вернулся, то сказал, что Ярви как будто бы говорил, что, возможно, запись пойдет на пластинку. еще он сказал, что была проблема с флажолетами на контрабасе в каденции, которые еле пробивались через аккорды деревянных духовых, но этого я предусмотреть не мог в силу своей неопытности.
После этого мы как-то потеряли друг друга из вида. Я 9 января 1968 года женился, потом уехал на две недели в Иваново, потом в Прагу на музыкальный фестиваль, а при переходе на пятый курс вообще перевелся на заочное отделение. Очнулся от беспамятства только в 2016 году, когда замыслил написать мемуары. И вот как-то в разговоре с Леонидом Мельниковым, профессором РАМ им. Гнесиных, знакомым мне по совместной работе с НАОНИР им. Н. Осипова, я спросил его, не знает ли он контрабасиста по фамилии Суссь. Он сказал, что слышал о таком, но, насколько ему известно, он недавно умер. Леонид пообещал мне, что свяжется с музыкантами из Госоркестра, в котором работает его сын – Пауль Суссь, виолончелист.
Пауль сказал мне, что Ааре скончался 28 февраля 2016 года (разговор состоялся приблизительно в мае 2016 года). Он также сообщил мне, что Ааре работал в разных оркестрах, но больше всего в БСО.
Светлая память тебе, Ааре. Как жаль, что я спохватился так поздно.
Теперь перехожу к оценке Н. Ярви как выдающегося интерпретатора русской музыки, основываясь на 15 дисках, имеющихся у меня. Среди них все симфонии А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, А. Глазунова, отдельные симфонические произведения всех троих, все сюиты П. Чайковского, симфонии Вас. Калинникова, оперы С. Рахманинова и др.
Начну с интервью, которое дал Н. Ярви в декабре 2011 года под говорящим названием «Нам нечем заменить русскую культуру». У Ярви слова не расходятся с делом. Например, я не знаю лучших исполнителей симфоний А. Глазунова, нежели в исполнении эстонского дирижера, а также симфоний Н. Римского-Корсакова, а с исполнением Второй симфонии А. Бородина может конкурировать лишь исполнение под управлением Н. Голованова.
В этом интервью Н. Ярви считает исполнение симфоний С. Рахманинова Е. Светлановым эталонным. Это означает только одно – он не слышал исполнение их К. Зандерлингом. Вообще хотел бы сказать, что исполнением «Антологии русской симфонической музыки» Евгений Фёдорович сам себя загнал в угол, ибо в искусстве количество не переходит в качество, и на каждое исполнение всегда можно найти более впечатляющее. И только таким образом можно составить настоящую антологию русской симфонической музыки.
Считаю «Море» А. Глазунова[8]8
«Море» Александра Глазунова – фантазия для симфонического оркестра, op. 28. Шотландский национальный оркестр. Дирижер Неэме Ярви (1988).
[Закрыть] образцом прочтения Н. Ярви непризнанного шедевра. Здесь всё удивительно, и невольно задаешься вопросом, как такое совершенство возможно. Ведь немыслимо оттачивать каждый момент звучания. Одно приходит на ум – то, что это порождено доверием оркестра дирижеру, но что за этим стоит – великая тайна есть. И невольно вспоминается фраза Н. Римского-Корсакова: «дирижирование – темное дело».
Воспоминания о Г.И. Литинском[9]9
Публикуется впервые.
[Закрыть]
Судьба свела меня с Генрихом Ильичом благодаря тому, что я был поводырем у своего незрячего сокурсника Васи Горбатова. Вася поступил в институт на теорию музыки и композицию, на композицию был зачислен условно, поскольку кафедра не была уверена в том, как пойдет учебный процесс для него. Тем не менее занимался он как теоретик и композитор – по композиции у Г.И. Литинского, по теории музыки – у Ю.Н. Рагса.
Первое, что бросалось в глаза при общении с Генрихом Ильичом, была его доброта по отношению к студенту. Судите сами. Он устроил нам с Василием право пользоваться библиотекой Союза композиторов. Затем как-то, учась на четвертом курсе, мы пожаловались ему на то, что Василию не хватает времени на инструментовку концерта для оркестра. Концерт уже был написан в клавире и одобрен Генрихом Ильичом, надо было только написать партитуру. Его реакция была незамедлительной, а главное, стопроцентно результативной. Он позвонил в Союз композиторов, и нам двоим предоставили право проживания на две недели в Доме творчества в Иваново. В результате мы смогли написать партитуру за двухнедельный срок. Жили в отдельном коттедже в лесу, ходили на завтрак, обед и ужин в ресторан, где меню никогда не повторялось. Генрих Ильич сам устроил нам эту поездку через ректорат института, и всё это абсолютно бесплатно. Концерт для оркестра стал дипломной работой Василия.
Полифонию композиторы проходили только у Генриха Ильича, и я был единственным теоретиком, по крайней мере в те годы, который учился у него по этому предмету. Согласно выработанной Генрихом Ильичом методике, мы писали двухголосные, трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьми-, десяти– и, наконец, двенадцатиголосные имитации. Последних надо было написать две. Всё гениальное просто. Эти слова вполне относятся к данной методике.
Осознать это пришлось не сразу. Помню, когда я писал задачу по гармонии при поступлении в аспирантуру в 1971 году, то неожиданно для себя начал применять имитации, ленточное голосоведение и прочие премудрости. И всё это в рамках довольно внятной гармонической вертикали. Доцент Анатолий Прокопьевич Астахов ко мне подошел и сказал: «А задачку-то вы мастерски расцветили». Новое «оружие» мне особенно пригодилось во время моей работы в Астраханской консерватории, где я вел два года гармонию у теоретиков.
Кстати, мой переезд из Ростова в Астрахань также связан с Генрихом Ильичом. Когда я поступил в аспирантуру, вышло в свет учебное пособие Г.И. Литинского «Образование имитации строгого письма». Будучи на заочной сессии, я купил его и начал искать Генриха Ильича. Он разговаривал в коридоре с каким-то человеком. Увидев меня, Литинский сказал ему: «А вот и Боря Тарасов. Возьмите его в свою консерваторию», – на что я ответил ему: «Генрих Ильич, я уже работаю в Ростовской консерватории». Оказалось, он разговаривал с Марком Ароновичем Этингером, который приехал в Гнесинку специально для поиска преподавателей для Астраханской консерватории. Тем не менее Марк Аронович записал мою фамилию на всякий случай. Этот случай представился через два года, когда мне понадобилось переехать в Астрахань. В телефонном разговоре со мной Марк Аронович сказал: «Рекомендация Генриха Ильича для меня священна». И я переехал в Астрахань.
На титульном листе своего пособия Генрих Ильич написал:
«Дорогому Боре Тарасову – отличному знатоку этого дела от любящего его автора.
Литинский. Москва 23.Х.1971 г.»
Это, конечно, преувеличенная похвала, но Генрих Ильич не жалел слов для добра.
И, наконец, последнее, что читатель может прочитать далее (cм.: «Мой Витачек», VIII). Я только напомню его слова: «Ставьте пять, я этого парня знаю!»
В этом весь Генрих Ильич Литинский.
Воспоминания о Ю.В. Муромцеве
Это был высокий, стройный мужчина. В те редкие моменты, когда он появлялся в коридорах института, его фигура несомненно привлекала внимание, и те, кто видел его впервые, как-то сразу же понимали, что это идет ректор, фактический глава всего гнесинского «комбината».
Юрий Владимирович имел обыкновение внезапно появляться во время экзаменов или на защитах дипломных работ. Так, например, было известно, что он однажды, присутствуя на защите какого-то музыковеда, защищавшегося по «Петрушке» И. Стравинского, задал вопрос: «А что происходит в оркестре в момент смерти Петрушки?» Музыковед не смог ответить. Тогда Юрий Владимирович настоял на двойке и, как мне кажется, был прав совершенно, поскольку пользоваться при написании работы только клавиром совершенно недопустимо.
Как-то Муромцев зашел на наш экзамен по гармонии, попав на мой ответ. На кафедре сразу же засуетились, ища стул для него, но он сказал, что стул не понадобится, так как он зашел только на минуту. Я же в тот момент играл секвенции, которые мы должны были подобрать из литературы. И вот играю я секвенцию из «Майской ночи» Н. Римского-Корсакова, одной из любимейших моих опер, из 3-го действия. Юрий Владимирович тут же меня спрашивает: «А кто здесь играет в оркестре?» Я отвечаю: «То, что в левой руке, – виолончели, а в правой – деревянные духовые». «Не виолончели, а виолончель соло», поправляет меня Юрий Владимирович. «Ах, да, виолончель соло», – тут же спохватываюсь я. После этого он говорит: «Ну, я вижу, что у вас тут всё нормально», и уходит. Я чувствовал, как кафедра вся напряглась при его появлении, но обошлось всё самым лучшим образом, поскольку студент попался знающий, но не настолько, чтобы его нельзя было поправить.
При всеобщем либеральном отношении к студентам со стороны ректората мы все-таки знали, что в случае какого-нибудь значительного проступка пощады не будет, последует немедленно исключение из института. В связи с этим хочу привести пример с одним из баянистов, поступившим в аспирантуру. Он в течение месяца не являлся на учебу, а когда явился, то объяснил свое отсутствие каким-то событием, произошедшим в его семье. Но Юрий Владимирович располагал совершенно другой информацией о том, что этот баянист просто решил подзаработать в одной из близлежащих к Москве областных филармоний. И это было правдой. Такие вопросы Юрий Владимирович решал без полутонов. Поэтому и последовало исключение. Фамилию баяниста не даю, так как мне известно, что он не афиширует этот факт из своей жизни.
С Юрием Владимировичем связан один случай, служивший поводом для переживания всего института. Дело в том, что однажды у нас попробовали ввести систему пропусков. На вахте сидела некая бабушка. И тут один первокурсник-вокалист решил прорваться без пропуска, должно быть, забыл его дома. Бабушка закричала: «Держи его! Держи!», а по лестнице спускался Юрий Владимирович и где-то уже на уровне второго этажа попытался остановить нарушителя. Парень не знал, что имеет дело с ректором, и вырывался так, что сломал ему палец. Я лично позднее видел Юрия Владимировича с повязкой на руке. Все решили, что исключение парню обеспечено, но со стороны Юрия Владимировича не было никаких действий, даже простого выговора.
В то же время на всеобщее обозрение мог висеть выговор профессору, и.о. профессора или доценту. Помню, например, выговор и.о. профессора Г. Талаляну за что-то. Юрий Владимирович был пианистом и дирижером и успел перед войной поработать в Оперном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Но после войны Елена Фабиановна, знающая очень хорошо людей, пригласила его на пост ректора института, оставив за собой должность художественного руководителя. Ю.В. Муромцев был ректором с 1953 по 1970 год.
Тогдашний министр культуры Е. Фурцева сделала большую ошибку, назначив Ю.В. Муромцева директором Большого театра. Уже в наше время читаю в книге А.Д. Штильмана «В Большом театре и Метрополитен-Опера» (СПб., 2015, с. 141) из интервью Анатолия Риса с Игорем Алексеевым: «А помните легендарного ректора Гнесинки Муромцева Юрия Владимировича? – Это того самого, которого Фурцева пересадила в кресло директора Большого театра? – Именно его! И Муромцев, при первом знакомстве с труппой, произнес незабываемую речь: “В ваш прославленный коллектив я пришел работать с большой неохотой и огромным нежеланием”».
Проработав с таким настроением от силы два года, Юрий Владимирович затем вернулся в институт профессором кафедры оперной подготовки, но вскоре у него обнаружился рак. Умер Юрий Владимирович в 1975 году.
Самое неприятное впечатление оставляют страницы воспоминаний А.Д. Штильмана, относящиеся к Ю.В. Муромцеву. Казалось бы, совершенно понятная для любого нормального человека ситуация, которую и сам А.Д. Штильман считает ненормальной. В таком случае зачем постоянное ёрничанье? Он везде называет Ю.В. Муромцева не иначе как «полковник» (причем в кавычках) Муромцев и один раз – «писарь-капитан военно-полевого суда во время войны» (там же, с. 139). Что на это ответить? Отвечу прямо, что называется, в лоб. В то самое солнечное осеннее утро 1944 года, когда маленького Артура привели в Большой театр в качестве зрителя (там же, с. 18), Ю.В. Муромцев защищал небо от фашистских самолетов, обеспечивая мирную жизнь в том числе и маленькому Артуру, и его учебу в ЦМШ, в Консерватории и в аспирантуре, в результате которой А.Д. Штильман и стал тем, кем стал.
Даю справку, добытую мною в РГАЛИ (фонд 2767) и подтвержденную в Музее-квартире Е.Ф. Гнесиной. «Гвардии старший лейтенант Юрий Владимирович Муромцев, участник Великой Отечественной войны с начала и до ее окончания, сперва в качестве командира взвода управления батареи зенитной артиллерии ПВО Западного фронта, а с 1945 года в качестве художественного руководителя ансамбля ПВО этого же фронта. Награжден орденом Красной Звезды и медалями “За оборону Москвы”, “За победу над Германией”». Как говорится, комментарии излишни.
Мой Витачек[10]10
Впервые опубликовано: Тарасов А.Б. Избранные статьи: по вопросам тембра, оркестровки и оркестроведения. – М.: Пробел-2000, 2019. – С. 150.
[Закрыть]
Название придумано не мной. Во время учебы мне нравилось, когда говорили: «Вчера видел твоего Витачека в метро» или «Боря, на днях ваш Витачек на кафедре показывал свои этюды. Ну и ну! У нас из кафедры никто их не сыграет», – и так далее в том же духе. Так что vox populi – vox dei (лат. «глас народа – глас божий»). А теперь эпиграф, который будет не на своем месте, но сохранит свою роль.

Ф.Е. Витачек
– Фабий Евгеньевич, расскажите о том, как вы учились у Мясковского.
(Очень долгая пауза.)
– Боря, давайте займемся делом.
Я пишу уже третий вариант воспоминаний о Фабии Евгеньевиче. Знаю, как бы он отнесся к этой затее, да и читатель уже догадывается. Я не назвал бы это последовательное избегание внимания к своей персоне чувством скромности (или только скромности), здесь было что-то более близкое смирению, как его понимают люди верующие.
Все предыдущие попытки рассказать о Ф.Е. меня не устраивали, потому что из-за пояснений той или иной ситуации приходилось писать о других людях, отклоняться в другие темы, а сам Ф.Е. как-то «растворялся» в этих подробностях.
Наконец форма нашлась в очень простом, а главное, адекватном решении. Почти всегда прошлое является нам в виде каких-то запечатленных моментов, возможно даже фотографий, и очень редко в виде некоего процесса. Вот я и решил представить свой текст как «фотоальбом» и только для описания методики работы Ф.Е. со мной воспользоваться обычным последовательным изложением того, как я эту работу понимаю и оцениваю сегодня.
На протяжении шести лет (четыре года в институте плюс два года в аспирантуре) занятий по специальности Ф.Е. неизменно придерживался принципа, что тему исследования задает руководитель. Два раза (на третьем курсе и при поступлении в аспирантуру) я делал попытки предложить и обсудить тему от себя, и оба раза Ф.Е. выслушивал мои доводы, а затем мягко, но решительно настаивал на своем. Я не спорил, тем более что довольно быстро убеждался в его правоте.
Необычное начиналось дальше. Никакого обзора литературы по теме не требовалось. В институте Ф.Е. были написаны три курсовые работы по оркестровке К.М. Вебера, Р. Вагнера, А.Н. Скрябина и дипломная работа по оркестровке трех ранних балетов И.Ф. Стравинского, и ни разу он не заботился о списке литературы. Всё происходило так, как будто никакой литературы и не существует.
Лет через тридцать, когда мне довелось редактировать два сборника, я часто вспоминал то, как это делал Ф.Е. Мне даже показалось, что он имел какой-то опыт работы редактора. Но вся тщательность его вчитывания в текст преследовала только одну цель – точность выражения моих мыслей, пусть сколь угодно наивных. Не было никаких вдохновенных монологов профессора (тогда, впрочем, доцента) на темы курсовых работ, которые я должен был запечатлеть в своей памяти и не отклоняться от них в работе. Но лучше показать это на примере.
Из вагнеровских партитур Ф.Е. выбрал для курсовой работы Вступление к «Лоэнгрину». Дойдя до описания кульминации, я заметил, что в самом ее начале Вагнер снимает всю струнную группу, что противоречит всем правилам и даже здравому смыслу, оставляя только все духовые и ударные. Проходит кульминация, но перед ее окончанием Вагнер возвращает струнные при нюансе piano, когда «духовой оркестр» еще не отзвучал. Слушатель не замечает, что большая часть оркестра (по количеству исполнителей) в кульминации не участвовала. Это можно увидеть в зале на концерте (но не в опере), но для уха смычковые будут присутствовать, и вы никогда не догадаетесь, что вас «обманули». Этот прием равняется фокусу, его можно рассматривать как шутку гения, а можно считать доказательством высшего мастерства оркестровки, которое учитывает не только собственно оркестровку, но и ее восприятие.
Во время чтения этих соображений Ф.Е. пришел в сильное волнение, после чего стал допытываться: «Боря, вы сами догадались об этом или прочитали?» Оказалось, что это наблюдение принадлежит Н.А. Римскому-Корсакову и зафиксировано в известных (но не для меня тогда) воспоминаниях В.В. Ястребцева.
А теперь представим, как могло бы быть при традиционном подходе к делу. Ф.Е.: «Боря, обязательно посмотрите “Воспоминания” Ястребцева, там есть интересное наблюдение Римского-Корсакова по поводу этого Вступления». Разница очевидна. Вот эту радость изобретения велосипеда я считаю (а Ф.Е. считал) особенно важным на начальном, вплоть до дипломной работы, этапе воспитания музыковеда, точно так же, как у ребенка должен быть донотный период обучения в музыке.
Убежден, что во взглядах Ф.Е. по этому поводу без влияния Н.С. Жиляева не обошлось. Я не могу сейчас касаться темы «Жиляев – Витачек», но когда я прочитал о Н.С. Жиляеве, то понял, что довожусь «внуком» не Н.Я. Мясковскому, а Н.С. Жиляеву, если не обоим одновременно.
Жиляев поступал «круче» – нес какую-нибудь чепуху о каком-то классике, а на следующем уроке внушал прямо противоположное. На недоумение ученика говорил: «А почему ты мне не возражал?» Ф.Е. не мог действовать так же, но цель у него была та же самая.
Сейчас, когда наступает пора вникать в почти прожитую жизнь, осознавать не осознаваемые раньше причины тех или иных ее маршрутов, я понимаю, что уроки Ф.Е., его представления о том, какими они должны быть, положительно влияли, помогали мне совершать свои шаги в музыковедении, а порой и в жизни, но о себе пишут в другом жанре и фигуры другого калибра.
Считается трюизмом мысль о том, что лишь та педагогика эффективна, которая незаметна, но она незаметна еще и потому, что очень редко встречается. К незаметной педагогике я отнес бы прежде всего, если можно так выразиться, воспитание собой. Не секрет, что многие педагогические карьеры рушатся уже на этом (первом) рубеже. Но если с этим всё в порядке (а у Ф.Е. было в избытке), то что делать или не делать дальше? Вопрос для философа, мы знаем, что десять заповедей сформулированы по принципу отрицания неких действий. Думаю, что Ф.Е. так и поступал. Попробую назвать «незаметные» элементы его педагогики: не навязывай своего мнения студенту; не навязывай ему чужих мнений – пусть он потом их сопоставит с найденными своими; не обращай внимания на то, что первые шаги будут неуклюжими («авось выпишется» – фраза Н.Я. Мясковского); не ругай за промахи или неточности, но и не перехваливай, лучше вообще не хвали: хорошо выполненная работа – это норма, а не подвиг, и т. д. Многим педагогам очень трудно следовать такому кодексу (ах, как хочется вмешаться…), но Ф.Е. вполне его выдерживал и исключений не делал.
Надо сказать, что все работы, сделанные мной в институте, включая и дипломную, выполнены на уровне описаний и наблюдений, то есть в манере «Очерков по искусству оркестровки XIX века» Ф.Е. Витачека. Это не результат влияния – книга еще не была напечатана. Несомненно, в 60-е годы он над ней уже работал, но, по своему обыкновению, ни звука не проронил об этом.
Получается, что в институте мы с Ф.Е. занимались историей оркестровки. При поступлении в аспирантуру в 1971 году я попытался склонить Ф.Е. к проблематике теоретической инструментовки при всей условности подобного разделения. Не получилось. Но анализировать и описывать наследие композитора – задача нескольких поколений, поэтому я стал искать (и находить) в партитурах Римского-Корсакова моменты, которые относились к теоретической инструментовке (например, тембровое варьирование на неизменную фактуру), а из «Основ оркестровки» удалось извлечь данные для работы над учением о тембре. И Ф.Е. за мной «пошел» (!), хотя сам в этом направлении не «ходил».
Сейчас мне придется как-то «проскочить» факт ухода из аспирантуры (не от Ф.Е.). Дело прошлое, подробности излишни. А суть, если коротко, в том, что Н.И. Пейко дважды забраковал нашу работу, дважды же не читая моего текста, подписанного Фабием Евгеньевичем, и не придав ни малейшего значения рецензии Г.В. Чернова. Во второй раз Ф.Е. не выдержал и вступился за меня. Видя, что у него начинаются трения с зав. кафедрой, я понял, что такой ценой мне аспирантура не нужна. И тогда я решил, что уйду «с музыкой». Вспомнив, что Н.И. Пейко, листая работу, говорил, что терминология какая-то странная, я спросил его, чью терминологию он бы мне посоветовал. Это был шах. Николай Иванович его не заметил и стал мысленно припоминать, какие книги по оркестровке стоят у него дома. Затем ответил: «Ну, Веприка… еще вот недавно Цуккермана интересная работа по Римскому-Корсакову вышла». Чудесным образом всё было готово для моего ответа: «У меня вся терминология Веприка и Цуккермана». Мхатовскую паузу нарушил мой вопрос: «Можно выйти?» Мне молча кивнули, и я вышел с кафедры и из аспирантуры.
Потом разговор с Ф.Е. «Я ушел потому, что так бы и дальше продолжалось». «Вы правы, – ответил он, и поэтому имели полное право на выбор своего решения».
Из забракованного и условно принятого материала я напечатал три статьи. Одну (самую невозможную) в сборнике ЛГИТМиК (1983) и две в Красноярске в межвузовских сборниках. Когда вышел ленинградский сборник и мне привезли его из Москвы, я в тот же день написал письмо Ф.Е. об этом событии. Вскоре в Красноярск приехала Рузана Карповна Ширинян, которую наш институт вызвал для оказания методической помощи, а на самом деле это я по ней соскучился и заодно хотел показать ей знаменитые красноярские Столбы.
Рузана Карповна сразу же меня спросила: «Боря, вы знаете, что Фабия Евгеньевича не стало?» После оторопи спрашиваю: «Когда?» – «11 сентября». Именно в этот день я и писал ему письмо, что выяснилось, когда оно пришло назад. Его вложил в новый конверт с запиской Николай Иванович Пейко.
Для меня поведение Н.И. Пейко в 1973 году так и осталось загадкой, тем более что лично ко мне он прекрасно относился и даже поставил в пример всему курсу на экзамене по оркестровке. Кроме того, я два года посещал его занятия по оркестровке, будучи поводырем своего незрячего сокурсника Васи Горбатова. И Н.И. два года одобрительно кивал, реагируя на мои подсказки. Даже имя запомнил! Что делать и кто виноват, я знал, но поскольку неясность остается, я бы к этим вопросам присоединил еще один, для завершенности – что это было?
Чтение партитур я проходил у другого педагога, а оркестровку у Ф.Е. Здесь всё случилось молниеносно. Ф.Е. быстро стал усложнять задания, почувствовав, что я готов к такому режиму. После cis-moll’ной прелюдии С. Рахманинова для расширенного состава оркестра Ф.Е. сказал: «Всё, идем на экзамен». И я пошел сдавать экзамен на год раньше срока.
Из этих уроков мне трудно выделить какой-нибудь особенный. Работать было всегда легко и радостно, может быть, поэтому и почти молча. Лишь недавно я узнал, что Ф.Е. закончил Консерваторию за два года, так что мой случай для него сущий пустяк. Что ж, пора переходить к моему обещанному «фотоальбому», и начну я со знакомства.
I
Еду на троллейбусе вечером по улице Герцена. В вагон входит Фабий Евгеньевич, я уже знаю, что это он, и мне надо сказать, что я именно тот Тарасов, который подал заявление в его класс. В вагоне почти никого нет, и водитель, как будто спеша куда-то, несется во весь дух. Среди этого грохота я начинаю разговор, Ф.Е. поддерживает его. Мы буквально кричим друг другу в ухо, но его это ничуть не смущает. Кое-как договариваемся о встрече в институте. Мне почему-то показалось (и правильно показалось), что любой другой не стал бы разговаривать в таких условиях.
II
Пишу курсовую работу по Вагнеру. На одном из уроков Ф.Е. спрашивает, хорошо ли я знаю симфонические фрагменты из других вагнеровских опер. Партитуры «Путешествия Зигфрида по Рейну» у меня до сих пор нет, а «Шелеста леса» в те времена никак не попадалась запись.
Ф.Е. тут же вручил мне партитуры, усадил в кресло и сыграл оба фрагмента, и конечно же наизусть. Понятно, что я бы мог назвать любой фрагмент с тем же результатом. И до этого Ф.Е. в любой момент мог сыграть любое место из любой музыки, затронутой разговором, но в тот день я увидел, что он помнит произведение целиком, а не какие-то его темы или части.
Позднее, когда Ф.Е. играл хорошо мне знакомое, стало окончательно ясно, что он не «наигрывает», что он играет всю фактуру, при этом не морща лоб, мучительно пытаясь вспомнить продолжение. И последнее: это не были заученные наизусть печатные клавиры симфонической музыки. Знание партитуры в соединении с совершенным владением роялем давало так называемое «устное» переложение, которое возникает при мастерском чтении партитур.
III
Профессор А.П. Стогорский встречает Ф.Е. на третьем этаже института в коридоре, возле кабинета Пахтера. А.П. Стогорский: «Здравствуй, Фабий! Ну как жизнь?» Ф.Е. не знает, что ему ответить, смущенно потирает руки:
«Да вот, как-то…» Меня так поразил этот Фабий. Как можно так называть Фабия Евгеньевича? Кто он такой, этот Стогорский? Как он смеет?
IV
По рассказам из первых рук. У Ф.Е. по оркестровке учился композитор из одной из среднеазиатских республик. Парень жил со мной в одной комнате в общежитии. Хороший, веселый мальчик, всем улыбался, но время учебы в Москве использовал процентов на 10–15, что и выяснилось на коллоквиуме на госэкзамене. Когда комиссия устала спрашивать в ожидании ответов, у кого-то родился последний вопрос: «Сыграйте самое начало Пятой симфонии Бетховена». Парень долго думал, прежде чем сыграть ми – ми – ми – до-диез, но придя домой, похвастался: «А все-таки ритм я сыграл правильно».
Ф.Е., занимаясь с ним оркестровкой, конечно, долго не выдерживал. Когда было уже совсем невмоготу, он ставил табурет под форточку, открывал ее и начинал часто дышать свежим воздухом. Особенно эффективно это помогало зимой.
Зато другой приятель открыл для меня неожиданные подробности атмосферы некоторых уроков Ф.Е. Студент не был так безнадежен в оркестровке, как предыдущий. Занятия шли как положено, и ничто не предвещало изменений. Но однажды мой приятель пришел на урок в период, когда летел тополиный пух. Выяснилось, что они оба страдают от этого «нашествия». Оркестровка на это время забывалась напрочь. Их беседа была аналогичной беседе двух ревматиков из известного рассказа О. Генри.
Мой Толя исправно посещал уроки, а Ф.Е. с нетерпением ждал его появления, уже на пороге спрашивая: «Ну как вы сегодня?» При этом проставление зачета в книжке воспринималось как досадная необходимость, мешающая беседе.
V
Курсе на четвертом или третьем я взял из библиотеки Союза композиторов (право пользования устроил Г.И. Литинский) книгу А. Казеллы по истории каданса. Книга была издана на четырех языках – итальянском, немецком, французском и английском. Я мог переводить ее только с английского варианта. Как-то однажды сказал об этом Ф.Е. Он почему-то ухватился за эту идею в плане отчета по специальности как параллельной работы. Но при этом посоветовал все-таки заручиться поддержкой заведующего кафедрой, которым был в ту пору Ф.Г. Арзаманов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































