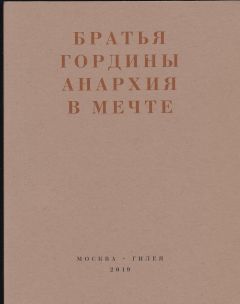
Автор книги: Братья Гордины
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
IX. Пантехнический сад
Мы спустились.
Сад огромных размеров. Он очень своеобразно освещён. Свет падает здесь не то снизу, не то сбоку, не то сверху.
Свет приятный, ласкающий, но сильный, обильный.
Странно, что глаз берёт здесь на очень большом расстоянии, на невероятно огромном расстоянии. Это обстоятельство меня смутило и удивило.
– Вот, вы в пантехническом саду, – сказал человек из страны Анархии.
– Почему он называется пантехническим? – спросил я.
– Потому что здесь представлена в образцах наша техника, все наши изобретения вместе взятые, все наши полезные искусства, ремесла и технические усовершенствования, – сказал человек из страны Анархии.
– Сад чем-нибудь огорожен?
– Нет. У нас всё свободно и беспредельно.
– А если кто-нибудь зайдёт и что-то испортит?
– Здесь у нас так не рассуждают и так не поступают. У нас не портят, а совершенствуют.
– А сколько квадратных вёрст или миль он обнимает?
– У нас другие пространственные единицы.
– А если измерить это нашими милями, то сколько их здесь будет?
– Довольно изрядное количество, – улыбнулся человек из страны Анархии.
– Сколько же?
– Очень много. Но не удивляйтесь, у нас ведь и время другое, и быстрота передвижения иная; у нас сад считается первым по величине.
– Вот как!
– Всё же сколько?
– 50 000 кубических миль!
– Что значит кубических?
– Пантехнический сад имеет три измерения.
– Как это возможно?
– Очень просто. Предметы находятся не только рядом, но и один над другим в воздухе.
– Как же это?
– Ясно, висят.
– Не понимаю.
– Увидите, давайте лучше смотреть, чем говорить и рассуждать.
– Учитесь смотреть и видеть, ибо тут есть много достойного быть виденным, – добавил человек из страны Анархии.
– Но всё же, прежде чем приступить к осмотру сада, я бы хотел узнать одно.
– Спросите!
– Сколько в нём отделений?
– Три главных, – ответил человек из страны Анархии.
– Ещё об одном хочу спросить, – сказал я.
– Спросите!
– Если он таких размеров, то как мы его осмотрим за один день?
– Всего не осмотрим, я хотел вас познакомить с ним вскользь, слегка, насколько возможно.
– Ещё один вопрос.
– Пожалуйста!
– Раз сад находится и в высоте, то как его осмотрим: будем летать над ним и наблюдать?
– Нет, будем ходить по воздуху.
– Как это?
– Очень просто. У нас люди ходят не только по земле, но и по воздуху и по воде.
– Как же это так? вы летаете?!
– Нет. Летать своим порядком, а ходить своим.
– Неужели?
– Странно. Раз умеем летать, почему же нам не уметь ходить вверх, держась под землёй?
– Никак не пойму.
– И понимать нечего. Смотрите.
Тут он поднялся слегка над землёй и стал шагать, всё выше и выше поднимаясь шаг за шагом, наподобие того, как мы подымаемся по лестнице.
– Я всё же ничего не понимаю!
– Зачем понимать. Какой это предрассудок! Какая это нелепость: ходить по земле – явление понятное, ходить по воздуху – вещь непонятная. Ведь суть дела тут не в понимании, а в умении. Мы умеем ходить по воздуху, – сказал человек из страны Анархии, продолжая шагать вверх по воздуху довольно легко, непринуждённо, привычно.
– Странно!
– Ничего странного. У нас и дети ходят по воздуху; раньше учат их ходить вверх, а потом уже по земле. Но это увидите на пятой горе.
– Прекрасно, вы ходите по воздуху, но мы ведь не ходим, то как же пойдём за вами смотреть эти висящие изобретения?
– Я вас сейчас научу, – сказал человек из страны Анархии, спускаясь вниз к земле.
– Как научите?
– Да и учить не надо.
– А что надо?
– Ничего не надо.
– Как же?
– Обуть нашу обувь, – вот что надо.
– Где же её возьмём?
– Я вам принесу.
– А где она находится?
– В наших «складах».
– А где ваши склады, далеко отсюда?
– Нет. Я сейчас же вернусь и принесу вам.
– Нам боязно остаться одним здесь, в пантехническом саду.
– У нас, в стране Анархии, нет боязни и нет страха, здесь никто никого и ничего не боится. Тем более что я сейчас же вернусь, не успеете оглянуться и почувствовать себя в одиночестве, как я уже буду назад. Согласны?
– Согласны.
Он взвился и полетел, держась невысоко над землей. Он исчез. Вновь появился. Стал приближаться. Он опустился. В руке у него были пять маленьких шариков.
– Вот вам ваша обувь.
Он размотал маленький шарик, и получилась тонкая обувь, сотканная из каких-то шёлковых ниток. По форме это напоминало наш чулок.
– Какая тонкая! – удивилась женщина.
– У нас материя очень тонка, ведь она не охраняет, не защищает нас от холода. Она у нас всегда летняя, – смеялся человек из страны Анархии.
– Но такая тонкая! Ведь в сложенном виде она имеет величину горошины.
– Так что же? У нас всё наше платье, когда его складывают, вмещается в скорлупу маленького ореха.
Мы взяли обувь. Но не знали, что с ней делать.
– Снять ли наши ботинки или натянуть эти «чулки» сверх ботинок? – спросили мы.
– Как хотите. Она растяжима.
– Что это за материя? Шёлк, что ли?
– Зовите это шёлком, если вам угодно.
Мы «обулись».
– Теперь идём.
– Пойдём.
Мы попытались подняться. Ноги слушались, тело слушалось, мы стали подыматься.
Сначала я делал усилие, думая, что это хождение по воздуху требует сильного напряжения. Скоро я убедился, что это ни к чему. По воздуху легче ходить, чем по земле.
– Всё же это очень странно, – сказал я.
– Ничего не понимаю, никак не пойму, как я шагаю, – сказал юноша.
– Не понимаю! Почему не падаю вниз, – сказал рабочий.
– Странно! Непонятно, – сказал угнетённый народ.
– В стране Анархии нет ничего непонятного. Поймите наконец, что мир вовсе не должен быть понятным. Вы в новой обуви, но вы всё ещё при старых взглядах и понятиях, – усмехнулся человек из страны Анархии.
– Давайте смотреть и видеть, – провозгласил после маленькой паузы человек из страны Анархии.
– Давайте!
– Мы в отделе летательных аппаратов! Вот все летательные машины наши, от самых неусовершенствованных до самых усовершенствованных.
– Какое огромное неисчислимое множество! – воскликнул рабочий.
– Чему удивляетесь, ведь здесь собраны все наши изобретения, сделанные в этой области.
– А каким образом сюда попал этот экипаж, запряжённый лихой тройкой? – спросила женщина, указывая рукой на висящий в воздухе шестиместный экипаж.
– Это летательный аппарат, сделанный по образцу древних экипажей. Этим забавляются у нас любители древности. Они творят псевдоклассически.
– А зачем эти лошади?
– Экипаж летает и лошадь летает. Каприз изобретателя-псевдоклассика.
– А это что такое? – спросил рабочий, указывая на висящую лошадь.
– Это летающий конь.
– А это? – спросил я.
– Это летающая рыба.
– Как на ней летают?
– Очень просто: садятся на неё и летают вместе с нею.
– А это что такое? – спросил рабочий, указывая рукой на маленький домик, напоминающий сторожевую будку.
– Всё, что вы видите здесь, – это всё летатели.
– А тот большой дом, двухэтажный дом?
– Тоже летатель. На нём летают разом сто, двести человек.
– Неужели такой огромный дом может летать?
– Разве это большой дом! Когда подымаетесь выше, увидите огромнейших размеров здания, и все они – летательные аппараты.
– А зачем вам такие дома, зачем вам крыши, когда у вас дождей нет, как вы нам раньше говорили?
– Это всё жесты творческого гения, воплощённые излишки энергии, изобретательская прихоть.
– А этот корабль?
– Тоже летательный.
– А эта верёвочка? – спросил я, увидя вдруг тонкую верёвку, качающуюся в воздухе.
– Тоже летательная. Здесь всё обладает свойством летания.
– А этот колоссальный цветок с его огромной чашкой?
– Это всё летательные аппараты. Садятся в чашку, и цветок уносит, куда хотят. Он сделан из особого материала, самого прочного и самого лёгкого, он снабжён особым летательным механизмом. Этот цветок открыл у нас новую эру в летательной технике.
– А зачем здесь этот стул?
– Он летательный. Стоит на него сесть, и он взовьётся выше мысли ходячей.
– А этот диван? а эта кровать?
– Все летательные.
– А эта книга? – Я указал рукой на раскрытую книгу, висящую в воздухе.
– Она летает.
– Как же на ней летают-то?
– Очень просто. Садятся на неё, и она уносится. В книге опять особый механизм.
Мы перестали удивляться. Мы перестали спрашивать.
Вот змей чудовищных размеров, должно быть, летательный. А вон маленький стакан. Будто из стекла. Всё так странно классифицировано. Должно быть, не по наружному виду, по форме, а по внутреннему механизму. Всё нумеровано. Вот маленькая, крошечная раковина. А рядом с ней будто целый луг висит в воздухе.
– Зачем вам эта раковина?
– Она летает.
– Разве на ней летать можно?
– Да. Но не на ней, а держа её в руке. Она обладает первой среди всех наших изобретений летательной подымательной силой.
– А этот луг?
– Тоже летает.
– А почему они рядом?
– У них обоих один и тот же механизм, у одного увеличенный, у другой – уменьшенный.
Вдруг я увидел что-то вроде речки: по воде плавают лодочки.
– Что это такое?
– Я же вам говорил, что мы в отделе летательных машин.
– Но как может речка летать?
– Просто. Она вся в бассейне. Бассейн снабжён аппаратом.
– Зачем это вам? Разве вам делать нечего? Разве это нужно? – спросили мы, перебивая друг друга.
– Ведь я вам уже несколько раз говорил, что мы – щедрее, тороватее, расточительнее природы. Зачем природе понадобилось такое множество летающих птиц разных пород, форм, красок и оперений? Мы богаче её, у нас ещё большее разнообразие.
– Но ведь это вовсе не нужно?
– Да, не нужно.
– Так зачем вы это изобретаете?
– Оттого, что нам делать нечего. Тем более что ведь нельзя сказать, что это совершенно бесполезно. Все эти разновидности нам не очень-то, разумеется, необходимы, мы можем ограничиться меньшим количеством машин. Но всё же все полезны. У каждой машины свой полёт, свой ход. Каждая представляет свою особенность, свою прелесть.
X
– А теперь перейдём в плавательный отдел, – сказал человек из страны Анархии.
– Идём, – сказал я, – но тут получаешь такое богатство впечатлений, что отказываешься их воспринимать.
– Какое тут богатство?! – иронизировал человек из страны Анархии, – ведь вы только на первой горе и это первый день.
– Мы притуплены! – сказала женщина. – Слишком много видели. Здесь в течение пяти минут я видела больше, чем за все мои двадцать пять лет.
– Нас здесь окачивает новизна со всей своей остротой неожиданного, невиданного, невероятного, и я, признаться, как бы приутомлён, – сказал юноша.
– Здесь мифы древности гуляют средь бела дня действительности. Здесь мечты, сны преданий воплощены в акты, в факты, в тела, в реальности, – сказал угнетённый народ.
– Здесь теряешься среди технических баснословных возможностей, и думается, что возможное и невозможное слились, сочетались навсегда, – сказал рабочий.
– Здесь Явь оседлает Сон, пришпоривает его, гонит во всю прыть, а он, лихой и резвый, глотает землю и небо, и из-под копыт сыплются искры, зажигаются и гаснут, чтобы вновь разгореться частицей были, частицей настоящей жизни. Сон мчится изо всех сил дикой, буйной, буреносной рысью, но явь его догоняет. Она на его хребте. Сидит да по сторонам посматривает. Вот сон взбесился, пустился вскачь, взвился на дыбы, а явь сидит твёрдо, крепко на нём. Сидит да ещё пуще пришпоривает, поощряет. Сон вот поднялся на гору воображения, перескочив через пропасть иллюзии, – а явь тут как тут. На его спине крепко держится за его во все стороны разметавшуюся гриву. Сон не обуздан, не укрощён. Ему чуждо направление. Ему противны дороги и пути. Вот он носится вихрем, вырвавшимся из клетки времени, сорвавшимся с цепи причинности и законообразности по полям, по нивам, вспаханным плугом Чудесного и засеянным семенами мистики и вдохновения, летит стрелой вечного недовольства, здоровой творческой предутренней тоски и полуденной, ясной, солнечной скорби, летит, мчится, вот его быстрые тонкие ноги отделяются от земли пользы и выгоды, скачок в край грёзы, баснословия, мистерии, чудотворства, но явь, как испытанный ездок, тяжело сидит на нём.
Мы все его слушали, слушали с большим вниманием, стараясь вникнуть в каждое его слово, но, надо правду сказать, плохо понимали.
Говорил он, шагая по чистому, лучезарному воздуху, подымаясь всё выше и выше.
Мы молча следовали за ним, держа ряд в такой последовательности: рабочий, угнетённый народ, женщина, я, юноша.
– Вы хотите отдохнуть, не так ли? – сказал человек из страны Анархии. – Отдохнём, хотя я нисколько не устал. Да вообще не знают устали в нашей стране. Наша жизнь вся – это переход от радости к радости, от увеселения к увеселению, от победы к победе, от развлечения к развлечению, от творчества к творчеству.
– Да, мы немного устали, – сказали все разом.
– Я не то что устал, но хотелось бы на минуту стать и отдать себе хотя бы мимолётный отчёт в том, что видел я кругом, – сказал юноша.
– Я устала, хотя слегка. Кружится голова от вина могущества, – сказала женщина.
– Хорошо! – сказал человек из страны Анархии, – садитесь на ту гору, – он показал нам её рукой, – а я вас оставлю одних, отдохните, при первом же зове я к вам вернусь.
– Прекрасно!
И мы направились к той освещённой, залитой светом, горящей на солнце горе.
– До скорейшего свиданья! – сказал человек из страны Анархии, – как только кликните, я отзовусь и явлюсь.
Он взвился и исчез.
Мы остались одни. Было жутко, боязно, непривычно. Было молитвенно-богомольно на душе. Струнной дрожью, гармоничной дробью билось сердце.
Осязаем чудо. Дышим мифом. Ступаем по сказке, по вымыслу, превращённому волею могущества гения человека в воздух, в вещество.
Мир чудес, бесконечность грёз, ставших жизнью, предметами кругом.
Страх и радость сковывают, охватывают нас.
Мы молчим, подавленные, заглушённые глаголом действительности.
Мы молчим, мы слышим язык действа, слово изобретения, речь чудотворения, глагол естества.
Мы подошли к горе. Она висит в воздухе.
– На чём?
– Почему она не падает?
Вот вопросы, которые нас по старой привычке к обыкновению кололи, язвили, говорили об обманах зрения.
Но ни у кого эти вопросы не оделись в слова и не вышли из мозга гулять по этому лучезарному воздуху, волнуя благодать и тишь всевозможного. Они не смели.
Здесь они, эти вопросы, казались жалкими, ничтожными, размытыми, вымолоченными.
Здесь слову «почему?» не место10.
Оно боится лучей чудотворной техники.
Пусть оно покажется, и первая стрела, пущенная из лука открытия, убьёт его наповал.
И слово «почему» съёжилось, спряталось в тёмном уголке тесного сознания и не показывалось.
А, может, даже притворилось мёртвым, как животные перед лицом великой смертельной опасности.
Притворилось мёртвым во избежание настоящей смерти.
А, может, на деле умерло. Вот оно лежит и не шевелится.
Не дышит.
Умерло «почему?»
Умерла и причинность.
Умерла и законообразность.
Если они пролежат так без сознания, без чувств, без дыхания некоторое время, то я их и похороню на кладбище своего старого воззрения.
Вырою глубокую яму в поле нового сознания и там опущу их холодные трупы. Братская могила. Над ней поставлю крест. На кресте надпись: «Дочери заблуждения».
Мы подошли к горе. Сели все в кружок.
Женщина в центре, в самой середине. А мы, все четверо, по четырём сторонам.
Сидели и молчали.
Слишком много чувств в сердце, слишком много мыслей в голове.
Мысли-пчёлы жужжат, роятся.
Чувства-пчёлы строят шестигранные соты. В сотах мёд, сладость бытия, радость техники.
В мыслях – укус, жало непонимания.
Я присматриваюсь к горе. Гора как гора. Вся она покрыта зеленью, травою, местами растут полевые цветы. Самая настоящая гора. Но висит она в воздухе. Подпирает её ничто. И висит она ни на чём. И притом раз она находится в летательном отделе – значит она и летать умеет.
Мы сидим на горе.
Но разве это гора?
Ведь кто-то её создал, кто-то покрыл травой, усеял цветами, ведь её кто-то творил… Ну, да… А разве наши горы, самые обыкновенные горы не сотворены… Мысль перешла, вошла в материю, в тело.
Я углубился в свои мысли и полумысли, которые кружились в моей голове пыльцою, несомой дуновением недоверия.
Я вошёл в свои чувства и получувства, которые находились под перекрёстным вихрем неустранимости и обманчивости.
«Где грани?» – вопрошало всё моё я.
Где действительность и воображаемость?
Не произошло ли здесь бракосочетание этих двух миров?11
– О чём вы так задумались? – оборвала молчание женщина.
– Обо всём и ни о чём.
– Нельзя здесь ни думать, ни мыслить, – сказал юноша.
– Уж слишком здесь всё непостижимо, – сказал рабочий.
– Никак нельзя понять нашего провожатого, – сказал угнетённый народ.
– Да, – присоединилась к его речи и мысли женщина, – минутами он мне кажется гигантом, вросшим головой в купол небес, и волосы его, как корни, мне так кажется, сосут соки выси, влагу бесконечности, а минутами он кажется пигмеем, ходящим по земле, даже когда он летает.
– У него что-то всё так просто выходит. Он лишён восторга и упоения. Он без удивления, – сказал юноша.
– Но не забудьте, что он вырос в этом мире. Не удивлялись ведь мы бархату наших нежных полей, зеркалам наших невозмутимых, девственных душ и тел. Естеству не удивляются. Здесь чудо есть обыкновение. Диво дивное есть обычность, вседневность.
– Да, но всё здесь непонятно, – сказал рабочий.
– Он, человек из страны Анархии, говорит, что нет непонятного. Что мир есть мир, и всё тут, – сказал юноша.
– Может, мы в действительности сошли с истинного, с верного пути, блуждая по песчаной пустыне осмысления, познания, углубления и мудрствования, мы сошли с пути творца и ударились в узкий тупик толкователя, объяснителя, понимателя.
– Может, – сказал юноша и задумался.
– Человек есть творец, он должен творить мир и разрушить мир, но он по роковой ошибке, по роковому заблуждению бросил своё великое призвание, своё величественное сиятельное назначение и принялся не творить, а осмысливать, охватывать своим умом уже сотворённое, уже созданное, – и он, человек, выродился.
– Да, – сказал глубокомысленно юноша, – его всосала тина рационализма, топь сущности и лжефилософии.
– Человек, забыв, что он женщина, родитель вещей и предметов, вместо того, чтобы произвести на свет божий новую жизнь, слушаясь своих необъятных сил и коренных глубоких влечений, стал изучать старую жизнь. И он остался бездетным, перестал быть женщиной, – сказала, улыбаясь кончиками тонких губ, женщина.
Мы все замолкли.
Я припал лицом к траве, растущей на этой горе изобретения. Я вдохнул запах травы и свежесть зелени полной грудью. Я чуть не поцеловал эту траву, желая хоть бы прикосновением уст слиться воедино с этим растущим, цветущим, живущим чудом – изобретением, детищем великого человека, нашедшего себя, нашедшего своё призвание, своё могущество, своё собственное божество, своё дарование.
Мне стало больно за заблудшего человека, за несчастного пропащего человека, потерявшего своё «себя», и мне стало радостно за истинного человека, за настоящего человека, который нашёл себя.
И слёзы брызнули из моих глаз, слёзы печали о пропаже, о потере человека, и слёзы радости о нахождении человека. Здесь, в этой стране, в технике, в творчестве он себя нашёл.
И слёзы мои орошали траву, растущую на новой земле, на земле искусства, под небом искусства, вспоенную, всхоленную лучами солнца искусства.
А слёзы мои были так неискусственны.
Мои слёзы были трепетной молитвой о воскресении человека из мёртвых, человека-творца – из мёртвых «мыслителей».
– Воспрянь, человек-делатель, и брось камень в человека-мыслителя, который вечно хитрит, лукавит, но ничего не творит! – сказал я сквозь слёзы.
– Как смешны были все те краснобаи, те лжецы, оболгавшие даже истину, действительность, когда они говорили слащаво, медоточиво о боге-человеке, – сказал юноша.
– Чтобы стать богом, человек должен стать человеком действия, творчества и чуда. Он должен стать всемогущим, – сказала женщина.
Мы все умолкли. Ткачиха речи рвала нити, и речь не вязалась.
Безмолвие блеснуло одним, другим лучом слова и снова ушло в себя, укутавшись в густую, глубокую тишь.
Я лёг навзничь. Небо необъятное. Даль безбрежная, уход безрубежный. Беспредельность преломляется в беспредельности и выходит оттуда освежённой, обновлённой, перегранённой.
В море бесконечной синевы и светлости купается, ныряет море бездонности, глубины и вышины.
Два моря, сливаясь, рождают море чистоты и окрыления.
Солнце тихо качается по зыбям, по думам моря, качается, скользит.
Улыбается.
Его улыбка – песнь многокрылая.
Его улыбка – орёл духа и утёс плоти.
Его улыбка – венок лавровых лучей.
За солнцем солнце.
Их пять.
У каждого своя окружность. Своя орбита.
Свой мир. Своя высь. Своя синева. Свои зыби.
Своя улыбка.
Свои лучи.
Первое солнце улыбается по-иному, чем второе. Второе по-другому, чем третье.
Нет повторения в этих небесах, в этой земле.
Нет подражания. Каждое велико в себе.
Каждое живёт своим солнечным я.
Каждое творит свой мир света и счастья.
Но выше всех, краше всех, лучезарней всех, глубже всех, величественней всех – это пятое солнце.
Это уже не солнце.
Это венок солнц и новолуний. Венок капризно-причудливый, как кряжи гор предчувствий, как зигзаги рока счастья, как волны звуков рога влюбления.
Это светящее, пламенеющее, вечно гаснущее и вечно зажигающееся чудо.
От его целебного света слепнешь и становишься зрячим.
Он зноен, как дыхание вакханалии страсти, и прохладен, как звуки свирели вечерней.
Он сын чуда солнца.
Я лежу на спине и душою несусь к этому пятому солнцу, к солнцу солнц, к творчеству.
Я крылюсь, я мчусь, я уношусь, я вьюсь, но падаю вниз, не достигая солнца.
Я слишком тяжёл. Я слишком стар. Может, перерожусь под этими живительными чудодейственными лучами.
Может! Великое слово «может». Но когда оно перестанет быть для меня словом и станет делом, действом!
Любуюсь солнцем. Любуюсь лучами.
Утопаю в бездонности выси, в синей глубине, в голубой бездне, над которой горят шары, пламенеют пять идеалов, пять великих достижений, социальных изобретений.
Я тянусь, я влекусь к этим солнцам… к этой выси творчества.
– Как всё здесь странно. Люди никогда не спят. Люди никогда не умирают, если этого не хотят, – прервала молчание женщина.
– Здесь люди что настоящие боги, – сказал угнетённый народ.
– Ведь так мы мыслили себе богов: они не спят, не дремлют, не умирают, они вечны, – сказал я.
– Вечно творят, – сказал юноша.
– Интересно узнать, есть ли в этой стране забвение или нет его, – сказала женщина.
– Ведь сон, говорили древние, есть одна шестидесятая смерти, и сон они изгнали из этой страны. А забвение ведь есть психологическая смерть. Как с ним обстоит здесь? – сказал угнетённый народ.
– Думаю, что ангелы забвения летают мимо этой страны творческой памяти, – сказал я.
– Тут, думается, нет ничего такого, что было бы недостойно быть запомненным на веки вечные, – сказал юноша.
– Когда человек из страны Анархии вернётся, мы его спросим, – сказала женщина.
– Позовём его, и он явится, – сказал рабочий.
– Он всегда к нашим услугам, так он нам сказал перед своим исчезновением, – сказал я.
– Подождём ещё. Мы не забудем этого вопроса, – сказала женщина.
– Чего ждать? Позовём его, – сказал я.
– Нет. Поговорим ещё между собой.
– Пусть будет по-вашему, – согласился я.
– Он, может, нас подслушивает. Ведь здесь всё возможно! – сказал рабочий.
– Так что же, пусть и слушает. Тем более что вполне допустимо, что здесь умеют читать в мыслях, в сердцах, – сказал юноша.
– Это вероятно, так как у них все предания, мифы осуществлены, а это свойство ведь приписывалось в священных сказках Богу – он знает мысли человека.
– К чему же нам теряться в загадках и догадках? Он придёт и всё нам разъяснит, – сказала женщина.
– Знаете, мне неловко себя на этом уловить, но это так, я порою отношусь к нему с большим недоверием, и кажется мне минутами, что он просто морочит нам голову, – сказал рабочий.
– Нет, к нему нельзя так относиться.
– Он, во всяком случае, заслуживает полнейшего доверия, – сказала горячо женщина.
– Нельзя ведь, на самом деле, сомневаться в том, что видишь глазами.
– Глазам не всегда доверить можно, ведь есть масса случаев обмана зрения, – сказал юноша.
– Но ведь здесь мы многое испытали сами на самом себе, ведь мы ступали по воздуху, по лёгкому, по прозрачному, – сказал угнетённый народ.
– И очень многое мы проверяли осязанием, – сказал я.
– А может, они создали здесь и обман осязания, иллюзию осязания, – сказал юноша.
– Это невероятно. Здесь, в этой стране не создают обманов, а сущие сущности, настоящие реальности, – сказал я.
– Но мы, скажите по совести, ведь никогда не мыслили себе страну Анархию как край осуществлённых чудес, «оявленных» снов, – сказал рабочий, – мы думали, мечтали, стремились в страну Анархию, в которой не будет ни рабов, ни господ, труд будет вольным, наконец, человек будет свободным, народы будут жить как родные братья, в одной семье человечества, женщина будет равноценным членом общества, молодёжь будет сохранять свою творческую свежесть, своё дерзновение и вызов старым ценностям и оценкам культуры, вот тот максимум, который мы вложили в понятие анархии, даже более: мы мыслили страну Анархию как край, свободный от суеверий и религии и науки, как край, из которого изгнаны Бог и Природа, поп и учёный профессор, край, который держится на труде, технике, творчестве, но не более, а тут ведь какие-то чудеса. Какие-то невозможные, немыслимые вещи творятся здесь, это что-то не так, не то, что мы ожидали, – сказал рабочий, глубоко вздохнув, – картина слишком хороша, и поэтому не верю, что она настоящая, действительная, – добавил он с грустью в голосе.
– Боишься, что это сон и тебя ждёт беспощадное пробуждение на пороге утра. Не бойся, за этим сном нет пробуждения. И пробуждение, которое следует за сном действительности, называется, наоборот, вечным сном без сновидений, – сказал я.
– Оставьте, – сказала женщина, – неужели мы все во власти какого-то дивного, чудного сна! Смешно! Да, действительность до этого дня была кошмарным сном. Но это – действительность.
– Осязай, наконец, руками эту гору, встань, посмотри кругом, вон блещут, горят, объяты солнечным, серебряным пламенем пять морей, сыплют искры пять солнц, а ты ещё сомневаешься, – залился молодым звонким смехом юноша.
– И чему ты здесь удивляешься?! Верно, мы себе страны Анархии не рисовали такими яркими красками и такой задорной, неустрашимо-дерзновенной кистью. Но тем не менее всё это вполне естественно. Во-первых, освободили человека, освободили всех пять угнетённых и причастили их к культуре. Во-вторых, сама культура, истинная культура, освободилась от её паразитов и тормозов религии и науки. Человек покончил раз навсегда с ложью, с ложным, мифическим миром науки и веры и отдал всю свою неисчерпаемую энергию технике, пантехнике, возвёл на пьедестал настоящего бога – саму действительность, сам реальный мир. Возвёл в культ, в единственный культ труд, творчество, действо, так что же дивного после этого, если он, как древний бог в преданиях, создал новую землю и новые небеса, – сказал я.
– Всё обыкновенно и естественно в этой искусственной, творческой, пантехнической стране. Здесь воспитывают молодое поколение на действиях, на дерзновениях, на революциях, на победах над предметами, над окружающей средой, и здесь вырастают люди-революционеры, настоящие творцы, – сказал юноша.
– Да, я тоже так думаю, – сказал рабочий, как бы оправдываясь, – но порою всё же кажется мне…
– Смешно, что тебе кажется…
– Да это уже слишком хорошо, и поэтому сказочно, и поэтому невероятно и недействительно.
– Что с тобой! Ведь, собственно, всё, что мы видели в осуществлённом виде, мы знали раньше и даже много веков и, может, тысячелетий, как мечту, как план, как стремление, как желание. Человечество, творя свою мистику, свою каббалу, своё чудотворство, свою идею о Боге, творило её, не как думали ограниченные философы, как метафизическую сложную концепцию, которую они по наивности своей и по недомыслию обрабатывали, углубляли, усовершенствовали, возводя в систему, а творило, создало всё это как подготовительную пантехнику, выдвигая задачи, задавая загадки и ожидая решения от будущих веков. Бог – зенит технических достижений. Человечество было недовольно узкими, ничтожными возможностями и творило в воображении свой простор, свой выход. Всё это – псевдотехника. В стране Анархии перешли к настоящей технике, и Бог перестал быть объектом для философов и поэтов и стал реальным, настоящим человеком, человеком, вооружённым всемогуществом пантехники12.
Увлекаясь речью, я и не заметил, что никто меня уже не слушает. Все смотрели в небо, за чем-то следя. Я последовал их примеру и, вперив глаза в ту точку, которая реяла над нами в высоте, я стал отличать и выделять предмет; может, он спустился и стал виднее, заметнее. Что-то вроде летающей рыбы, а может – кометы. Но скоро всё это исчезло.
– Что это такое было?
– Не знаю.
– Воздушный корабль.
– Мне казалось, что оттуда на нас смотрели, – сказал юноша.
– Может, и смотрели.
– Они-то нас наверно видели, только мы их не видим.
– Надо позвать человека из страны Анархии.
В эту минуту эта точка опять показалась, вот она растёт. Она уже большой шар. Шар превращается в четырёхугольник. Он спускается всё ниже и ниже. Нам страшно стало.
– Это дом!
– Да, это большой многоэтажный дом.
– Шесть этажей.
– Я вижу окна.
– Я вижу балконы.
– Настоящий дом, построенный, как у нас.
– Опасно остаться нам одним здесь, может кто-нибудь опустится…
– Да, спросят, мы ничего не сможем ответить.
– Чего бояться, мы в минуту опасности призовём человека из страны Анархии.
– Я вижу – там люди.
– Там и дети.
– Они уже совсем близки к нам.
– Они смотрят всё время на нас.
– Они, как видно, сигнализируют.
– Дом как бы кружится на одном месте.
– Нет, он опускается ниже.
– Я боюсь, я кликну человека из страны Анархии, – сказала женщина.
– Ну, зовите его, если вам боязно.
– Человек из страны Анархии!!! Явитесь!!!
С левой стороны появилась будто бы маленькая тучка. Она стала опускаться. Вот он перед нами.
– Что случилось? Скучно стало? – спросил человек из страны Анархии.
– Нет, там какой-то дом опускается на нас. Сигнализируют.
Он рассмеялся.
– Они ведь разговаривают с вами, – сказал человек из страны Анархии.
– Как это разговаривают? Почему мы ничего не слышим?!
– Они по нашему телеграфу сносятся с вами.
– По какому телеграфу?!
– По нашему. Они были очень удивлены тем, что вы им не отвечали. Они думали, что вы на них сердитесь, т. е. по-нашему – больны, так как у нас сердитых нет. Поэтому они опустились ниже, и тогда увидели по вашей одежде, что вы не из этой страны. Они очень удивились вашему приходу. Теперь я им всё выяснил. Они извиняются, что вас напрасно перепугали. Все очень извиняются.
– Видите, дом уж улетел, – сказала женщина, обрадованная.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































