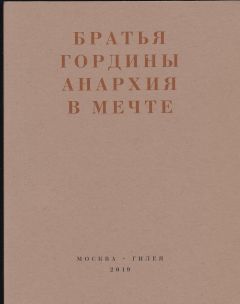
Автор книги: Братья Гордины
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
XIII
– Пойдём в слуховой отдел!
И мы все пошли.
Я уже так привык к тому, что ступаем по воздуху, что шагаем в высоте, в пустом пространстве, что даже не уделяю этому ни малейшей доли внимания.
Это меня так мало удивляет, как передвижение вообще.
Ко всему привыкнешь, – думал я, – даже к воздушному хождению.
– Вот слуховой отдел! – сказал человек из страны Анархии.
Но мы ничего не расслышали. И как странно, я видел, как он шевелит губами, как рот его полуоткрыт, но слов не было слышно.
– Здесь царство вечной тишины, – думал я.
– Что вы говорите? – хотел я его спросить. Но ничего не получилось. Я что-то бормотал, шептал, я, собственно, говорил, как всегда, внятно, ясно, отчётливо отчеканивая каждое слово, я, может, говорил физиологически, фонетически, громче, сильнее, чем всегда, но слова где-то застряли, где-то затерялись и до слуха не доходили. Они остались в воздухе, потонули в этом бесконечном, невозмутимом море, воздухе, не вызывая ни одной волнушки, не рождая ни единой зыби, не производя ни единственной ряби. Ненарушимая тишь царила кругом.
Мне даже жутко стало.
Я стал бояться этого глубокого, как смысл жизни, безмолвия.
Всё немеет кругом, как печать смерти.
Я испугался своей же глухости.
Мне казалось, что со мной что-то случилось.
– Что это может быть? – я спрашивал себя тысячекратно, спрашивал себя в мыслях.
Я посмотрел на остальных наших и на человека из страны Анархии.
У него лицо торжествующее, сияющее, как восход, который рассеивает предутренний туман.
Лицо его ликует победу.
Улыбка пятью радостями играет на его розовых губах, и слышна немая песня довольства.
Глаза его горят смехом тихим, внутренним, глубоким, как задумчивость, отражённая в девственном зеркале девственной души.
– С ним, значит, ничего плохого не случилось, – промелькнула мысль в моей голове.
– И со мной, должно быть, ничего особенного не произошло, а что, неужели он стал бы злорадствовать, смеяться моей беде, моей глухоте? – думал я, и эта мысль принесла мне первую весть успокоения.
Я посмотрел на наших.
Юноша стоит, рот его открыт, как видно, он силится говорить очень громко.
– Неужели хочет он, чтобы я его расслышал? – подумал я.
– Напрасно он рвёт глотку, – я всё равно не слышу ни единого звука.
Женщина стоит и машет неистово руками, шевелит губами.
Вся бледная, как тень забвения.
В глазах её обитает какой-то ужас перед самой собой, какая-то испуганность.
Губы её искривлены – печать недоумения.
– С ней то же самое случилось, что и со мною, или она озабочена, перепугана моим припадком, – подумал я.
Рабочий стоит среди нас и женщины. В глазах его растерянность. Взор его блуждает по бесконечным полям непонятной мысли, в поисках за разгадкой.
Рот его открыт.
Он машет руками, ногами, головой, словом, он покачивается всем своим туловищем.
– Что с ним? – думал я.
– Как странно?!
– Неужели всех нас поразила глухота и немота?! – не мог я уяснить себе случившееся.
А поодаль стоит угнетённый народ.
Он весь одна неподвижность.
Рот его закрыт.
Глаза смотрят вдаль, в точку недоразумения и недоумения.
Губы его стиснуты, как бы скованы силой великой тайны, обдавшей, окружавшей его.
Он олицетворённая озадаченность!
– Что случилось? – думал я.
– Или мы все попались, или они огорчены, убиты моим несчастьем и своим в нём соучастием, сочувствием?
– Теряюсь, ничего не разберёшь. Ничего не поймёшь, – думал я.
– Если с нами со всеми случилась беда, – размышлял я, – то невероятно, прямо невозможно, чтобы человек из страны Анархии, такой наблюдательный всегда, не заметил этого.
– Если же со мной одним стряслось это несчастье, – углубил я свою мысль, – то опять непонятно, почему он, человек из страны Анархии, их не успокаивает, почему они все такие растерянные, обеспокоенные, огорчённые, а он такой невозмутимый.
– Одно из двух, – пряду я дальше свою тонкую мысль, – или он их заразил бы своим спокойствием, или они ему сообщали бы своё беспокойство. Ведь он их слушает и они его слушают и понимают как всегда, как раньше.
– Вероятнее всего, – продолжаю я своё запутанное, туманное размышление, – что со всеми случилось то, что случилось и со мною.
Эта мысль меня немного утешает.
– Общая беда есть полуутеха, – думаю я.
– Тем более, – доканчиваю я свою мысль, – недопустимо, чтобы человек из страны Анархии остался к нашему несчастному положению равнодушным.
– Ведь он всемогущ, – утешает меня мысль, – неужели он не выручит, не поспешит на помощь?!
Я не свожу глаз со всех моих спутников, они же не сводят глаз с меня.
Но лица их и взоры их становятся всё грозней, всё мрачней.
– Грозовая туча рока повисла над наши бедными головушками, – промелькнула мысль.
Человек из страны Анархии, как и прежде, весь прозрачная, переливающая, играющая весёлость.
Печать радости видна на челе его.
Голубочки веселья так и гнездятся в его глазах, воркуют в его зрачке, порхают, ныряют, прилетают и улетают, пишут воздушные круги, волшебные круги беспечности, беззаботности в его светлой улыбке.
А руками он как-то двигает. Верней, не руками, а пальцами рук, которые он держит немного вытянувши напряжённо перед собою.
Казалось мне, что он наигрывает какую-то неведомую песнь на воздушной арфе, струны которой образуют лёгкие ветерки, дрожащие, звучащие беззвучно в этой певучей, немощной тиши.
Я наблюдаю за его пальцами.
Они пляшут, они танцуют пьяный танец пьяного хоровода.
Они весенне кружатся.
Они гоняются друг за другом, они догоняют друг друга, обнимают друг друга, целуют, соприкасаются и расстаются.
Таинство пальцев.
Игра жизни и смерти, и любви – в пальцах.
– Что это означает? – мучила меня мысль.
– Что он выводит пальцами?
– Что он ими пишет по песку воздуха?
– Что он ими чертит на этой поддающейся доске?
А он, человек из страны Анархии, не унимается.
Пальцы его двигаются, шевелятся, вертятся, кружатся, творят, плетут из воздушных венков таинственное значение, волшебные знаки, магические колечки.
Вот он будто бы рисует геометрические фигуры.
– Таинственные символы, – думал я.
То работает одна рука, то другая.
То пальцы правой руки, то левой, а то правой ноги, а то левой.
– Тут происходит что-то необычайное! – решил я.
– Попался я! – и сердце клокочет.
Я весь дрожу.
Меня объял страх.
Я силюсь, я креплюсь.
Ум работает нормально.
– Что случилось? Хочу прервать этот круг невозможного, непонятного, который замыкает меня.
– Надо прервать его! – кричит во мне всё моё существо.
– Я близок к умопомешательству, – кажется мне.
– Я теряю сознание, – сверлит меня последняя мысль.
– Что это? – воплощаюсь весь в одном вопросе.
И этот вопрос так мучителен, так горек, так смертоносен, так неотвязчив.
– В этом мире нет ничего непонятного, – проносятся холодным вихрем в моей голове слова человека из страны Анархии, – но в ту минуту, в тот миг, когда мы стоим перед грозным, непроникаемым, непонятным, мы теряем разум, теряем жизнь, находим один ужас, страх перед происходящим.
Как вырваться из объятий этой безмолвствующей, бессловесной, кругом охватывающей нас тиши? – рождается во мне дерзость мысли.
– Надо выискать средства! – шепчет во мне предприимчивость.
– Надо уйти отсюда! – говорит во мне настойчивость.
В эту минуту подходит ко мне человек из страны Анархии, весь торжествующий, как песнь победы над врагами в истории, весь сияющий, как восход души после омовения в стихотворении.
Он подходит, берёт меня за руку.
От соприкосновения его я весь дрожу.
Дрожу, как струна от соприкосновения смычка и гармонии.
Дрожу всей душой.
Трепещу всем чувством.
Я чую близость спасения и пьянею от запаха его.
Он берёт меня за руку, ведёт в сторону. Я не оказываю никакого сопротивления.
Я иду за ним, иду с ним рядом.
Тут он кивнул и остальным нашим, этим статуям ужаса, и они пошли за нами, пошли, медленно шагая, подталкиваемые желанием избавиться от настоящего, окружающего, медленно, неохотно, боясь встречи худшего, боясь бегства своего и погони за ними несчастья, боясь и места, и времени, и пустоты.
Мы шли.
Я с ним впереди.
Они все четверо, один за другим, вытянувшись в ряд, пресечённый некоторым расстоянием, промежутком, следовали за нами.
Мы шли направо.
Мы шли в гробовой тишине.
Мы шли как к своему собственному гробу, висящему где-то на гранях бытия в беззвучье.
Мы шли как на собственную могилу, поклониться своему праху ума и души.
Мы шли, скованные неведомым, страшным.
Вдруг я услышал прибой волны.
– Звук! Звук! – воскликнул я в душе.
– Да, он коснулся моего уха! – не смела ликовать моя душа.
– Невдалеке бьётся в своих могучих и вольных берегах бесконечное море звуков, – чуял я.
– Моё чувство меня не обманет!
– Иду к звуку!
– Иду к жизни из царства тиши!
– Вот пролетел звук, целая волна звуков и шумов над самым моим ухом.
– Я слышу! – воскликнул я.
– Я слышу! – воскликнули все, один за другим, как только они приблизились к тому месту, на котором я находился с человеком из страны Анархии.
– Как жалко, что я вас не предупредил о том, что в слуховом отделе нам нельзя будет сноситься с помощью слуховых сигналов, сочетаний звуков, слов, а <можно лишь> с помощью зрительных знаков, символов. Я вас не предупредил, и вы не могли со мной сговориться, – сказал человек из страны Анархии.
– Что же было с нами? – спросил я.
– Ничего! Там ничего не слышно, – сказал человек из страны Анархии.
– И с вами было то же самое? – спрашивали мы поочерёдно друг у друга.
– И со мной!
– И со мной!
– И со мной!
– Я чуть ли не потерял сознание со страху! – сказал я.
– Это было мучительно! – сказала женщина.
– Это было непостижимо, – сказал юноша.
– Вдруг ничего не слышишь, никто тебе не отвечает; если бы я знал, что я ничего не слышу, я не пугался бы, – сказал рабочий.
– Я пытался кричать, я не слышал своего собственного голоса! Как страшно лишиться голоса!
– Ужас сковал меня! Я боялся за всех вас, я не знал, что случилось, как будто окунули меня в бездну безмолвия, – сказал угнетённый народ.
– Как смешно! – сказал человек из страны Анархии.
– Было бы смешно, если бы не было печально! – сказал я.
– Вы испугались? Чего?
– Как чего? Вдруг ничего не слышно. Вы стоите, улыбаетесь, как всегда, а кругом испуганные лица, хочешь говорить, говоришь, не отвечают, да и голоса своего, слов своих не слышишь, хотя кричишь что есть мочи.
– Я не предупредил вас. Я думал, что вы умеете говорить на зрительном языке, на языке движений, мимикой.
– Мы не знали, в чём дело!
– Я же говорил с вами, пробовал несколько языков, несколько мимических наречий, но вы ничего не отвечали, – сказал человек из страны Анархии.
– У нас язык мимики не разработан. На нём говорят только глухонемые.
– А у нас все умеют на нём говорить! Вдруг попадёшь в неслуховую среду. Под водой разве говорить можно?! Или при шуме разве можно пользоваться звуком, словом? Там поневоле приходится прибегать для сношений к зрению и зрительным символам.
– У нас говорят мимикой только одни глухонемые, а их язык не развит. Они учатся в школах, и их приучают говорить по-нашему.
– По-вашему! – проиронизировал человек из страны Анархии. – По-вашему значит слуховыми элементами. Этот звуковой язык имеет то удобство, что им можно пользоваться в темноте, а у вас же вечно темно, ваши ночи ведь составляют половину вашей жизни. У нас же темноты нет. И зрительный, видимый язык имеет то свойство, что им можно пользоваться в тиши и при сильных звуках. У вас же тиши не было. У нас язык слуховой хорош в невидимой среде, зрительный язык применяется в неслуховой среде – в тишине. Психический язык – в этих двух средах, когда они пресекаются, сталкиваются. В незрительной и неслуховой среде мы прибегаем для сношений к языку психическому, к психологической сигнализации, – кончил свою несколько туманную для нас речь человек из страны Анархии.
– Что же было с нами? – сказала, полуулыбаясь, женщина.
– Ведь я уж вам объяснил, – сказал человек из страны Анархии.
– Как и чем объяснили?
– «Объяснить» есть одно из величайших заблуждений человеческого ума. Никак не объяснишь явления или мира, потому что объяснять нечего. Явление не требует объяснений, мир выше объяснений, ниже объяснений, вне объяснений.
– Мы ничего не понимаем, – сказали все мы с явной досадой, в которой слышалась беспомощность ума в его борьбе за разум.
– Опять «не понимаем», «понимаем», – рассмеялся добродушно человек из страны Анархии. – Как это вам не надоели эти понимание и непонимание, эти познаваемое и непознаваемое. Ведь от всего этого так и несёт зевотой!
– Где же мы были? – спросил я, желая всё же добиться некоторого объяснения случившегося.
– Мы были в слуховом отделе! – был решительный ответ человека из страны Анархии.
– Почему мы ничего не слышали? – продолжал я его допрашивать.
– Там слух не действует.
– Как это не действует?
– Очень просто. Там нет звуковой, слуховой среды, там звуки не производят никаких «воздушных волн», – я говорю фигурально, выражаясь вашим физическим языком.
– Как это нет волн?
– Нет их и только. «Как» и «почему» – нелепость. Факт. Их нет. Там ничего не слышно. Там нерушимая тишина. Мы и при слухе, как при зрении, исходили из отрицания, разрушения.
– И у вас есть целая область, в которой не слышно ни единого звука? – спросил юноша.
– Да. У нас есть целая неслуховая среда. Ни звука, ни шума, ни шелеста, ни шороха, ни гласа, ни шёпота. Всё немеет.
– Там должно быть жутко! – сказала женщина.
– Нисколько. Там тихо. Там живёт молчание. Там обитает немота.
– Мне было страшно тяжело от отсутствия слуховых раздражений, – сказал я.
– Во-первых, вы попали туда вдруг, не зная, в чём дело, и это слуховое «ничто» вас пугало, дразнило ваше воображение, во-вторых, вы к тишине не привыкли. У вас же люди вечно слышат.
– А как у вас?
– У нас слух, зрение, являются актами воли.
– Как это?14
– Просто уходишь в другую среду. Или создаёшь такую среду вокруг себя.
– Разве приятно «не слышать»? – спросила женщина.
– Мне кажется, что гораздо прельстительней «слышать всё», – сказал юноша.
– Это одно и то же.
– Что вы хотите этим сказать?
– Это две стороны одного и того же явления.
– Ведь это два противоречия, – сказал я.
– Это ничего не значит. Техника не знает противоречий. В тот день, когда нам удалось уничтожить, убить «слух», в тот же день мы воссоздали его вновь, воскресили его из мёртвых.
– Как, вы всё слышите?
– Да, когда мы этого желаем.
– Например?
– Просто. Как при зрении.
– Как, вы слышите на большом расстоянии?
– Мы слышим, улавливаем, воспринимаем звуки на расстоянии бесконечности.
– Неужели это возможно?
– Ведь я вам говорю.
– Как вы этого достигли?
– Как мы достигли всевидения, так мы достигли и всеслышания, – сказал человек из страны Анархии.
– Там вы изобрели особый свет, который делает возможным видеть всё на самом далёком расстоянии.
– А для слуха мы изобрели особый «эфир», который передаёт с быстротою мысли самые малейшие колебания, шевеления, зыби звуков.
– Вот как!
– И вы всё слышите?
– Да. Мы всё слышим. Мы можем слышать десять голосов разом.
– Как это?
– Очень просто. У нас звуки не сливаются.
– Как?
– Опять удивление, опять недоверие, и главное, к чему – к пустякам! – сказал с недовольством человек из страны Анархии.
– У нас, если хотят, то все говорят разом. Всё равно слышим каждого, слышим отчётливо, ясно, чётко15.
– Как странно!
– Нисколько! Каждая сумма звуков, каждое целое получается как единство, не растворяется.
– Ну, хорошо. У вас говорят разом, если хотят, но что толку, всё равно ведь нельзя отвечать всем разом, – сказала женщина.
– В том-то и суть, что мы отвечаем всем разом.
– Как?
– Мы отвечаем всем разом.
– Ведь у вас только один голос!
– Ничуть не бывало. Мы обладаем способностью передавать наши мысли, разные мысли, относящиеся к разным предметам, к разным лицам в один и тот же промежуток времени.
– Это уже совсем невероятно.
– Почему невероятно?! Ведь приписывали одному известному певцу, жившему сто пятьдесят лет тому назад в ваших же странах, свойство петь двумя голосами разом16. Мы же обладаем умением говорить десятью и более голосами и языками за раз.
– На это приходится только пожать плечами, – сказал я, боясь употребить слово «не понимаю».
– Чему вы так удивляетесь?
– Как не удивляться, когда вы говорите такие вещи.
– А почему вы не удивляетесь тому, что вы можете ощупать, осязать несколько предметов разом и отделить, отличить их один от другого? Почему вы не удивляетесь вашему свойству видеть, смотреть на множество предметов разом? И разве вы не слышите за раз и стук часов и шелест листьев, и говор знакомых, и лай собаки на дворе? И разве ваши звуки и ваш голос образуют полное единство, не поддающееся расчленению? Мы пошли дальше на этом пути.
– Но это так невероятно, – сказал я, убавляя недоверчивость.
– Невероятно! Бросьте эти слова, они ни к чему хорошему вас не приведут в этой «вероятнейшей» стране, – сказал, полушутя, человек из страны Анархии.
– Итак, вы слышите всё-всё, все звуки, самые далёкие, самые отдалённые? – спросила женщина, в голосе которой удивление и благоговение перед этим великим чудом, перед этой заманчивой возможностью.
– Да, мы слышим всё. Мы слышим ход звёзд. Мы слышим мотивы сфер. Всё говорит, всё поёт, всё напевает. Небо имеет свои звуки. Небо поёт свои песни. Это не вымысел поэта, это не воображение псалмопевца. Это факт. Бездна поёт. Её песня пьяняща и пеняща, как падение во сне. Горы поют. Слышен вечный трепет звуков. Цветы поют. Камни поют. Скалы поют. Их песня – ода мощи, восхваление силы и покоя. Солнце поёт. Утром оно поёт восход. Вечером оно поёт заход. В полдень оно поёт достижение выси зенита. Оно не заходит, оно у нас вечно восходит. Но поёт оно и песни захода.
– Вы говорите как у нас писали поэты! – сказал юноша.
– Нет. Это не образы, не фигуры. Мы это слышим. Имеющий ухо да слышит песнь бытия, кипящую песнь жизни, гремящую песнь веселья. Мы все её слышим.
– У вас выходит, как у наших поэтов, только у них красивей ещё выходило.
– В том-то и дело, что я вам не поэзию читаю, а описываю вам то, что у нас происходит. И вы услышите эту вечную песнь.
– Когда?
– По истечении пяти дней. Вы, глухонемые, думали, что одни птицы умеют петь. Это ужаснейшее заблуждение. Скалы поют несравненно красивей, гармоничней. Всё поёт, нужно иметь только слух. И слух мы создали, – сказал с гордостью человек из страны Анархии.
– Но ведь это лишь поэтические образы, не так ли? – сказал юноша.
– Нет, у нас всё поёт в буквальном смысле.
– Да, как же??
– Очень просто. Всё поёт и только.
– Неужели скалы поют? – спросила женщина.
– Неужели горы поют? – спросил рабочий.
– Неужели солнце поёт? – спросил я.
– Неужели птички поют? – сказал нам в тон человек из страны Анархии.
– Конечно, поют, – ответил я.
– Да, поют! А спросите глухонемого, что он вам скажет, поют или не поют! – иронизировал над нами человек из страны Анархии.
– На то же он глухонемой! – ответила женщина.
– А чем же вы, простите, не глухонемые?
– Как же мы глухонемые?
– Раз вы не «всё» слышите, значит вы «ничего» не слышите, – сказал человек из страны Анархии. – Вам многие предметы не говорят, для вас весь мир немой, что выше вашего слуха, что ниже вашего слуха, то для вас немеет. Мы же всё слышим. По-вашему только певчие птицы поют, по нашему слуху всё поёт – и рыбы, и камни, и цветы, и травы, и деревья.
– Но как они поют, разве постоянно?
– Да, весь день, всю их жизнь, в течение всего их бытия. Ибо существовать, быть есть петь. Они поют песнь бытия, песнь радости существования.
– Не можете ли нам передать хотя бы малейшее представление об этой песне, – спросил я.
– Это довольно трудно. Как нельзя растолковать слепому, что такое цвета, краски, что такое «белый», «чёрный», так не объяснишь глухонемым, вам, что такое песнь бытия. У нас их песни, песни всего окружающего нас, воспроизводятся, они записаны, зафиксированы нашим «граммофоном». В нашем «театре», где часто ставятся драмы из жизни деревьев, поются арии деревьев, напевы их расцвета, их рождения, их увядания, их смерти, песни их молодости и старости.
Дерево неодинаково поёт. Когда оно молодое, оно по-иному поёт. Когда оно старое, оно по-другому поёт.
Скалы же не так, они всегда одинаково поют. Нет у них молодых песен, нет у них и старых, а есть только песни.
– А можете нам сказать, что вы слышите в песне скалы? – спросил я.
– Могу! Но придётся передать это вам только образно, фигурально, с помощью символов, далёких намёков и приблизительностей. Поймите, что переход от звука к слову заказан. Нет такого моста, который бы был перекинут над этой пропастью, отделяющей два мира выявления, выражения. Нет его и у нас. Но нам он не нужен.
Знайте, ведь мы узнаём каждый предмет по его голосу, по его песне.
Знайте, ведь все предметы индивидуальны, ведь каждый предмет имеет своё я.
Насколько каждая скала есть скала, настолько её песня «скалиста», но насколько она индивидуальна, настолько и её песнь своеобразна, индивидуальна, лична, самобытна.
– Но хотя бы приблизительно, насколько вообще слово может выразить, выявить, раскрыть внутреннюю душу звука, – взмолился я, – сделайте одолжение.
– Возьмём, например, скалу, – сказал человек из страны Анархии, – она обыкновенно поёт о покое. Вся её песнь – это апофеоз недвижения.
– Но как и что она поёт, передайте это словами! – просил я.
– Она поёт приблизительно вот что:
Я вся покой:
Недвижимость – вот жизни дух.
И слово «стой!».
Слов стада пастырь и пастух.
– Передавайте лучше без рифм, без стиха, а то трудно понять.
– Она всё восхваляет недвижение,
И вечно я лежу,
В лежанье смысл, цель бытия.
Удою созерцанья постоянства рыб ужу.
В несмене, в неподвижности, в стоячести моё всё я.
В движенье смерть, тлень, прах;
В движенье сатана, весна, волна…
В переворотах, сменах разрушенья ужас, страх…
А творчество спит вечно тихо, сладко детски на дне сна.
Всегда на месте
Вот символ веры мой.
Дрожжей нет в тесте,
Стою долиной и горой.
Кто устоять умеет, тот герой.
– А прозой не можете нам передать песни скалы?
– Прозой трудно, видите, даже стихом ничего не получается, это жалкий намёк, это умерший отсвет звуковой. Это далеко не та песнь, что поёт скала.
– А как поют горы?
– А как поют ваши солнца?
– А как поёт у вас небо?
– А как поёт у вас трава?
– Видите, это трудно передать, когда обретёте у нас слух, вы сами будете слышать и слушать, тогда поймёте, что за радость, что за блаженство жить в этой стране, слышать её песни, пьянеть от них как от самого лучшего вина, пьянеть и хмелеть и видеть сны, воплощённые напевы.
– А пока? – спросила с тоской женщина.
– Пока перейдём в осязательный отдел. Ваш день близится к концу, навряд ли успеем осмотреть ещё один отдел, а их у нас несколько тысяч.
– Перейдём. Но самый интересный отдел – это слуховой, – сказал юноша.
– Да, но ты можешь это сказать только по отношению к уже виденным нами отделам, а неосмотренное ведь всегда занимательней, интересней осмотренного, – сказал я.
– Да, – согласился со мной юноша.
– Перейдём в осязательный отдел! – сказал человек из страны Анархии.
– Пойдём! – сказали все мы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































