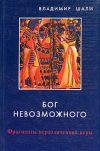Текст книги "Человек-шарада"

Автор книги: Буало-Нарсежак
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Я помогал Мареку, но двигался, как сомнамбула. Симона была не особенно тяжелой. Мы без труда вдвоем погрузили ее в «скорую помощь», а затем я, закончив формальности, стал сочинять хитроумные объяснения преждевременной смерти Симоны. Дело-то не простое. Благо еще, что я располагал неограниченными полномочиями.
Почувствовав, что владею ситуацией, я сразу же сообщил префекту о случившемся.
– Это происшествие носит чисто личный характер, – буквально отрезал он.
Разумеется, назад пути нет. Остается одно – на все закрыть глаза. В счет шел только успех научного эксперимента, что бы там мне ни говорили. Я не настаивал и был уверен, что отныне плохое настроение начальства скажется на мне.
Я позвонил аббату, который очень огорчился, но не особенно удивился.
– Дьявол орудует последовательно, – сказал он. – Теперь вы понимаете, почему Святое Писание учит нас, что плоды с древа познания отравлены?
И этот начал понемножку заговариваться! Мне не от кого услышать здравого суждения! Придется разбираться во всем одному.
После полудня позвонил Марек. Его сообщение казалось таким же холодным и точным, как доклад на ученом совете. Забыл, какие именно термины он употребил. Запомнилась лишь его последняя фраза: «Нерис проведал о случившемся и впал в состояние глубокой депрессии». Я потребовал подробностей, но Марек не сообщил их. Он ограничился замечанием, что Нерис находится под наблюдением, что его преследует страх смерти. По его мнению, самоубийством закончат все подвергшиеся операции. Я чуть было не признался, что подобная мысль уже посещала и меня самого. Но Марека такой малостью не проймешь. Он поручился за здоровье Нериса и попросил меня предпринять все необходимое по части похорон. И тут же повесил трубку, несомненно опасаясь препирательств с моей стороны. И зря. Время протестов миновало. Теперь я оказался в эпицентре катастрофы. Кто следующий? Я вздрогнул. Эрамбль!… Эрамбль, который изничтожит меня своими попреками! Эрамбль, за которым, несомненно, нужен глаз да глаз. У него совершенно такие же причины покончить с собой. Такие же глупые. Такие же надуманные. Но неизвестно, за какой чертой берет начало помутнение рассудка. Я послал ему телеграмму: «Просьба немедленно вернуться. Жду Вас».
На следующий день ни свет ни заря раздался звонок.
– С ней что-нибудь случилось? – суровым голосом спросил Эрамбль.
– Да. Успокойтесь!… Она отравилась.
– Тогда, выходит… ее нога вакантна?.. Я хочу ее, слышите? Она моя!
Последующая неделя оставила у меня самые смутные воспоминания. В тот период я делал лаконичные записи на скорую руку, и сегодня мне трудно в них разобраться. Я как бы пробираюсь на ощупь, восстанавливая логическую последовательность рассказа. Помню, что по просьбе Марека поселился у Эрамбля. Я снова вижу профессора, у которого поубавилось уверенности, когда он просил меня не отходить от Эрамбля ни на шаг. Все мы опасались неблагоразумного поступка, взрыва, шумного заявления со стороны несчастного, который смертельно невзлюбил Марека с тех пор, как тот отказал ему в трансплантации второй ноги Миртиля. «Отказал» – сказано не совсем точно. Такая операция была технически невозможна, поскольку к моменту возвращения Эрамбля в Париж Симона была мертва уже свыше суток. Но, даже если бы Эрамбль не уезжал, профессор не удовлетворил бы его просьбу, что я и пытался целыми днями ему втолковывать… Тщетно!
Он уперся и не желал ничего слушать. Напрасно я объяснял ему, что трансплантация – законная практика лишь в случае крайней необходимости, однако надо ограничить ее применение во избежание нетерпимых злоупотреблений. Эрамбль мне возражал, утверждая, что второй эксперимент, предпринятый из соображений эстетики, напротив, в какой-то мере привлечет еще большее внимание к работам профессора и покажет, что любой орган человека способен жить, независимо от самого тела, предоставляющего ему временное прибежище. Он говорил, что нога Миртиля принадлежит ему по праву. Она повлекла за собой смерть Симоны, так как женщина была для нее не органичным объектом, а вот он сам представит доказательство, что если правильно подобрать реципиента, то можно создать нового человека – более сильного, более уравновешенного. Эрамбль выдвигал и другие аргументы, отличающиеся такой же абсурдной логикой, и это больше всего беспокоило Марека и меня.
К тому же, как все одержимые, Эрамбль не слушал возражений, грозился писать в газеты, воззвать к общественному мнению, обратиться в суд. Надо было дать ему выговориться. Перестав неистовствовать, он успокаивался, извинялся, сам признавал свою неправоту, но при этом впадал в другую крайность и с тревогой спрашивал нас, не заболел ли он неврозом, умолял меня присматривать за ним, пускался в признания, которые было даже неловко выслушивать.
Из-за стеснительности Эрамбль никогда не занимался спортом. Ему была нестерпима мысль, что его увидят в майке или трико, всегда казалось, что над ним насмехаются. Призывная комиссия его забраковала, и Эрамбль вбил себе в голову, что он устроен не совсем так, как другие юноши. А поэтому он должен скрывать свое тело, чтобы не вызывать смеха у окружающих. Управление автомобилем частично вернуло ему уверенность в себе: за рулем виден только торс, и тут все похожи друг на друга. Самый сильный тот, кто обгоняет других.
– Теперь вы понимаете, мсье Гаррик, почему я воспринял ногу Миртиля как подарок судьбы.
Да, я понимал. И старался потихоньку урезонивать Эрамбля, чтобы заставить его смириться с отказом Марека.
Симону похоронили на кладбище Перлашез. Эрамбль на кладбище не поехал – это было бы для него чересчур суровым испытанием, и я остался при нем. Аббат описал мне похоронную церемонию, на которой присутствовала Режина. Нерис не смог покинуть клинику. Гобри и Мусрон не пожелали явиться. Аббат был преисполнен печали. Он видел, что наша небольшая группа поредела не только по велению судьбы, ее разрушало изнутри необъяснимое озлобление.
– Похоже на проклятие, – повторял он. – Как если бы кровь Миртиля пала на наши головы!
– Но вы священник, – говорил я ему, – вы же не собираетесь нас покидать!
– Нет, конечно нет. Нас по-прежнему ждет спасение – всегда, каждую секунду. Мы остаемся свободными в своем выборе.
– Значит, именно это и надо внушать им. Поговорите с ними. Вы пользуетесь у них доверием.
Я спешил провести собрание содружества. Этьен Эрамбль предоставил в наше распоряжение свой дом, и все откликнулись на мой призыв, даже Нерис, которого Марек привез на носилках из клиники, – настолько он все еще был слаб и подавлен. Мы обосновались в гостиной. Аббат усердствовал, искусно изображая оживление. Я сам, угощая печеньем и раздавая наполненные вином бокалы, притворялся если не веселым, то, по крайней мере, не испытывающим опасений. Но холод упорно не развеивался. Гобри, казалось, был где-то далеко от нас, чуждый тем разговорам, которые велись вокруг. Мусрон исподтишка поглядывал на часы. Вот кто изменился больше всех! Он как-то неуловимо преобразился, и его лицо выражало успех так же, как когда-то лицо Жюможа – провал. Жесты Гобри были торопливыми и пренебрежительными, черты лица утончились.
Он похудел и выглядел как атлет в хорошей форме, его зубы блестели, как у хищника. Он был одет с продуманной небрежностью и теперь, сидя в гостиной, скользил по мебели, картинам быстрым, пресыщенным взглядом.
– Ну и чем мы займемся? – спросил он.
С этих слов и начался наш вечер. Привыкший руководить дискуссиями в молодежных кружках, аббат взял слово.
– Мы собрались, – сказал он, – прежде всего для того, чтобы повидаться. Давненько мы не встречались. Я хотел бы поздравить наших друзей – Гобри и Мусрона. Все хорошее, что с ними происходит, нам только приятно.
– Твоя выставка состоится в ближайшее время? – спросил Мусрон.
Он обратился к художнику на «ты» впервые. Гобри стал для Мусрона полезным человеком. Художник оживился.
– Недельки через две, – ответил он.
– И дела идут? – спросил Эрамбль.
Гобри посмотрел на него своими мутными глазами.
– Что значит «идут»? Мне говорят, надо рисовать. Ну я и рисую.
– Мы все придем вас поздравить, – изрек я.
– Лучше будет, если вы у меня что-нибудь купите, – проворчал Гобри.
– А я держусь на плаву, – похвастал Мусрон. – Мне предлагают три контракта, а с началом сезона я буду писать музыку для фильма.
Мы подняли бокалы.
– И это еще не все, – продолжал аббат, – и, поскольку мы выпили за счастье наших друзей, я могу поделиться с вами своими сокровенными мыслями. В конце концов, удачу одних следует рассматривать как благоприятный знак для других. Последнее время беда не обходит нас стороной, и некоторые из присутствующих падают духом…
– Мы все умрем, – сказал Нерис.
– Несомненно, – пошутил аббат. – Каждый в свое время… Но нет ни малейшего основания думать, что это будет завтра. Видите ли, в самоубийстве таится что-то притягательное, и я должен вас предостеречь… Главное, не вздумайте вообразить, что Жюмож и Симона Галлар умерли оттого, что перенесенная нами операция толкнула их на самоубийство. Это ошибочное предположение. Я вас предостерегаю от поисков серьезных доводов в пользу такой мысли. У них были свои причины, как и у нас. Но если бы они попросили у нас помощи, мы смогли бы их спасти. Одиночество порождает отчаяние. Впятером мы еще очень сильны. Так что поверьте мне: при малейшем упадке духа пусть каждый бьет тревогу, извещая об этом других!
– Знаете, – сказал Мусрон. – За меня страшиться нечего. А ты, Гобри, намерен проститься с жизнью?
– Я еще немножко подожду, – ответил Гобри, допивая вино.
– А вы, Нерис? – спросил аббат.
– Будь я не таким усталым, – пробормотал Нерис, – я бы повесился. Но эти покойники меня доконают. Я чувствую, как они приближаются. Думаю, что звери испытывают нечто подобное во время землетрясения.
Эти слова возбудили мое любопытство, и я решил завести с Нерисом длинный разговор – позже, так как сейчас был неподходящий момент для серьезной дискуссии. Мусрон всем своим видом выражал нетерпение, и аббат поспешил закончить свою речь.
– Эрамбль тоже с этим вполне согласен. Что касается меня, я не должен вам напоминать, что христианин не кончает жизнь самоубийством.
– Не считая Иуды, – прошептал Нерис.
– Итак, продолжаем поддерживать контакт и не будем бояться поверять друг другу свои малейшие тревоги. Договорились?
– Договорились, – повторили остальные четверо, шутливо, но с воодушевлением, несмотря ни на что, так как их тронули убедительные слова аббата.
Затем Эрамбль откупорил бутылку шампанского, после чего настоял, чтобы мы отведали искристого розового вина из-под Труа… Настала пора расходиться. Мусрон увел Гобри. Марек увез Нериса. Аббат был явно удовлетворен вечером. А Эрамбль – просто в восторге. Он обрел прежний тонус, потешался над тем, что называл «своими слабостями», и заверил нас, что с нервами у него уже полный порядок. Я рискнул его покинуть, не без некоторого опасения. Но назавтра Этьен позвонил мне и повторил, что чувствует себя очень хорошо – наша дружба сделала для его здоровья больше, чем все таблетки профессора.
Успокоившись, я отправился на могилу Симоны. Из чистого любопытства, признаюсь. Сторож указал мне дорогу. Перед склепом стояла Режина. Я узнал ее еще издали. В моей душе что-то дрогнуло, я ускорил шаг. Похоже, она обрадовалась, завидев меня.
– Я не решилась спросить про вас в день похорон. Вы не болели?
– Я оставался с Эрамблем.
Я смотрел на венки. Одни были от родных и близких – племянников и двоюродных братьев, другие возложила наша группа. Венок Режины тоже был тут, чуть в стороне от всех прочих: «Вечная память».
Режина поспешила прервать молчание.
– Здесь лучше, чем в Пантене. Там все заросло травой.
– Как? Вы продолжаете бывать в Пантене?
– Приходится. Он ждет меня там.
– Послушайте, Режина…
Я увел ее. Мне хотелось бы ей внушить, что ее верность лишена предмета, но она была такой же упрямой, как Эрамбль.
– Значит, если Мусрон умрет или Нерис… Вы так и будете разъезжать от кладбища к кладбищу?
Она не ответила. Я вспомнил: ведь верующие считают естественным посещать церкви, где покоятся разрозненные мощи святых, которых они почитают.
– Извините, – пробормотал я. – Не хотел вас обидеть.
Мы прошлись по тихим аллеям. По небу то проплывали облака, то снова проглядывало солнце, рисуя на мраморных памятниках наши косые и сближенные силуэты.
– Расскажите мне побольше о Миртиле, – попросил я. – Был ли он суеверным? Мне трудно объяснить свою мысль… Верил ли он в предчувствия? Прежде чем что-либо предпринять, относился ли он со вниманием к приметам?.. Знаете, ну, что к счастью, а что к несчастью?
– Он? Конечно нет! Наоборот, он очень тщательно все готовил и ничего не делал на авось.
– А он любил музыку, живопись?
– Нет. Он был человеком дела. Думал только о себе… В первую очередь о себе! Вот почему ваша история о трупе, отписанном медицине, не укладывается у меня в голове. Или же он просто над кем-то посмеялся. Вот это возможно – на это он был способен!
Я остановился у ворот.
– Вы видитесь с Гобри?
– Почти ежедневно. Я навожу у него порядок. В пьяном состоянии он меня еще выносит… Я смотрю, как он рисует… это так странно: рука, принадлежавшая Миртилю, – такая ловкая, когда он разбирал пистолет, теперь движется по полотну неуверенно, как бы ощупью… Я это чувствую… Из-за нее-то я и хожу к Гобри… Когда он спит, я ее трогаю… Раньше она была горячее. Мсье Гаррик, те, кто позволил это, – чудовища!
Она была очень хороша в гневе. Я как бы на себе почувствовал силу ее любви и, смутившись, протянул ей руку.
– Встретимся на вернисаже. Продолжайте присматривать за Гобри. Я был счастлив повидать вас, Режина.
Удивленная и польщенная, она улыбнулась, возможно подыскивая любезное слово. Мне и самому хотелось что-либо добавить. Мы не знали, на какой ноте расстаться, и, оказавшись в катастрофическом положении, вели себя неестественно.
– Еще раз спасибо, – так и не найдясь, сказала она.
Я пошел и был уверен, что она смотрит мне вслед. Я страшно злился на себя, потому что все их страсти – исступление Жюможа, отчаяние Симоны, тщеславие Мусрона, любовь Режины – скрещивались рядом со мной, как траектории снарядов. Кончится тем, что заденет и меня.
Дома меня ждало письмо директора галереи – он назначал мне свидание на послезавтра и хотел со мной поговорить о вернисаже. Очень скоро этот вернисаж стал главным предметом моих забот, так как хотелось помочь Гобри, и Массар поручил мне роль посредника между ним и людьми, к которым не знал подхода. Я предпринял многочисленные шаги. Эрамбль предложил себя в мое распоряжение, что было очень мило с его стороны. Вечерами у нас проходили долгие совещания в предместье Сент-Антуан, после того как служащие галереи расходились по домам и роскошные залы, казалось, ожидали таинственных жильцов. Я всегда немного волновался, пересекая их при слабом и бледном сумеречном освещении. Эрамбль показывал мне вырезки из газет, рассортированные по рубрикам статьи, уложенные в папку, на которой он написал: «Выставка Гобри».
– Он меня заинтересовал, этот славный малый, – заявил Этьен, извлекая коробку сигар. – Прежде всего, Гобри – один из наших! И потом, дорогой мой Гаррик, у меня нюх на такие вещи… Гобри стартует. Значит, нельзя упустить случай. Это хорошее помещение капитала. Я и сам готов взять у него десяток полотен только для того, чтобы поднять цену.
Мы с Эрамблем навестили Гобри. Он трудился с потухшим взором: окурок во рту, бутылка с опрокинутым на нее стаканом под рукой. Все картины походили одна на другую. Они представляли собой некое сочащееся гниение, жирные накаты красок, клейкий пот разлагающейся материи, которая возвращалась на стадию плазмы, – то в виде сгустков крови винного цвета, то слизистые, как медуза. И эти сомнительного вида, студенистые массы были как бы оживлены ферментацией, подспудным кипением, крупинками охлажденного пара. Все это источало влагу и в то же время дымилось. За короткое время Гобри выработал себе вполне индивидуальную манеру письма, весьма далекую от стиля его первых этюдов. Он писал быстро, а его рот судорожно перекашивало выражение презрения. Кисть двигалась по полотну, постоянно спотыкаясь, затем ковырялась в красках, заливавших палитру, и снова бросалась на полотно для того, чтобы нанести серую или грязно-синюю оттеночную линию; или же она скользила сверху вниз, оставляя след, казалось бы, лишенный смысла, но краска – густая, как сок невиданных плодов, – тотчас преображалась в разливающуюся лаву, в сукровицу. В двух шагах позади Гобри стоял Эрамбль, склонив голову и хмуря брови.
– В этом что-то есть, – шептал он мне. – Что производит такой эффект? Несомненно, сочетание красок. Это отвратительно, и это потрясно.
Я посмотрел на него. Этьен не шутил. Он позабыл свои навязчивые идеи и, перестав думать о ноге, складывал в уме цифры. Когда мы уходили, Гобри даже не перевел взгляд с полотна на нас.
– Ему необходима громкая реклама! – вскричал Эрамбль, возбуждение которого усиливалось.
– Положитесь на Массара.
Я повторил свои указания всем и каждому: ни единого лишнего слова журналистам. Гобри попал в автомобильную катастрофу; ему более или менее поправили руку. Такова официальная версия, и ее следовало придерживаться. Зато каждый был волен на свой собственный лад комментировать работу художника, упорствующего в использовании поврежденной руки. Впрочем, борьба мнений приобрела публичный характер еще задолго до момента открытия выставки. Одни критики громогласно заявляли о блефе; другие заговорили о «Вселенной Гобри». Эрамбль потирал руки. Я только и делал, что бегал между выставочным залом, клиникой и своей квартирой. Мне пришлось воевать с Нерисом, который страшился появляться в таком людном месте, где, конечно же, могут оказаться адвокаты, судьи, всякого рода хроникеры. Я решил ему не объяснять необходимость подобного важного психологического экзамена из опасения, что он «уйдет в кусты». Поэтому мне пришлось воззвать к его сердцу: «Мы нужны Гобри… Если он не увидит вас, то подумает, что его бросили на произвол судьбы» – и дальше в таком же духе. И наконец, желая помочь Нерису, я посоветовал ему прийти в защитных очках – тогда, со своей бородой хомутиком, он станет совершенно неузнаваем. Нерис явится только в момент наибольшего стечения посетителей и пробудет с четверть часа с одной-единственной целью – поздравить Гобри. Разумеется, Марек будет рядом, вооруженный медицинскими принадлежностями для оказания неотложной помощи. Несчастный Нерис чувствовал себя потерянным – стоило профессору на миг отлучиться.
Поначалу Марек воспринял идею выхода Нериса в свет не слишком благосклонно; но, узнав, что на вернисаж придет и Режина, сразу согласился со мной. Режина видела Нериса только спящим. Столкнувшись с ним в выставочном зале, она не посмеет сказать ничего такого, что может его взволновать. Присутствие множества людей вокруг смягчит шок. Марек полагал, что после этой встречи Режина перестанет интересоваться Нерисом. Я же пытался убедить себя, что, возможно, так ей будет легче забыть Миртиля.
Словом, когда этот день настал, я был переполнен опасений и надежд. Если все пойдет хорошо, Гобри избавится от своих черных мыслей, Нерис вновь обретет доверие к самому себе, а Режина… Да что там много говорить! В конце концов, Режина – всего лишь девица легкого поведения, сидевшая в тюрьме, тогда как я – сотрудник префектуры! Такой довод был легковесен и не мешал моему увлечению Режиной. Мне безумно хотелось увидеть ее опять, вытравить Миртиля из ее сердца. Вытравить Миртиля! Вот в чем состоит моя миссия! Уже несколько недель я не расставался с этой мыслью. Если вернисаж пройдет успешно, первое очко будет засчитано мне, а не Миртилю. Гобри вновь обретает вкус к жизни, Мусрон одержит триумфальную победу, Эрамбль поуспокоится. Какое облегчение! Я начну думать о себе, о том, чтобы наладить личную жизнь.
Я заехал за Эрамблем. Когда мы прибыли, в выставочном зале уже собрались люди. Массар шепнул нам:
– Дела идут!
Гобри переходил от группы к группе с безразличным выражением лица. Он был тут единственным, кто совсем не обращал внимания на картины. Их было примерно сорок. Они прекрасно смотрелись благодаря искусному освещению, и каждая бросала в толпу немое проклятие, которое сразу же привлекало любопытных, заставляло их отступить на несколько шагов, чтобы расширить поле зрения и ответить на вопрос: кто же все-таки этот Гобри – шутник или наивный человек, больной, бунтовщик, импотент или гений?
Я заметил Режину и, покинув Эрамбля, бросился к ней. Где она научилась одеваться с такой изысканной простотой? Я сделал ей комплимент, и она зарделась от удовольствия. Мы смотрели, как залы галереи заполняет элегантная публика. Среди собравшихся присутствовали более или менее знаменитые люди. Я приветствовал важных особ, называя Режине их имена, с чуточку ребячьей гордостью. Массар представлял самого художника. Устремляясь навстречу новым посетителям, он бросил мне:
– Наша взяла!
Началась толчея, и мы медленно поплыли по течению вместе с толпой, посреди шума, восклицаний, доверительных оценок, перехваченных нашим ухом на ходу: «Невероятно!…», «Мне кажется, возьмись я за кисть – получилось бы не хуже…», «Поговаривают, что он неоднократно пытался отравиться…», «Новое издание „Путешествия на край ночи“ [10Note10
Нашумевший роман французского писателя Ф. Селина.
[Закрыть]]…», «Жалкий тип…», «Вы полагаете, эти картины многого стоят?..» Эрамбль присоединился к нам; он охарактеризовал ситуацию:
– Там говорят, есть ли у него талант, еще неизвестно, но какая экспрессия! Это хороший знак!
В глазах Режины отразился блеск от вспышек блицев.
– Я довольна. Если Гобри ждет успех, то это благодаря Рене.
Я собирался ей ответить, когда неподалеку от нас увидел Марека и Нериса. Режина заметила их одновременно со мной. У нее задрожали руки. Марек поклонился и представил:
– Мсье Нерис… Мадемуазель Режина Мансель. Режина уцепилась за мою руку. Нерис рассеянно поздоровался.
– Я ужасно устал, – объявил он. – Нельзя ли тут где-нибудь присесть?
– Кресла, кажется, расположены в конце галереи, – сказал Марек и увел Нериса.
Режина смотрела, как удаляется лицо Миртиля, не улыбнувшееся ей и уже терявшееся в толпе. Я наклонился к ее уху:
– Как мог бы он вас узнать, Режина? Вспомните, он вас не видел. Ни разу в жизни. Когда вы покупаете дом, интересно ли вам узнать, кто жил тут до вас? Правда, ведь нет?.. Это прежний дом и тем не менее уже другой – ваш!… Нерис живет в новой оболочке, но она уже принадлежит ему. Вы для него – незнакомка.
– Да, – произнесла Режина. – Кажется, я начинаю понимать. Пойдемте отсюда!
Я только этого и ждал. События принимали такой оборот, который меня устраивал. Но, прежде чем уйти, надо было еще поприветствовать Массара и поздравить Гобри.
– Режина, подождите-ка меня минутку… Я только пожму на прощанье несколько рук, и мы поедем ко мне выпить вина.
Я стал пробиваться через толпу. Встретившийся мне Мусрон спросил не без зависти:
– Правду говорят, что ему предложили выставляться в Лондоне?
– Не знаю, не знаю. А где он сам?
Мусрон ответил неопределенным жестом. Я с трудом пробивался во второй зал, где были выставлены лучшие картины художника. Мне удалось прорваться к Массару, который вел конфиденциальный разговор с двумя мужчинами, по виду англосаксами.
– Гобри в моем кабинете, на втором этаже, – подсказал он. – Захотел чуточку передохнуть.
Я двинулся дальше. Аббат помахал мне издали. Он тщетно пытался прорваться ко мне. Я указал ему на конец галереи, затем отважился пройти сквозь группу женщин. Одна из них просто кричала, чтобы ее услышали другие:
– Пикассо превзойден… Он больше никого не интересует!
– А вы решились бы повесить такое в своей гостиной? – возражала другая.
Я дошел до маленькой курительной, где Марек и Нерис болтали в углу. Марек указал мне большим пальцем на потолок.
– Мы видели, как он проходил туда, – уточнил он.
– И у него был довольный вид?
При таком шуме Марек не понял моего вопроса. Аббату удалось выбраться из толпы, и я взял его за руку.
– Я знаю дорогу. Пошли!
Отыскав носовой платок, аббат промокнул лоб.
– Какой неожиданный успех! Вот уж никогда бы не поверил, что подобное возможно… Скажите по чести, это живопись или мокрота?
– Мы это узнаем через два года… Сюда. Я постучал.
– Он не слышит, – сказал аббат. – Слишком шумно.
Я толкнул дверь и остолбенел.
– Святый Боже! – пролепетал аббат.
Гобри лежал у ножки письменного стола. Его левая щека была заляпана красным, как и некоторые из его картин. На ковре валялся револьвер.
– Он себя убил! – сказал я и подобрал с полу, рядом с трупом, лист из альбома. Дрожащая рука начертала: «Бы мне противны».
– Такой же почерк, как у меня, – сказал аббат. – Я тоже так пишу – каракулями.
Он опустился на колени, взял руку покойника и задумался. Я был не в состоянии даже шелохнуться. Гобри тоже сорвался. Все рушилось. А там, внизу, люди только что признали его талант. Нет, это невозможно! Аббат встал.
– Нужно предупредить профессора, – сказал он. – Я вам его пошлю. Нужно предупредить также господина Массара.
Оторопев, я не стал задерживать священника. Гобри принес в кармане этот маленький короткоствольный револьвер, с керосиновыми отблесками на стволе, твердо решив покончить со всем разом. Несомненно, он не пожелал воспользоваться шансом, которым обязан чужой руке, не желал ворованной удачи. На письменном столе лежал контракт. Гобри отказался его подписать в самый последний момент. На этот раз префект, услышав о самоубийстве Гобри, сразу вызвал меня к себе. Я застал его обеспокоенным, недовольным, раздраженным. Он нетерпеливо слушал меня и постоянно перебивал.
– А вы уверены, что никто не видел, как выносили труп?
– Ручаюсь, господин префект. Мы прошли через квартиру Массара и вышли в служебную дверь. Марек его тотчас увез. Мы никого не встретили.
– А что потом?.. Как оповестили приглашенных?
– Господин Массар взял это на себя и просто объявил, что Гобри почувствовал недомогание, конечно, вызванное перевозбуждением, и его увезли в клинику. Все пожелали узнать адрес клиники, но Массар оказался искусным дипломатом. Он нашел подход к журналистам там и любопытствующим. Большая часть людей разошлись. И только в присутствии старых знакомых он решился сказать правду – про самоубийство Гобри.
– Но… какая причина?
– По его словам, Гобри якобы страдал от неизлечимой болезни и предпочел распроститься с жизнью в тот момент, когда она принесла ему наибольшую радость… Мы придумали эту басню вдвоем. Не стану утверждать, что она звучит убедительно, но на меня уже столько всего свалилось, господин префект…
Он пресек мои сетования резким движением руки.
– Ну а как Режина? Ее удовлетворила такая версия?
– Нет. Но, поскольку Режина знает правду, она тоже ищет объяснения.
Префект стукнул кулаком по столу.
– Объяснение! – повторил он. – Вот оно-то нам и требуется… И как можно скорее! В конце концов, согласитесь, Гаррик, за всем этим кроется что-то непостижимое. И вы напрасно стали бы утверждать, что у каждого оперированного имеется…
– Извините, но…
– Знаю, знаю… Я первый говорил, что эти самоубийства никак не связаны с трансплантацией… Так вот, я ошибался. Одно самоубийство – ладно еще. Два самоубийства – куда ни шло. Но три!… Это гораздо больше, нежели совпадение. Так какова же подоплека?
Поскольку я не проронил ни слова в ответ, Андреотти вскипел.
– Ответ на этот вопрос следует дать именно вам, Гаррик. В вашем положении виднее всего общая картина этого дела. У вас же тонкий нюх, черт побери!
Я уже давно ожидал подобных упреков. И воспринял их с невозмутимым спокойствием.
– Двух мнений быть не может, господин префект, – сказал я. – Совершенно очевидно, что Жюмож покончил с собой. Я присутствовал при этом лично. Симона тоже покончила с собой. И Гобри. И если между этими тремя самоубийствами есть связь…
– Само собой, она есть.
– Договорились… В таком случае эту связь нужно искать в самой трансплантации. Вы с этим согласны?
– Говорите… говорите!
– Возможны две гипотезы. Либо наших троих самоубийц травмировала операция, и они внушили себе, что стали ненормальными. Это объяснение психологическое. Либо в каждого оперируемого перешла черта характера Миртиля… Каким-то неведомым образом он передал им свою волю к саморазрушению. Это объяснение медицинское.
Андреотти встал и, заложив руки за спину, проделал несколько шагов. Я бы не возражал, чтобы господин Андреотти, в свою очередь, попал в затруднительное положение, а потому продолжал с чувством злобного удовлетворения:
– По моему мнению, первая гипотеза не подходит к Гобри – у него-то не было никакого основания себя уничтожать. Остается второе.
Префект с трудом сдерживался.
– Вы это серьезно? – спросил он. – Вы сможете отстаивать столь нелепую мысль? Но что означает она, эта воля к самоуничтожению? Как смог бы человек передать через части своего тела нечто нематериальное? То, что рука или нога в течение некоторого времени сохраняет прежние двигательные привычки, – это я еще допускаю. Но то, что в ней обитает желание, воля – нет! Это чистой воды фетишизм и не выдерживает никакой критики. Даже если это и было бы правдой – слышите, Гаррик! – такое объяснение никуда не годится, потому что у Миртиля вовсе не возникало желания покончить с собой. Он хотел загладить свою вину и, следовательно, движимый искренним чувством, решил раскаяться. А раскаяние – это надежда, или же слова ничего не значат. Миртиль не думал себя уничтожить. Он отдал себя науке!
Я попытался было вставить слово, но безуспешно.
– Впрочем, – продолжал он, – почему вы считаете, что у Гобри не могло быть никакой причины для самоубийства? Человек, которому, как бы он ни старался, все равно не удавалось пробиться. И вдруг, рисуя неведомо что, неведомо как, он обретает известность и богатство. По-вашему, этого мало, чтобы вскружить голову человеку и покрепче?.. Он верил в труд, заслуги, талант. И внезапно открывает для себя, что ошибался – в расчет принимаются только карьеризм, блеф и реклама. Такой успех ему претит. Разве же не это написал он перед смертью? Он отказывается подписать контракт, который превратит его в негра, в раба, обязанного рисовать без передышки. Лично я прекрасно понимаю этого человека.
– В таком случае, господин префект, вы выбираете первую гипотезу и незачем искать другого объяснения. Скажем, незадача заключается в том, что пересадка способствовала активизации некоторых злых чувств, уже отравивших существование троих наших оперированных, и будем надеяться, что четверо остальных сохранят душевное равновесие.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.