Текст книги "Проклятые"
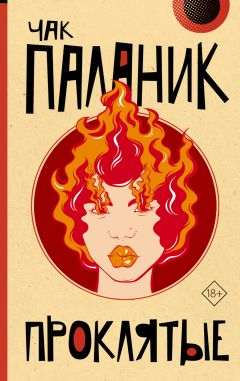
Автор книги: Чак Паланик
Жанр: Контркультура, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Поскольку родители сами вовсю принимали наркотики, рискуя сломать себе мозг, они были уверены, что я должна поступать точно так же. В школе я открывала коробку с обедом, и там вечно лежал сандвич с сыром, пакетик яблочного сока, морковные палочки и перкоцет дозировкой в пятьсот миллиграммов. В моем чулке для рождественских подарков, хотя мы не праздновали Рождество, лежали три апельсина, сахарная мышка, губная гармошка и метаквалон. В моей пасхальной корзине, хотя мы-то не называли это событие Пасхой, не было мармеладных мишек, зато находились комочки гашиша. Мне бы очень хотелось забыть свой двенадцатый день рождения, когда я пыталась разбить пиньяту ручкой от швабры на глазах у моих сверстников и их ностальгирующих родителей, бывших хиппи, бывших растаманов, бывших анархистов. Когда разноцветное папье-маше лопнуло, из пиньяты посыпались не ириски и маленькие шоколадки, а блистеры с викодином, пропоксифеном и перкоцетом, ампулы с амилнитритом, марки ЛСД и разнообразные барбитураты. Разбогатевшие родители, теперь уже среднего возраста, были в экстазе, а мы, дети, огорчились и недоумевали. Как будто нас обманули.
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что очень мало кому из двенадцатилетних ребят понравится вечеринка, где одежда считается необязательной.
Самые жуткие сцены ада кажутся просто смешными по сравнению с тем, как толпа голых взрослых людей ползает по полу и подбирает капсулы с кодеином, хватает добычу, пыхтит и отпихивает других.
И эти люди боялись, что из меня может вырасти мисс Нимфомани Нимфогеймер.
Теперь мы с Арчером и Леонардом плетемся вслед за Бабеттой и Паттерсоном, лавируя между холмами ногтей, срезанных с рук и ног, пробираемся через нагромождения серых тонких обрезков. Кусочки накрашены розовым, красным или синим лаком. Мы шагаем по узким ущельям, по склонам которых стекают тонкие ручейки из ногтей. Эти струйки грозят превратиться в лавину, что погребут нас заживо (заживо?) под обвалом колючего кератина. Над головой пламенеет оранжевый купол неба, вдали – крошечные на таком расстоянии – виднеются клетки, где сидят в вечной мерзости запустения наши товарищи по несчастью, проклятые души.
Леонард продолжает перечислять имена демонов, которые могут нам встретиться: Мевет, иудейский демон смерти; Лилит, похищающая детей; Решев, демон чумы; Азазель, демон пустыни; Астарот… Роберт Мэпплторп… Люцифер… Бегемот…
Впереди Паттерсон и Бабетта поднимаются по пологому склону на холм, закрывающий нам обзор. На вершине они останавливаются. Я замечаю, как напрягается Бабетта. Уж не знаю, что она там увидела, но Бабетта закрывает глаза руками. Отвернувшись от жуткого зрелища, слегка наклоняется, упирается руками в бедра и вытягивает шею, словно ее вот-вот вырвет. Паттерсон оборачивается в нашу сторону и дергает головой, мол, быстрее сюда. Подойдите и гляньте на новое зверство, что поджидает за следующим горизонтом.
Мы с Арчером и Леонардом устало карабкаемся вверх по склону из обрезков ногтей, мягких, как снег или рыхлый песок. Наконец поднимаемся на вершину и встаем рядом с Паттерсоном и Бабеттой на краю крутого обрыва. Буквально в полушаге от нас склон холма резко тянется вниз, а там бурлит море из насекомых, до самого горизонта… жуки, сороконожки, огненные муравьи, уховертки, осы, пауки, личинки, саранча… и все это копошится, постоянно перемещается, как зыбучий песок из клешней, щупиков, членистых ножек, жал, панцирей и зубов… переливчато-темная масса, в основном черная, но испещренная желтыми и зелеными точками – шершнями и кузнечиками. Их непрерывное щелканье и шуршание создает грохот, похожий на шум штормового прибоя в земном океане.
– Круто, да? – восклицает Паттерсон и указывает рукой, держащей шлем, на это бурлящее месиво членистоногого ужаса. – Зацените… море Насекомых.
Глядя вниз, на вздыбленные волны трескучих жуков, Леонард усмехается в праведном негодовании, смешанном с отвращением:
– Пауки – не насекомые.
Не сочтите меня занудой, но я повторю: на дорогих, качественных вещах лучше не экономить. Туфли Бабетты из дешевого пластика уже разваливаются на части, ремешки порвались, подошвы болтаются и просят каши – ее стройные ножки исцарапаны битым стеклом и обрезками ногтей, – а мои прочные мокасины «Басс Уиджен» смотрятся почти как новые даже после долгой прогулки по подземному миру.
Пока мы любуемся на этот корчащийся и жужжащий пудинг из насекомых, откуда-то сзади доносится крик. Между холмами обрезков ногтей к нам бежит запыхавшийся бородатый мужчина в тоге римского сенатора. Вывернув шею, глядя через плечо себе за спину, он мчится к нам и кричит странное слово «Пшеполдница».
– Пшеполдница!
На краю обрыва безумец в тоге на мгновение замирает, тычет дрожащим пальцем назад. Глядя на нас умоляющими, широко распахнутыми глазами, он кричит: «Пшеполдница!» – и, размахивая руками, сигает прямо в бурлящее месиво насекомых, которое сразу же накрывает его с головой. Раз, второй, третий мужчина выныривает на поверхность, пытаясь вдохнуть воздух; его рот забит черными жуками. Пауки и сверчки срывают плоть с его дрыгающихся рук. Уховертки вгрызаются ему в глазницы, многоножки вползают в кровавые рваные дыры, которые сами же и проедают между уже обнажившимися реберными костями.
Мы в ужасе наблюдаем за происходящим, гадая, что могло заставить человека совершить столь экстремальный поступок… а потом все вместе… Бабетта, Паттерсон, Леонард, Арчер и я… мы одновременно оборачиваемся и видим, что к нам, сотрясая шагами пространство, приближается великанская фигура.
VIII
Ты здесь, Сатана? Это я, Мэдисон. Возможно, тебя позабавит, что на нашу компанию напал демон невероятных размеров, и это подвигло одного из нас на удивительный акт героизма и самопожертвования, причем от него-то уж точно такого не ждали. Кроме того, я добавлю еще немного подробностей о своем прошлом, если тебе интересно побольше узнать обо мне как о многогранной, примечательной личности с лишним весом.
Итак, мы стоим у обрыва над морем Насекомых, и к нам приближается великанская фигура. От ее громоподобных шагов содрогаются окружающие холмы, осыпаются пыльными каскадами древних обрезков ногтей. Сама фигура настолько огромная, что мы различаем только ее силуэт на пламенеющем фоне оранжевого неба. Земля сотрясается с такой силой, что наша скала, нависающая над морем Насекомых, буквально ходит ходуном и грозит обвалиться в любую секунду, сбросив нас прямо в бурлящее месиво всепожирающих членистоногих.
Первым заговорил Леонард, прошептав лишь одно слово:
– Пшеполдница.
Даже в столь бедственном положении все ведут себя, как обычно. Бабетта слишком зациклена на себе, ее дешевые модные аксессуары предстают вопиющей метафорой, которую сложно было бы не заметить: эта девушка предпочитает внешнюю привлекательность внутренним качествам. Спортсмен Паттерсон непоколебимо застыл в своих традиционных устоях, для него правила мироздания закрепились еще в раннем детстве и навечно останутся неизменными. В противоположность ему бунтарь Арчер представляется человеком, категорически отвергающим… все на свете. Из всей нашей новой компании лишь Леонард кажется более-менее перспективным в плане развития знакомства. Да, я вновь признаю, что размышления о перспективности – это тоже симптом моей накрепко укоренившейся, неиссякаемой тяги к надежде.
Именно из-за этой надежды вкупе с инстинктом самосохранения я мгновенно срываюсь с места, как только Паттерсон очень медленно надевает на голову свой футбольный шлем и кричит:
– Бежим!
Арчер, Бабетта и он разбегаются в разные стороны, а я стараюсь не отставать от Леонарда.
– Пшеполдница, – говорит он на бегу, взбивая ногами мягкий, податливый слой ногтей. Его руки, согнутые в локтях, дрожат. – В Сербии ее называют «полуденной женщиной-смерчем». – Ручки в кармане рубашки бьются о его тощую грудь. Задыхаясь от бега, Леонард поясняет: – Она сводит людей с ума, отрывает им головы, руки и ноги…
Быстро оглянувшись через плечо, я вижу женщину, которая возвышается над нами, словно торнадо; ее лицо так далеко наверху, что кажется крошечным, – прямо над головой, высоко-высоко, как солнце в полдень. Длинные черные волосы развеваются, как воронка смерча. Она медлит, словно решая, за кем из нас гнаться.
За спиной великанши Бабетта мчится, спотыкаясь на каждом шагу, ее дрянные дешевые туфли соскальзывают и мешают бежать. Паттерсон сгорбил плечи и несется, петляя как заяц, из-под его шипованных бутс летят петушиные хвосты из обрезков ногтей, как будто он ведет мяч через линию защиты, направляясь за линию розыгрыша. Арчер срывает с себя кожаную куртку, отбрасывает ее в сторону и бежит со всех ног, звеня цепью, обмотанной вокруг ботинка.
Демоница садится на корточки и, растопырив огромные пальцы на ширину парашюта, тянет руку к вопящей, спотыкающейся Бабетте.
Конечно, во всей этой панике есть элемент игры; на моих глазах демон Ариман сожрал Паттерсона «живьем», и Паттерсон сразу же регенерировался в себя прежнего – рыжеволосого, сероглазого футболиста, и я понимаю, что второй раз уже не умру. Но все равно как-то не хочется, чтобы меня разорвали на части и съели. Это будет как минимум очень болезненно.
Демоница тянет свою великанскую руку к вопящей Бабетте. Леонард кричит, сложив рупором ладони:
– Падай и зарывайся!
Кстати, вот вам хороший совет: в аду есть проверенная стратегия – если надо спастись от опасности, зарывайтесь в ближайшее доступное… что-нибудь. В аду почти негде спрятаться, никакой флоры здесь нет, за исключением залежей окаменевшей жвачки, ирисок, карамельных батончиков и «снежков» из попкорна, поэтому единственный, более-менее надежный способ укрыться – закопаться во что-нибудь с головой. В данном случае – в обрезки ногтей.
Звучит отвратительно, да. Но вы еще поблагодарите меня за этот совет.
Хотя вы-то уж точно не собирались умирать. Кто угодно, но только не вы. Не зря же вы потратили столько часов на занятия аэробикой!
Но если вы все же умрете и очутитесь в аду, и вас будет преследовать Пшеполдница, делайте, как говорит Леонард: падайте и зарывайтесь.
Я раскапываю руками рыхлую толщу у подножия холма из обрезков ногтей, и при каждом копке на меня сверху обрушивается лавина таких же обрезков, колючих, щекотных, шершавых, будто наждачная бумага, но не сказать чтобы совсем неприятных, а потом они полностью погребают меня под собой. И меня, и Леонарда.
Я мало что помню о собственной смерти, о своей смертной смерти. У мамы тогда выходил новый фильм, папа приобрел очередной контрольный пакет акций, кажется, где-то в Бразилии, и, конечно, они притащили домой еще одного приемного ребенка из… какого-то жуткого места. Моего нового брата звали Горан. Сирота с жестким взглядом под тяжелыми веками и низким лбом, родом из какой-то разрушенной войной деревни в одной из стран бывшего соцлагеря, Горан во младенчестве был лишен тесного физического контакта, необходимого для развития у человека способности к сопереживанию другим людям. С его взглядом змеи и массивной челюстью питбуля он навечно остался надломленным и ущербным, но это лишь добавляло ему привлекательности. В отличие от всех предыдущих братиков и сестричек, ныне распределенных по интернатам и напрочь забытых, Горан, как говорится, запал мне в душу.
Что касается самого Горана, ему хватило одного злобного, хищного взгляда на богатство и весь уклад жизни моих родителей, чтобы преисполниться твердой решимости завоевать мое расположение. Добавим сюда немалый пакетик марихуаны, выданный папой, и мое желание наконец-то попробовать раскуриться этой мерзкой травой – исключительно для того, чтобы сблизиться с Гораном, – вот и все, что я помню об обстоятельствах моего фатального передоза.
Сейчас, лежа в могиле из обрезков ногтей, я слышу стук своего сердца. Слышу собственное дыхание. Как оно вырывается из ноздрей. Да, вне всяких сомнений, только надежда заставляет мое сердце биться, а легкие – качать воздух. Трудно избавиться от старых привычек. Земля надо мной вздымается и трясется под шагами демонической великанши. В уши лезут обрезки ногтей, заглушая крики Бабетты и трескучий грохот моря Насекомых. Я лежу, считаю удары сердца и борюсь с неодолимым желанием нащупать ладонь Леонарда.
В следующее мгновение мои руки оказываются плотно прижатыми к бокам. Ногти врезаются в кожу. Меня хватает великанская лапа, и я поднимаюсь в зловонный от серы воздух, взмываю в пылающее оранжевым цветом небо.
Гигантские пальцы облепили меня, как смирительная рубашка. Они вонзились в рыхлый завал из обрезков ногтей и выхватили меня, как выдергивают из подземной дремоты морковь или редис.
О, боги, может быть, я избалованная и далекая от жизни дочурка богатых и знаменитых родителей, но я все-таки знаю, откуда берется морковь… и откуда берутся дети… хотя и не понимаю, откуда взялся Горан.
С высоты мне видно все: море Насекомых, равнины Битого Стекла, Великий океан зря пролитой спермы, бесконечные ряды клеток, где томятся проклятые души. Подо мной простираются адские просторы, включая демонов всех мастей, которые бродят туда-сюда и пожирают своих незадачливых жертв. В наивысшей точке подъема меня поджидает каньон Влажных Зубов. Ветер жаркого гнилостного дыхания обдает меня вонью похуже, чем было в общественных туалетах в экологическом лагере. В открытой пасти шевелится чудовищный язык, покрытый вкусовыми сосочками размером с мухоморы. Толстые губы лоснятся, огромные, будто тракторные колеса.
Великанша подносит меня ко рту. Я упираюсь обеими руками в ее верхнюю губу, а ногами – в нижнюю. Я как рыбья кость, растопырилась жестко и широко, и меня просто так не проглотишь. Губа под моими руками – на удивление мягкая и приятная на ощупь, словно банкетка в дорогом ресторане, но очень теплая. Словно касаешься кожаной обивки сиденья «ягуара», на котором недавно приехали в Ренн из Парижа.
Лицо демоницы такое огромное, что я вижу лишь рот. Смутно маячат глаза, широченные и гладкие, как стекло, как витрины универмага, только выпуклые, выгнутые наружу. Каждый глаз обрамлен частоколом черных, гигантских ресниц. Еще мне виден кусочек носа размером с небольшой дачный домик с двумя открытыми дверными проемами, затянутыми занавесками из тонких ноздревых волосков.
Рука толкает меня к зубам. Влажный язык тянется к пуговицам моей кофты.
И когда я уже окончательно смиряюсь с уготованной мне участью – меня разжуют и проглотят, а кости выкинут, как скелеты всех куриц отборных мясных пород, которых я съела при жизни, – изо рта великанши вырывается крик. Даже не крик, а сирена воздушной тревоги, бьющая мне прямо в лицо. Мои волосы, щеки, одежда – все развевается, хлопает и трепещет, как флаг в ураган.
Один из моих мокасинов спадает с ноги, летит вниз, кувыркаясь, и оказывается рядом с крошечной фигуркой с вызывающе синим ирокезом на голове. Даже с такой высоты я вижу, что это Арчер, стоящий вплотную к огромной босой ноге великанши. Вытащив из щеки свою большую булавку, Арчер вонзает ее острие в свод стопы демоницы. Вынимает и снова вонзает.
В завязавшейся драке меня то ли роняют, то ли швыряют, то ли все-таки опускают на мягкий ковер из колючих обрезков ногтей. Как только я падаю, меня снова хватают чьи-то руки, на сей раз человеческие, руки Леонарда, и тащат в укрытие под толщей ногтей… Но я все-таки успеваю увидеть, как та же гигантская рука-парашют, поймавшая меня, теперь ловит Арчера, поднимает его и подносит ко рту. Он ругается, брыкается и размахивает булавкой, как саблей, а огромные зубы смыкаются с громким щелчком и срезают его ярко-синюю голову, как гильотиной.
IX
Ты здесь, Сатана? Это я, Мэдисон. Я тебе кое-что расскажу, только пообещай – положи руку на сердце и поклянись, – что НИКОГДА никому не выдашь мой секрет. Я серьезно. Да, знаю, что ты Отец лжи, но мне нужно, чтобы ты поклялся. Если мы хотим строить открытые и честные отношения, ты должен мне гарантировать полную конфиденциальность.
На прошлых зимних каникулах, если вам интересно, я осталась в интернате одна. Разумеется, я сейчас вспоминаю событие из своей прошлой жизни. Для моих мамы с папой Рождество было самым обычным днем, мои одноклассницы все разъехались по лыжным курортам или греческим островам, так что мне пришлось сделать хорошую мину при плохой игре и говорить всем девчонкам, что скоро родители за мной приедут. В тот последний день осеннего семестра общежитие опустело. Столовая закрылась. Учебные классы – тоже. Даже учителя отбыли отдыхать, оставив меня в почти полном одиночестве.
Я сказала «почти», потому что по территории школы бродил ночной сторож или, может быть, даже несколько сторожей. Они проверяли запертые двери и выводили на минимум температуру в отопительных батареях, лучи их фонариков периодически освещали ночной пейзаж, как прожекторы в старом фильме про тюрьму.
Месяцем ранее мои родители усыновили Горана, сироту с угрюмым затравленным взглядом и странным акцентом графа Дракулы. Хотя он был всего на год старше меня, его лоб уже избороздили морщины. Щеки запали. Густые брови Горана казались такими же дикими и непролазными, как лесистые склоны Карпатских гор: спутанные и колючие заросли, в глубине которых, если присмотреться, наверняка разглядишь волчьи стаи, разрушенные замки и сгорбленных цыганок, собирающих хворост. Даже в четырнадцать лет у Горана были такие глаза и такой низкий, глубокий голос, подобный реву туманного горна, как будто он видел, как всю его семью замучили до смерти в соляных шахтах какого-нибудь далекого ГУЛАГа, затравили собаками на плавучих льдинах и забили кожаными плетьми.
Ах, Горан… Никакой Хитклифф, никакой Ретт Батлер не сравнился бы с ним по смуглости лица и грубости нрава. Казалось, он существует во внутренней изоляции, отгородившись от мира какой-то ужасной историей о тяготах и лишениях, и я ему жутко завидовала. Мне так хотелось страдать!
Рядом с Гораном любой взрослый мужчина казался глупым, болтливым и несерьезным. Даже мой папа. Особенно мой папа.
Лежа в постели, одна во всем швейцарском общежитии, рассчитанном на триста девчонок, при температуре, едва достаточной для того, чтобы в трубах не замерзала вода, я представляла Горана. Голубые прожилки вен под прозрачной кожей у него на висках. Непослушные густые волосы, которые не брала ни одна расческа, и они постоянно стояли дыбом, как у студентов, изучающих марксистскую философию за крошечными чашечками горького эспрессо в задымленных кофейнях и только и ждущих удобного случая, чтобы забросить горящую динамитную шашку в открытый парадный автомобиль какого-нибудь австрийского эрцгерцога и разжечь мировую войну.
Пока мои мама с папой представляли беднягу Горана многочисленным репортерам из разных СМИ в Парк-Сити, штат Юта, или в Каннах, или на Венецианском кинофестивале, я пряталась под шестью одеялами и выживала на тайных запасах печенья с инжиром и минеральной воды «Виши» avec gaz[1]1
С газом (фр.). – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть].
Да, это несправедливо, но мне явно досталась лучшая доля.
Мои родители думали, будто я развлекаюсь на какой-нибудь яхте, среди хихикающих подружек. Они считали, что у меня есть подружки. В школе полагали, что родители забрали меня на каникулы к себе. Две чудесных недели я только и делала, что читала сестер Бронте, старалась не попадаться на глаза сторожам и разгуливала по школе голышом.
За все свои тринадцать лет я даже ни разу не спала голой. Конечно, мои родители постоянно ходили в чем мать родила, и не только по дому, но и на привилегированных пляжах Французской Ривьеры или Мальдив, а я всегда ощущала себя слишком плоской в одних местах, слишком толстой в других, чересчур худосочной в третьих, одновременно нескладной и жирной, слишком старой и слишком юной. Но однажды ночью на тех одиноких каникулах, явно нарушив все школьные правила поведения, я стянула с себя ночнушку и улеглась в постель голышом.
Моя мама без всякого стыда и стеснения не раз предлагала мне посетить семинар, посвященный осознанию собственных гениталий и контролю над центрами удовольствия, – обычное сборище знаменитых матерей и дочерей, которые от нечего делать съезжаются в какой-нибудь уединенный грот, сидят на корточках над маленькими зеркальцами и восхищаются бесконечными розовыми настроениями шейки матки, – но это искусственное, натужное раскрепощение, на мой взгляд, отдавало какой-то клинической сухостью. Мне не хотелось такой откровенной и прямолинейной проработки своей сексуальности. Мне хотелось Горана, мне нужен был кто-то загадочный и угрюмый. Пираты и туго затянутые корсеты. Разбойники в масках и похищенные девицы.
На вторую ночь тех одиноких каникул я проснулась от того, что мне захотелось по-маленькому. Туалеты, общие на весь этаж, располагались в конце коридора, но я наверняка находилась в здании одна. Поэтому, в нарушение всех священных школьных правил, я выглянула в коридор, голая и босая. Убедившись, что в коридоре нет сторожа, рванула в туалет по холодному полу и сделала свои дела в тусклом свете луны, проникающем через окна. Было холодно, у меня изо рта вырывались белые облачка пара. На третью ночь я опять посетила туалет голышом, а на обратном пути завернула в комнату отдыха на втором этаже и уселась на прохладный кожаный диван перед выключенным телевизором с экраном как темное зеркало. Мое обнаженное отражение в стекле казалось бледным, не в меру упитанным призраком.
Ах, эти славные дни, когда я еще отражалась в земных зеркалах…
Да, Сатана, я тебя очень прошу. Ты должен поклясться, что никому не расскажешь.
На пятую ночь моих одиноких каникул я уже осмелела настолько, что отправилась голой в химическую лабораторию, сидела за своей партой романских языков и поднималась на невысокий помост в нашей школьной столовой, где обычно находились учителя.
Да, пусть я мертвая и не нравлюсь себе, и у меня явно занижена самооценка, но я прекрасно осознаю, что этот рискованный полуночный эксгибиционизм и моя тяга к Горану – верные признаки пробуждающейся сексуальности. Ночной воздух на коже… на груди и сосках… сама текстура обычных предметов: деревянные парты, ковровые дорожки на лестницах, плиточный пол в коридорах, – все ощущалось гораздо острее и ярче без привычных барьеров из нейлона и шелка. За каждым углом мог притаиться охранник, незнакомый мужчина в форме и начищенных ботинках. Каждого из охранников я представляла с блестящей бляхой и пристегнутым к поясу пистолетом. Наверное, это был чей-то швейцарский папа или добродушный усатый дедушка, но мне виделся Горан. Горан с наручниками наготове. Горан с его задумчивым взглядом за темными стеклами тоталитарных очков. В любую секунду меня мог высветить из темноты луч фонарика, выставляя напоказ те части меня, которые всегда были скрыты от посторонних. Обо мне сообщат, куда следует. Меня исключат. Все об этом узнают.
В своих одиноких блужданиях голышом я заходила в библиотеку и листала пахнувшие кожей книги, стоя босиком на холодном мраморном полу. Плавала без купальника в школьном бассейне. При свете луны я пробиралась в кухню, садилась прямо на бетонный пол и ела шоколадное мороженое, пока не начинала дрожать всем телом от накопившегося внутри холода. Грациозная и бесшумная, будто зверь… воздушная фея… дикарка… я входила в часовню и представала перед алтарем во всей своей жирной красе. На картинах и в статуях Деву Марию обычно изображают в тяжелых одеждах, непременно с вуалью или короной, в россыпи многочисленных драгоценностей. Зато Иисус на портретах часто не носит вообще ничего, кроме колючего тернового венка и крошечной набедренной повязки. Я садилась на переднюю скамью, чувствуя, как мои голые бедра прилипают к отполированному дереву.
Уже на вторую неделю каникул я спала целыми днями, а по ночам бродила по школе голышом. В таком виде я побывала почти во всех комнатах, прошлась по коридорам и паровым тоннелям, заглянула в помещения, где было не заперто; однако я не выходила наружу. За окнами падал снег, покрывая все вокруг и отражая лунный свет. Теперь само здание интерната казалось мне лишней одеждой. Я привыкла спать голой. Я так часто ходила, читала и ела раздетая, что острота ощущений уже притупилась. Даже читая «Навеки твоя Эмбер» с обнаженными сиськами… я больше не чувствовала возбуждения от запретных деяний. На ум приходил лишь единственный способ вернуть ощущение новизны: выйти на улицу без одежды, встать под звездами в вихре снежинок, пройтись по двору, оставляя в сугробах следы босых ног.
Одни девочки, которых я знала, воровали в магазинах, чтобы добиться того же препубертатного кайфа. Другие – врали напропалую или резали себя бритвой.
Да, это несправедливо, но так бывает: вот вы бредете по чистому снегу, по щиколотку утопая в сугробах, окружающих частную школу для девочек в окрестностях Локарно, а спустя всего несколько дней продираетесь сквозь завалы обрезков чужих ногтей, и впереди – только вечные муки в геенне огненной.
Когда я впервые вышла из общежития в снежную ночь, в те рождественские каникулы, которые провела в одиночестве, я сразу же ощутила всей кожей прикосновение каждой снежинки. От холода все волоски встали дыбом, соски затвердели и напряглись, каждый фолликул на руках и ногах превратился в крошечный клитор, каждая клеточка моего тела проснулась и замерла в восхитительном предвкушении. Я шла, вытянув руки перед собой, как ходят мумии, восставшие из своих каменных древнеегипетских гробниц в старых фильмах ужасов. Руки повернуты ладонями вниз, пальцы болтаются, как у чудовища Франкенштейна из того черно-белого фильма от «Юниверсал пикчерс». Это был мой запасной вариант, если мне вдруг придется оправдываться: что я как будто брожу во сне. Моя парасомническая защита. Я уходила все дальше и дальше в падающий снег, в темноту, холодную, как шоколадное мороженое, выставив руки перед собой на манер мультяшных лунатиков, только полностью голая. Под летевшими с неба кристаллами льда я притворялась, будто сплю, однако ощущала себя неспящей как никогда. Каждый мой волосок, каждая клеточка – все звенело, болело, боялось. Полнилось жизнью.
Во мне все трепетало от предвкушения, что меня обнаружат. Я даже хотела разоблачения. Хотела, чтобы меня увидели в самом расцвете моей препубертатной силы, с голой задницей и голой грудью, во всей моей категорически запрещенной законом детско-порнографический прелести, как у Лолиты.
Если бы сторож обнаружил меня, я притворилась бы, что мне стыдно. К тому времени я уже хорошо знала, что значит испытывать стыд и смущение, и мне было бы несложно их изобразить. Если бы сторож схватил меня за руки или накинул мне на плечи плед, чтобы защитить мою детскую скромность, я забилась бы в притворной истерике, утверждая, будто совершенно не представляю, где я и как здесь очутилась. Я сложила бы с себя всю ответственность за свои действия… закосила бы под невинную жертву. За две недели практически полного одиночества что-то во мне изменилось, но я еще не утратила способности притворяться потрясенной, хрупкой и скромной.
Нет, я умерла не так. Я уже говорила, что умерла от передоза марихуаны. Я не замерзла до смерти.
И никакой похотливый, распускающий руки охранник меня не поймал. Вот такая засада.
Вытянув руки перед собой, как лунатик, я ходила по территории школы, собирая снежинки на волосах, пока ноги окончательно не онемели. Затем, испугавшись обморожения и перманентных увечий, побежала к двери общежития. Когда схватилась влажными руками за стальную дверную ручку, мои ладони и пальцы примерзли к металлу. Я потянула, но дверь захлопнулась, когда я выходила, и теперь ее было уже не открыть без ключа. Я осталась голой на морозе, с ладонями, намертво примерзшими к ручке запертой двери, и не могла ни побежать за помощью, ни вернуться в свою безопасную постель, и беспросветная смертоносная ночь обступала меня, осыпая кристаллами льда.
Да, вероятно, я романтичная, мечтательная девчонка предподросткового возраста, но я могу распознать метафору, когда она меня лупит по голове: юная дева, еще только вступившая в пору расцвета, замерзает на пороге между уютным, невинным детством и ледяной пустошью предстоящего полового созревания, жертвенный слой нежной девственной кожи держит ее в плену, бла-бла-бла…
Но нет, дети из богатых семей, отданные в швейцарские школы-интернаты, отличаются хитроумием и смекалкой. Мы все знали, что несколько лет назад одна смышленая ученица украла ключ от общежития – мастер-ключ, подходивший ко всем замкам, – и спрятала его под камнем около главного входа. Если какая-нибудь блудливая мисс Шлюшинда Шлю-Шлю убегает на тайное свидание или выходит во двор выкурить сигаретку, а дверь случайно захлопывается, то девочке можно уже не бояться разоблачения и порицания: надо просто взять ключ, предназначенный именно для таких экстренных случаев, а потом вернуть его на место. Да, такой общий ключ очень удобен, но до него никак не дотянуться, когда твои ладони примерзли к дверной ручке.
Моя мама сказала бы: «Это прямо гамлетовский момент». Что означает: надо хорошенько подумать и определиться, быть иль не быть.
Если я начну кричать и вопить, пока не придет ночной сторож, то буду унижена и опозорена, но жива. Если замерзну насмерть, то сохраню достоинство, но… умру. Возможно, для будущих поколений учениц этой школы я стану фигурой загадочной и легендарной. Моим наследием станет новый свод строгих правил учета воспитанниц. Моим наследием станет история о привидении, которой мои ровесницы будут пугать друг друга после отбоя. Может, я поселюсь здесь в облике голого призрака, он будет являться им в зеркалах, за темными окнами, в дальних концах освещенных луной коридоров. Эти будущие беспризорницы из привилегированной школы станут вызывать мой неупокоенный дух, трижды повторив перед зеркалом: «Мэдди Спенсер… Мэдди Спенсер».
Тоже своего рода власть, однако совершенно бессмысленная и бессильная.
И да, я знаю, что такое «диссоциированное состояние».
Но как бы меня ни влекло это жутковатое готичное бессмертие, я все же решаю позвать охранника.
– Помогите! – кричу я.
– Au sec-ours! [2]2
Помогите! (фр.).
[Закрыть]
– Bitte, helfen sie mir! [3]3
Пожалуйста, помогите мне! (нем.).
[Закрыть]
Снегопад поглощает все звуки, глушит акустику полуночного мира, гасит всякую волну, что могла бы унести мой голос в темную даль.
Мои руки как будто принадлежали кому-то другому. Я смотрела на свои посиневшие голые ноги, но это были чьи-то чужие ноги. Синие, как вены Горана. В стекле на двери отражалось мое лицо, обрамленное морозным узором, созданным моим собственным замерзшим дыханием. Да, мы все представляемся друг другу немного странными и загадочными, но та девчонка в дверном стекле была мне не знакома. Она мне никто. Ее боль не была моей болью. Это мертвая Кэтрин Эрншо заглянула в холодное зимнее окно поместья Грозовой Перевал, бла-бла-бла…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































