Текст книги "Повесть о двух городах"
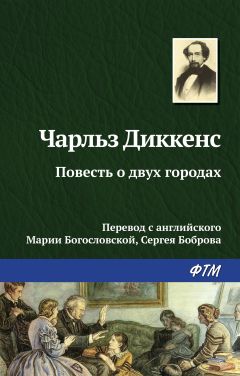
Автор книги: Чарльз Диккенс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Книга вторая
Золотая нить
Глава I
Пять лет спустя
Банкирский дом Теллсона близ Тэмпл-Бара даже в 1780 году уже казался сильно отставшим от времени. Он помещался в очень тесном, очень темном, очень неприглядном и неудобном здании. Оно, несомненно, отстало от времени, – мало того, компаньоны фирмы возвели этот его недостаток чуть ли не в традицию, – они гордились его теснотой и темнотой, гордились его неприглядностью и неудобствами. Они даже хвастали этими заслужившими широкую известность качествами своего дома и с жаром убеждали себя самих, что, не будь у него всех этих недостатков, он бы далеко не был столь респектабелен. И они не только верили в это, – их вера была мощным орудием, которое они, не стесняясь, пускали в ход против более благоустроенных фирм. Банку Теллсона, говорили они, не требуется просторных залов; банку Теллсона не требуется дневного света, банку Теллсона не требуется никаких новшеств. Ноксу и К°, пожалуй, не обойтись без этого, или скажем, Братьям Снукс; но Теллсон! Слава тебе, господи!
Ни один из компаньонов не задумался бы лишить наследства родного сына, ежели бы кто из них посмел заикнуться о перестройке банкирского дома Теллсон. В этом отношении фирма придерживалась примерно тех же правил, что и ее отечество, кое частенько лишало наследства сынов своих, осмелившихся предложить кой-какие усовершенствования тех или иных законов или установлений, давно уже доказавших свою непригодность, – и тем самым именно и упрочивших свою славу незыблемых.
Вот так и банкирский дом Теллсона поддерживал свою славу и гордился незыблемым совершенством своих поистине непревзойденных неудобств.
После того как, рванув изо всех сил, вы одолевали идиотски упрямую дверь, которая вдруг уступала вам с каким-то клохтаньем, похожим на хрипенье умирающего, вы вдруг летели куда-то вниз через две ступеньки и приходили в себя, ввалившись в крошечный тесный закуток, где за двумя маленькими конторками сидели какие-то древние старички; они брали у вас из рук чек, и он тут же начинал трепыхаться, как на сильном ветру, и не переставал ходить ходуном у них в руках, пока они разглядывали подпись у одного из подслеповатых окошек, которые постоянно обдавало фонтанами грязи с Флит-стрит; не говоря уже о том, что свет едва-едва пробивался в них сквозь железные прутья решеток, на них сверх того падала густая тень Тэмплских ворот. Если вам по вашему делу требовалось повидать «самого», вас впихивали в тесный загон за конторками, напоминавший камеру смертников, и там вы могли предаваться размышлениям о загубленной даром жизни, пока перед вами внезапно – во весь рост, руки в карманах – не возникал «сам»; по как бы вы ни щурились, вы не могли разглядеть его в этой зловещей полумгле. Деньги, которые вам выдавали или принимали от вас, хранились в старых, источенных червями выдвижных ящиках, и всякий раз, как эти ящики выдвигали либо задвигали, оттуда столбом поднималась древесная пыль и набивалась вам в нос и в рот. Полученные вами банкноты отдавали гнилью, как будто им уже пора было снова обратиться в тряпье. Принятое от вас на хранение столовое серебро запрятывали в какие-то тайники рядом с выгребными ямами, и от этого дурного соседства оно за какие-нибудь два-три дня тускнело и теряло свой красивый блеск. Ваши денежные документы запирались в самодельные сейфы, приспособленные из кладовых и чуланов, где пергаментные акты, полежав, пропитывались салом и от них шла вонь по всей конторе. Менее тяжеловесные шкатулки с семейными архивами отправляли наверх в зал, где стоял громадный обеденный стол, за которым, как в сказках «Тысяча и одна ночь», никогда нельзя было пообедать и где письма вашей давней возлюбленной и ваших юных деток только в 1780-м году избавились от страшного зрелища выпученных остекленевших глаз, косившихся на них с Тэмплских ворот, на которых с зверской жестокостью, достойной дикарей-каннибалов, выставляли отрубленные головы, насадив их на прутья ограды.
Но, по правде сказать, смертная казнь в те времена была излюбленным средством и к нему прибегали в любой области – будь то ремесло или торговля – и не менее, чем у других, было оно в ходу у банкиров Теллсон. Смерть – это лекарство, коим Природа излечивает все, как же закону не ухватиться за такое средство? Так оно и повелось: всякому, кто подделал подпись, прописывали смерть; подделал банковский билет – смерть; вскрыл чужое письмо – смерть; стащил сорок шиллингов и шесть пенсов – смерть; парнишке, которому дали подержать лошадь у ворот Теллсона, а он взял да и ускакал на ней, – смерть; и фальшивомонетчику тоже смерть. Словом, три четверти всех преступлений, перечисленных в уголовном кодексе, карались смертью. Не то чтобы это оказывало какое-то предупреждающее действие, – нет, действие, можно сказать, получалось как раз обратное! – но в каждом отдельном случае это пресекало недуг по крайней мере в здешнем мире; и после такого леченья больной уже не доставлял никаких хлопот и с ним не приходилось возиться. Итак, банкирский дом Теллсона за время своего существования, подобно некоторым иным, более высоким учреждениям той поры, отправил на тот свет столько народу, что, если бы головы всех тех, кого он послал на плаху, выставить на Тэмплских воротах, они сомкнулись бы таким тесным строем, что совершенно отрезали бы доступ свету в нижний этаж.
Втиснутые в полутемные клетушки и чуланчики, древние старички в банкирской конторе Теллсона степенно вершили дела. Если в лондонской конторе банка принимали на службу молодого человека, его засовывали куда-то в самые недра дома и выдерживали там, как сыр, до тех пор, пока он, созрев, не приобретал истинно теллсоновского вкуса и не покрывался голубоватой плесенью. И только тогда его выпускали на свет и его можно было лицезреть – вооруженный очками, он сидел, уткнувшись в громадные конторские книги, и всем своим солидным обличьем вплоть до коротких штанов с гетрами вполне гармонировал с внушительным видом сего учреждения.
У дверей теллсоновского банка, но отнюдь не внутри (за исключением тех случаев, когда его вызывали для поручений), постоянно околачивался некий субъект, «малый на все руки», исполнявший обязанности то рассыльного, то носильщика и служивший живой вывеской фирмы. Он никогда не отлучался в присутственные часы, если только его куда-нибудь не посылали, а тогда его замещал сын – препротивный сорванец лет двенадцати – вылитый портрет своего папеньки. Всякий понимал, что банкирский дом Теллсона разве что милостиво соизволяет терпеть у своих дверей эту личность на побегушках. Почтенная фирма Теллсона с незапамятных времен терпела какую-нибудь личность на этой роли, и вот так-то однажды случай прибил сюда и этого человека. Фамилия его была Кранчер. В младенчестве, когда его крестили и крестный отец с крестной матерью, держа его над купелью в приходской церкви Песьей Балки, отторгли его от скверны и козней адовых, ему дали имя Джерри.
Итак, действие происходит в собственной квартире мистера Кранчера в тупике Висящего меча в квартале Уайт-фрайерс. Время – половина восьмого утра, ненастный мартовский день, год от рождества Христова, или, как говорят, Anno Domini, 1780-й (сам мистер Кранчер произносил сие не иначе, как Аннино Домино, полагая в простоте душевной, что христианская эра ведет свое начало от широкоизвестной игры, придуманной некоей Анной и посему названной ее именем).
Жилище мистера Кранчера находилось в весьма неаппетитном окружении и состояло всего из двух комнат, – и то, если еще считать за комнату чулан с одним слуховым оконцем. Но они содержались в чистоте и порядке. В это ветреное мартовское утро, несмотря на ранний час, пол в комнате, где почивал хозяин, был тщательно вымыт, а на большом сосновом столе, накрытом безупречно чистой белой скатертью, уже стояли приготовленные для утреннего чаепития чашки и блюдца.
Мистер Кранчер почивал, укрывшись одеялом из пестрых лоскутков, – сущий арлекин на отдыхе. Он спал крепким сном, потом мало-помалу начал просыпаться, заворочался с боку на бок, завозился и, наконец, сел на постели, весь взлохмаченный, волосы торчком, словно острия частокола, об которые того и гляди простыни разорвутся в клочья. Приняв сидячее положение, мистер Кранчер сразу пришел в ярость и заорал не своим голосом:
– Ах, черт побери, опять она за свое взялась!
Опрятная и по виду рачительная женщина, стоявшая на коленях в углу, поспешно поднялась на ноги, показывая всем своим испуганным видом, что это восклицание относилось не к кому иному, как к ней.
– Та-ак! – протянул мистер Кранчер, нагибаясь с кровати за сапогом. – Так ты, значит, опять за свое?
И следом за этим вторым утренним приветствием он, в качестве третьего, запустил в жену сапогом. Сапог был очень грязный, и тут не мешает упомянуть об одном престранном обстоятельстве, постоянно повторявшемся в домашнем обиходе мистера Кранчера: он возвращался со своего обычного дежурства у банка в совершенно чистых сапогах, а наутро, когда он просыпался, они оказывались снизу доверху в глине.
– Ах, вот как! – зарычал мистер Кранчер, промахнувшись. – Опять ты не в свое дело суешься, зануда ты этакая!
– Да я только помолилась.
– Помолилась! Скажите какая усердная! С чего это тебе вздумалось наземь бухаться и молиться мне наперекор?
– Я не наперекор. Я за тебя молюсь.
– Все врешь! А если и так, все равно, кто тебе это позволил? Видал, Джерри, сынок, какая у тебя усердная маменька! Опять ей приспичило Богу молиться, и все наперекор твоему отцу, чтобы не было ему ни в чем удачи! Заботливая у тебя мамаша, сынок! Этакая, не приведи бог, святоша: чуть что – на колени, и ну Бога молить, чтобы у единственного сына кусок хлеба с маслом изо рта вырвали!
Кранчер-младший (еще в одной рубашке) отнесся к этому весьма неодобрительно и накинулся на мать с попреками за то, что она своими молитвами хочет лишить его пропитанья.
– И с чего это ты вообразила, дура спесивая, – безо всякой последовательности продолжал мистер Кранчер, – будто эти твои молитвы чего-то стоят? А ну, скажи-ка, чего они стоят, какова им, по-твоему, цена?
– Мои молитвы от сердца идут, Джерри, в этом и вся их цена.
– Да, вот и вся их цена, – повторил мистер Кранчер, – что и говорить, цена не велика! Ну, так или не так, но чтобы у меня этого больше не было, я тебе раз навсегда запрещаю молиться мне наперекор. Мне это не по карману. Не желаю я из-за твоего кляузничества в дураках сидеть. А ежели тебе непременно надо бухаться головой об пол, бухайся так, чтобы сыну и мужу польза была, а не вред. Будь у меня не такая зловредная жена, а у парнишки не такая зловредная мать, я бы на прошлой неделе хапнул деньжонок, да вот, поди-ка, ей вместо того втемяшилось молиться мне наперекор, и так это она мне своими кляузными молитвами поперек дороги стала, что все у меня мимо рук уплыло, все прахом пошло. Вот так оно и выходит, черт побери, – сердито говорил мистер Кранчер, не переставая в то же время заниматься своим туалетом, – у меня от этого ее богоугодничества всю неделю то одно, то другое срывается! Бьешься изо всех сил, – и все мимо! Ну, что делать бедному честному труженику, коли ему так не везет? Одевайся поскорей, Джерри, сынок, да пока я пойду чистить сапоги, приглядывай тут за матерью: как увидишь, что она норовит опять бухнуться, кликни меня сейчас же! А ты смотри у меня, – обратился он к жене, – я больше этого не потерплю, чтобы ты мне палки в колеса совала. Я, можно сказать, еле на ногах держусь, качает меня из стороны в сторону, как старую карету извозчичью, глаз не продеру, точно меня сонным зельем опоили, и руки и ноги как не мои, совсем отнялись, – а что толку? Прибавилось у меня хоть что-нибудь в кармане? Ни черта! И я сильно подозреваю, что это все твои козни, потому как ты с утра до ночи только о том и хлопочешь, чтобы у меня все мимо кармана шло. Так вот, я больше этого не допущу, язва ты этакая! Слышишь, что я тебе говорю? Не допущу!
И, не переставая бросать в сторону жены язвительные замечания, вроде: «Как же, она у нас святоша! Разве она позволит себе совать палки в колеса мужу и сынишке! Нет, нет, кто-кто – только не она!» – и источать на нее яд своего негодования, мистер Кранчер принялся чистить сапоги и приводить в готовность свою особу для отправления служебных обязанностей. Между тем его сынок, на голове которого красовались те же, только не совсем окрепшие колючки, а юные очи были так же близко сдвинуты, как и у папаши, зорко следил за своей маменькой. Он то и дело пугал несчастную женщину, выскакивая полуодетый из своего спального чулана, и грозно окликал: «Вы что, опять бухаться, маменька! А вот я сейчас, – папаша!» – и, подняв таким образом ложную тревогу, весьма непочтительно ухмылялся и снова исчезал у себя в конуре.
Раздражение мистера Кранчера отнюдь не улеглось, когда он сел завтракать. Он яростно набросился на жену, когда она вздумала прочесть молитву перед едой:
– Это еще что такое? Опять ты за свое, язва? Мало тебе?
Жена попыталась было объяснить, что она только хотела прочесть молитву перед трапезой.
– Не смей! – рявкнул мистер Кранчер, недоверчиво поглядев кругом, словно опасаясь, что молитвами его супруги хлеб на столе сгинет или превратится Б ничто. – Не позволю я, чтобы меня из дома вон вымаливали, чтобы я без крова остался. Не желаю я из-за твоих молитв без куска хлеба сидеть. Заткнись!
Угрюмый, насупившийся, с красными воспаленными глазами, Джерри Кранчер сидел за столом с таким видом, как будто он провел бессонную ночь в компании, которая собралась отнюдь не для того, чтобы попировать. Он не ел, а пожирал свой завтрак, раздирая еду зубами, огрызаясь и рыча, словно четвероногий хищник в зверинце. Однако к девяти часам он кое-как привел в порядок свою взъерошенную личность и, умудрившись даже придать себе более или менее солидный и деловой вид, насколько, конечно, допускала его природа, отправился на свою дневную работу.
Вряд ли это можно было назвать работой, хоть он и имел обыкновение рекомендовать себя «честным ремесленником». Весь его рабочий инвентарь заключался в деревянном табурете, сделанном из стула со сломанной спинкой. Этот табурет Джерри-младший, шагавший рядом с отцом, доставлял каждое утро к банку Теллсона и водружал под крайним окном, поближе к Тэмплским воротам: и тут человек на побегушках и окапывался на весь день, снабдив себя из первой же едущей мимо телеги охапкой соломы под ноги, чтобы уберечь их от холода и сырости. На этом своем посту мистер Кранчер был известен на весь Тэмпл и Флит-стрит не меньше, чем Тэмплские ворота, да и выглядел он, пожалуй, столь же зловеще.
Устроившись на своем табурете без четверти девять, как раз вовремя, чтобы приветствовать почтительным приложением руки к своей треугольной шляпе древних старичков, шествующих в контору банка, Джерри в это ненастное мартовское утро приступил к дежурству вместе с Джерри-младшим, который время от времени срывался с места и летел сломя голову в ворота, чтобы нанести возможно более чувствительный телесный или нравственный ущерб проходившим здесь ребятишкам, выбирая для этой благой цели самых что ни на есть щуплых и маленьких. Отец и сын, удивительно похожие друг на друга, сдвинув головы так же близко, как близко были посажены один к другому глаза у обоих, молча поглядывали на утреннюю суету на Флит-стрит и ужасно напоминали пару обезьян. Это сходство увеличивалось еще тем случайным обстоятельством, что Джерри-старший все время покусывал и выплевывал соломинку, а бегающие глазки Джерри-младшего следили за ним с беспокойным любопытством, как, впрочем, и за всем, что происходило на Флит-стрит.
В приотворившуюся дверь конторы высунулась голова одного из банковских курьеров и раздался окрик:
– Посыльный, сюда!
– Ура, папаша! Сегодня с раннего утра клюнуло!
Проводив таким напутствием своего родителя, юный Джерри уселся на его место на табурет и принялся с интересом разглядывать изжеванную отцом соломинку, размышляя вслух.
– Вся-то в ржавчине! Все пальцы у него всегда в ржавчине, – бормотал Джерри-младший. – И откуда это к папаше пристает ржавчина? Здесь кругом и в помине нет ржавого железа!
Глава II
Зрелище
– Вы, конечно, хорошо знаете Олд-Бейли? – обратился к рассыльному Джерри один из самых древних клерков.
– Д-да, сэр, – несколько замявшись, отвечал Джерри, – Бейли я знаю.
– Так, так. И мистера Лорри вы знаете.
– Мистера Лорри, сэр, я знаю много лучше, нежели Бейли. Много лучше, нежели мне, как честному ремесленнику, желательно знать Бейли, – поспешил добавить Джерри не совсем уверенным тоном свидетеля, дающего показания в этом самом Бейли.
– Отлично. Разыщите там вход, через который пропускают свидетелей, и отдайте сторожу вот эту записку к мистеру Лорри. Он вас пропустит.
– Как, в суд, сэр?
– Да, в суд.
Глаза мистера Кранчера как будто еще больше пододвинулись один к другому, словно спрашивая друг у друга: «Что, брат, ты на это скажешь?»
Он дал им посовещаться и, помолчав, спросил:
– А мне, что же, значит, дожидаться в суде?
– Сейчас объясню. Сторож передаст записку мистеру Лорри, а вы как-нибудь постарайтесь привлечь внимание мистера Лорри, – ну, подайте ему как-нибудь знак рукой, чтобы он знал, где вас найти. И больше от вас ничего не требуется, оставайтесь в зале, пока он вас не позовет.
– И это все, сэр?
– Все. Ему нужен посыльный, и чтобы был под рукой. Из этой записки он узнает, что вы там.
Пока старичок медленно складывал записку и надписывал ее, мистер Кранчер молча наблюдал за ним, и только когда тот уже взялся за песочницу, спросил:
– А сегодня в суде что разбирают, дело о подлоге?
– Измена.
– К четвертованию присудят, – сказал Джерри. – Лютая казнь!
– Таков закон, – промолвил старичок, вскидывая на него с изумлением свои очки, – таков закон.
– Жестокий это закон – человека на куски растерзать. Убить и то жестоко. А уж растерзать на куски – страсть какая жестокость, сэр.
– Никакая не жестокость, – возразил старичок. – О законе надлежит говорить с уважением. Вы позаботьтесь о своем горле, с голосом у вас что-то неладно, а закон оставьте в покое, он сам о себе позаботится. Послушайтесь моего совета.
– Это все от сырости, сэр! Горло у меня заложило, вот я и осип, – отвечал Джерри. – Сами посудите, каково мне по этакой сырости на хлеб себе зарабатывать.
– Да-да, – отмахнулся старичок, – всем нам приходится зарабатывать на хлеб, ничего не поделаешь, кому как достается – одним сыро, другим сухо. Вот вам записка. Ступайте.
Джерри взял записку и с почтительным видом, отнюдь не почтительно бормоча себе под нос: «Вот тоже старый сморчок!» – откланялся; проходя, шепнул сыну, куда его посылают, и зашагал вперед.
В те дни преступников вешали в Тайберне и потому улица перед Ньюгетской тюрьмой еще не пользовалась той постыдной известностью, какую она приобрела позднее. Но сама тюрьма была поистине злачным местом, где царили всякие пороки и преступления и свирепствовали страшные болезни; они проникали с узниками в суд и иной раз прямо со скамьи подсудимых кидались на самого судью и уволакивали его с кресла. Случалось, что судья, надевши черную шапочку, читал смертный приговор не только подсудимому, но и самому себе, и даже расставался с жизнью раньше осужденного. А вообще Олд-Бейли пользовался недоброй славой страшного постоялого двора, откуда душегуб-хозяин день за днем отправлял бледных перепуганных путников когда в каретах, когда на телегах в принудительное путешествие на тот свет; и хотя ехать было всего две с половиной мили по улице и проезжей дороге, – редко когда навстречу попадались добрые люди, которым стыдно было смотреть на такое зрелище. Такова великая сила привычки, а отсюда ясно, сколь необходимо с самого начала насаждать добрые обычаи. Олд-Бейли славился еще своим позорным столбом, старинным прочным установлением, подвергавшим людей такой каре, последствий коей нельзя было даже и предвидеть; был там еще и другой столб – для бичевания, такое же доброе старое установление, весьма способствующее смягчению нравов и облагораживающее зрителей; а еще славился Олд-Бейли лихоимством, поклепами и доносами, добротными исконными навыками, свидетельствующими о мудрости предков и неизбежно толкающими на самые неслыханные преступления, на какие способна корысть. Словом, во всей своей совокупности Олд-Бейли в ту пору являл собой блистательный пример и наглядное доказательство того, что «все правомерно, так как быть должно», и сия ленивая максима могла бы считаться неопровержимой, если бы из нее само собой не вытекало весьма неудобное следствие, – что ничего того, чему не положено быть, стало быть и не было.
С ловкостью бывалого человека, умеющего пробраться всюду, посыльный протискался через грязную толпу, облепившую со всех сторон это страшное узилище, разыскал нужную ему дверь и передал записку в окошко. Люди в те времена платили деньги за то, чтобы посмотреть на представление в стенах Олд-Бейли, так же как платили деньги и за то, чтобы поглазеть на зрелища в Бедламе, – с той только разницей, что за первое брали много дороже. Поэтому все входы в Олд-Бейли строго охранялись, за исключением одной гостеприимной двери, через которую вводили преступников, – эта дверь всегда была открыта настежь.
После некоторого промедления и колебания дверь, скрипнув, приотворилась, и мистер Кранчер, с трудом протиснувшись в узкую щель, очутился в зале суда.
– Что здесь сейчас идет-то? – шепотом осведомился он у своего соседа.
– Пока еще ничего.
– А на очереди что?
– Измена.
– Значит – к четвертованию присудят?
– Да! – со смаком отвечал сосед. – Выволокут его из клетки и вздернут, только не совсем; потом вынут из петли, да и начнут кромсать, – а он гляди и терпи; потом брюхо распорют, все нутро вытащат да на глазах у него и сожгут, а уж после этого – голову долой и туловище на четыре части разрубят. Вот это приговор!
– Это ежели его виновным признают, – заметил для уточнения Джерри.
– Признают, конечно признают, – подхватил сосед, – уж насчет этого будьте покойны!
Но тут внимание мистера Кранчера отвлек сторож: держа записку в одной руке, он пробирался к столу, чтобы вручить ее мистеру Лорри. Мистер Лорри восседал за столом среди других джентльменов в париках: неподалеку от него сидел джентльмен, перед которым на столе возвышались груды бумаг – это был защитник подсудимого; другой джентльмен в парике напротив мистера Лорри сидел, засунув руки в карманы, закинув голову, и, как показалось мистеру Кранчеру, который не раз поглядывал на него во время заседания, прилежно изучал потолок. Джерри стал громко покашливать, потирать себе подбородок, подавать знаки и в конце концов привлек внимание мистера Лорри, который, привстав с места, поискал его глазами, а потом, увидав, спокойно кивнул и снова уселся.
– А он какое к этому делу касательство имеет? – полюбопытствовал сосед.
– Кто ж его знает! – отвечал Джерри.
– А вы, позвольте спросить, с какой стороны к этому причастны?
– Понятия не имею, – отвечал Джерри.
Появление судьи, движение и суета в зале прекратили этот разговор. Глаза всех присутствующих устремились на скамью подсудимых; двое часовых, которые стояли возле нее, вышли и сейчас же ввели за барьер подсудимого.
Все так и уставились на него, за исключением джентльмена в парике, который продолжал внимательно разглядывать потолок. Все дыхание этой массы людей, набившихся в зале, бурно устремилось к нему, словно волны морские, словно ветер, словно языки пламени. Жадные лица тянулись из-за колонн, из ниш, зрители, сидевшие в задних рядах, вскакивали с мест, люди толпились в проходах, опирались на плечи впереди стоящих, становились на цыпочки, подымались на выступы плинтусов, чуть ли не на воздух, и все только для того, чтобы посмотреть на него, разглядеть его, не упустить чего-нибудь. Среди этих толпившихся в проходах людей особенно выделялся Джерри: голова его, словно оживший кусок ощетинившейся остриями Ньюгетской стены, двигалась из стороны в сторону; от него разило пивом, которого он успел хлебнуть по дороге сюда, и его дыхание, смешиваясь со всеми другими дыханиями, пропитанными пивом, джином, чаем, кофе и еще невесть чем, обдавало узника словно полны прибоя, которые, разбиваясь позади него о высокие окна, растекались по стеклу мутными грязными ручьями.
Предметом этого любопытства и глазения был молодой человек лет двадцати пяти, высокого роста, приятной наружности, загорелый, темноглазый. По виду это был человек благородного происхождения. На нем был простой черный или очень темный серый костюм, а довольно длинные темные волосы были стянуты сзади лентой, не столько из щегольства, сколько для удобства. Как всякое душевное движение выдает себя, прорываясь сквозь телесную оболочку, так вызванная естественным волнением бледность сквозила сквозь загар на его лице, доказывая, что чувства его сильнее солнца. Впрочем, он вполне владел собой, спокойно поклонился судье и встал у барьера.
Интерес, с каким возбужденные зрители, задыхаясь, глазели на этого человека, был отнюдь не возвышенного свойства. Если бы подсудимому угрожал не такой страшный приговор, если бы из предстоящей ему казни отпало хоть одно из зверских мучительств, он на какую-то долю утратил бы свою притягательность. Все упивались зрелищем этого тела, обреченного на публичное растерзание, Этого человеческого существа с бессмертной душой, которое вот-вот на глазах у всех будут кромсать и рвать на части.
И как бы ни объясняли зрители свой интерес к этому зрелищу, как бы ни старались приукрасить его каждый по-своему, как кто умел и привык обманывать себя, интерес этот, если разобраться по совести, был сродни кровожадности людоедов.
– Прекратить разговоры в суде! Подсудимый Чарльз Дарней на вчерашнем заседании суда отказался признать себя виновным в предъявленном ему обвинении, что он (такой-то и такой-то), будучи подлым предателем нашего пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч. возлюбленного короля, неоднократно разными тайными способами и средствами помогал Людовику, королю французскому, воевать против нашего пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч.; так, разъезжая между державой нашего пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч. и владениями оного французского короля Людовика, он коварно, злодейски, изменнически (следует длинный перечень сугубо уничижительных наречий) сообщал оному французскому Людовику, какими силами располагает наш пресветлый, преславный, всемилостивейший и проч. и проч. и сколько войск по повелению его величества готовится для отправки в Канаду и Северную Америку.
Джерри, у которого от этого судебного красноречия колючая чаща на голове стала дыбом, как частокол, выслушал сей обвинительный акт с величайшим удовлетворением и, хотя смысл доходил до него не сразу, а с большим опозданием, он все же как-никак уразумел, что сего стоящего у всех на виду, столько раз вышеназванного и снова и снова упомянутого Чарльза Дарнея будут сейчас судить, что присяжных уже привели к присяге и теперь слово принадлежит господину генеральному прокурору.
Подсудимый, которого все в зале (и он сам понимал это) уже видели повешенным, обезглавленным и четвертованным, не обнаруживал никакой растерянности, но и не пытался произвести впечатления на публику; он спокойно, сосредоточенно, с глубоким вниманием слушал чтение обвинительного акта; положив руки на деревянный барьер загородки, он стоял словно застыв на месте: под его руками не шелохнулась ни одна травка из сухой зелени, раскиданной на барьере. По всему залу были разбросаны пахучие травы, спрыснутые уксусом – для очищения воздуха от тюремной вони и тюремной заразы.
Над головой узника висело зеркало, и свет из окон, отражаясь в зеркале, падал на его лицо. Многое множество преступников и несчастных горемык отражалось в нем и, промелькнув, исчезало бесследно с его поверхности, равно как и с лица земли. Какими страшными призраками наполнился бы этот ужасный зал, если бы зеркало сие, подобно морю, которое некогда отдаст погребенных в нем мертвецов, выкинуло обратно все то, что в нем отражалось. Быть может, внезапно догадавшись, с какой целью повешено здесь зеркало, узник только сейчас почувствовал всю унизительность своего положения, а может быть, он случайно пошевелился, и свет, ударивший ему в лицо, заставил его поднять глаза, – но когда взгляд его упал на зеркало, лицо его вспыхнуло, а правая рука дернулась и смахнула травы с барьера.
При этом движении он невольно повернулся лицом к левой стороне зала. Там, в самом углу, на месте, отведенном для свидетелей, сидели двое, и как только взгляд его остановился на них, он сразу переменился в лице; и это произошло так резко и внезапно, что все глаза в зале, жадно следившие за ним, невольно обратились к тому углу: зрители увидели там молоденькую девушку, лет около двадцати, и сидящего рядом с ней джентльмена, по-видимому ее отца, внешность коего невольно привлекала внимание – у него были совершенно белые волосы, а на лице его время от времени проступало какое-то необыкновенно настороженное выражение: не внимания, не интереса к тому, что происходило вокруг, а внутренне-сосредоточенное, как будто он к чему-то прислушивался, углубившись в себя. Когда это выражение появлялось на его лице, он казался глубоким стариком, но достаточно ему было немножко оживиться, – как, например, сейчас, когда он заговорил с дочерью, – оно исчезало, и он весь словно преображался: вы видели перед собой красивого представительного человека средних лет.
Дочь сидела, прижавшись к отцу, продев руку ему под руку и стиснув ладони: она льнула к отцу, потому что все происходящее кругом внушало ей ужас и вызывало чувство нестерпимой жалости к узнику. И это чувство возрастающего ужаса и глубокого сострадания, лишенное и тени любопытства, так живо отображалось на ее челе и так бросалось в глаза, что даже те, кто не испытывал никакого участия к узнику, разжалобились, глядя на нее.
– Кто это такие? – слышался шепот в толпе.
Рассыльный Джерри, который все, что он видел, толковал на свой лад и был до такой степени увлечен всем происходившим, что дочиста обсосал все свои пять пальцев, так что на них не осталось и следа ржавчины, – вытянул шею, стараясь расслышать, кто такие эти двое. Стоявшие около него толкали соседей, шепотом спрашивали друг у друга, пока, наконец, кто-то не задал этот вопрос одному из дежурных служителей, и ответ тем же путем, медленно, через весь зал, шепотом пополз от одного к другому и, наконец, дополз и до Джерри.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































