Текст книги "Ипатия – душа Александрии"
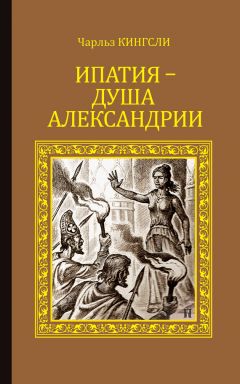
Автор книги: Чарльз Кингсли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Глава XIV
Утесы сирен[84]84
Сирены (греч. мифология). Женские существа, жившие в море и чарующим пением заманивавшие путешественников в морскую пучину.
[Закрыть]
Четыре месяца быстро промелькнули для Ипатии и Филимона среди трудов и занятий. Здоровый, увлекающийся юноша превратился в бледного, задумчивого ученика, подавленного тягостными мыслями и мучительными воспоминаниями.
За это время, благодаря совместному умственному труду, между Ипатией и Филимоном возникла серьезная и вместе с тем нежная дружба, какая бывает между мужчиной и женщиной, если они взаимно уважают друг друга. Снисходительная, почти материнская любовь определяла отношение Ипатии к молодому монаху. Польщенная глубоким, почти фанатическим вниманием Филимона, Ипатия убедила отца выделить юноше место в библиотеке среди молодых людей, занимавшихся изучением популярных в то время писателей.
Первое время Ипатия видела Филимона довольно редко, гораздо реже, чем бы ей хотелось. Она боялась злословия как со стороны язычников, так и со стороны христиан, и ограничивалась лишь тем, что ежедневно расспрашивала отца об успехах юноши.
Но постепенно влечение язычницы к монаху усилилось, и, желая видеть юношу возле себя, Ипатия поручила ему переписывать выбранные ею рукописи. Прочитав его работу, девушка возвращала переписанные листы с собственноручными поправками, и Филимон хранил их, как драгоценный знак отличия.
Проходя мимо юноши, сидевшего в саду музея над какой-нибудь книгой, Ипатия иногда с ласковой улыбкой приглашала его присоединиться к толпе щеголей, окружавших ее, когда она прогуливалась вместе с отцом. Случалось, что она звала его в одну из уединенных беседок, где они подолгу беседовали наедине. Случайно брошенная фраза, ласковый взгляд – все это, несмотря на горделивую сдержанность Ипатии, заставляло думать, что Филимон внушает ей больший интерес, чем прочие ученики, и что в нем она чувствует честную и восприимчивую душу, способную понимать ее.
Трудно жить на свете, не имея хлеба насущного. В течение первого месяца Филимону не раз приходилось бы ложиться спать голодным, если бы о нем не заботился его великодушный хозяин. Маленький человек и слышать не хотел, чтобы молодой монах занимался тяжелой работой. Носильщик наотрез отказывался от платы за комнату, а что касается пропитания, говорил он, то это пустяки. Ему придется немного побольше работать, и они будут оба сыты весь день. В конце концов, если Филимон захочет, то успеет рассчитаться с ним, когда сделается великим софистом. А это неминуемо должно случиться рано или поздно, – с убеждением повторял Евдемон.
Как-то вечером, спустя несколько дней после поступления Филимона в число учеников Теона, юноша с удивлением нашел блестящий золотой на окне своего чердака. На следующее утро он показал странную монету маленькому человечку с просьбой вернуть неизвестному владельцу потерянную им вещь.
Носильщик начал подпрыгивать, жестикулировать и с величайшей таинственностью сообщил юноше, что никто монеты не терял, а весь долг Филимона уплачен ему, Евдемону, милостью верховных сил, от которых ежемесячно будет присылаться новый золотой. Напрасно допытывался юный философ, кто этот неизвестный благодетель. Евдемон свято хранил тайну и грозил своей жене, что он побьет ее, если она не будет держать язык за зубами, хотя несчастное создание и так вечно молчало.
Но кто же был этот неведомый друг? Только она одна дивная девушка, могла это сделать! Однако Филимон не решался останавливаться на такой мысли, казавшейся ему слишком дерзкой.
Во всяком случае, юноша принял деньги, купил себе плащ новейшего фасона и радостно любовался покупкой, возвращаясь домой.
Но что случилось с его христианскими убеждениями, с его верой? Филимон не отрекся от нее, не стал безбожником и искренно возмутился бы, если бы кто-то стал высказывать такое мнение.
Но, ежемесячно получая таинственный золотой, юноша имел возможность всецело предаваться научным занятиям и очень скоро усвоил такие принципы, которые Петр назвал бы языческими. Вначале по детской привычке юноша тайком посещал христианскую церковь, но таковая скоро исчезла, тем более что Филимон боялся быть узнанным и схваченным. Постепенно он прекратил посещать церковь и перестал встречаться и разговаривать с христианами. Даже добрая жена носильщика стала избегать его не то из скромности, не то из отвращения к вероотступнику. Лишенный общения с верующими, юноша все более и более удалялся от них и в нравственном отношении. Проходя мимо церквей, он отворачивался, чувствуя, что Кирилл со всей своей могучей организацией стал для него более чуждым, чем мир далеких планет.
Ипатия с радостью замечала все это, все более и более надеясь, что при помощи Филимона ей удастся осуществить свои самые смелые мечты. Чисто по-женски она наделяла юношу всеми желательными ей свойствами и талантами, помимо тех, которыми он действительно обладал. Филимон удивился бы и слишком много возомнил о себе, если бы увидел свой идеализированный и вместе с тем карикатурный образ, созданный прекрасной фантазеркой.
Для Ипатии это были блаженные месяцы. Орест по каким-то неизвестным причинам перестал упорствовать в своих исканиях, и жертвоприношение отодвинулось на задний план. Может быть, думала Ипатия, ей удастся добиться желанной победы без его помощи. Но как долго придется ждать. Вполне вероятно, что пройдут целые годы, пока окончится воспитание Филимона, а за это время будут упущены многие удобные моменты, которые вряд ли повторятся.
– Ах, – вздыхала иногда Ипатия, – если бы Юлиан жил еще в настоящее время! Тогда я сложила бы все свои сокровища к ногам певца Солнца и сказала: возьми меня! Герой, воин, государственный муж, мудрец, священнослужитель Бога света! Возьми меня, твою рабыню! Повелевай, пошли меня на мученическую смерть, если пожелаешь! Было бы великой милостью, если бы ты позволил мне стать смиреннейшим из твоих сподвижников, сотрудницей Ямблиха, Максима[85]85
Максим Эфесский – философ-эклектик, живший в IV веке н. э. Преподавал философию в Эфесе, откуда был римским императором Юлианом вызван в Византию.
[Закрыть], Либания[86]86
Либаний (314–393). Греческий ритор (оратор) и писатель, родился в Антиохии, учился у знаменитого ритора Зиновия в Антиохии и в философской школе в Афинах. Основал школу красноречия в Константинополе, имевшую большой успех.
[Закрыть] и сонма мудрецов, поддерживавших трон последнего Цезаря!
Глава XV
Воздушные замки
В своих беседах с Филимоном Ипатия тщательно избегала тех вопросов, по которым они расходились из-за религиозных убеждений. Она была уверена, что божественный свет философии постепенно проникнет в его душу и приведет его к самостоятельным выводам. Однажды девушка почувствовала потребность поговорить со своим учеником довольно откровенно.
Как-то раз Теон познакомил Филимона с новым трудом Ипатии по математике, и юноша, встретившись с ней в садах музея, с восторгом посмотрел на свою учительницу. Ей захотелось узнать его мнение относительно сделанных ею поразительных открытий, и она, остановившись, подала знак отцу, чтобы тот поговорил с Филимоном.
– Ну, – начал старик, с одобрительной улыбкой глядя на юношу, – как понравились нашему ученику новые…
– Ты подразумеваешь, конечно, мои труды о конических сечениях, отец? В моем присутствии ты не услышишь беспристрастного суждения.
– Почему? – спросил Филимон. – Почему мне не сказать перед кем бы то ни было, что твоя работа открыла мне новую исключительную область мысли?
– Но что тут необыкновенного? – с улыбкой воскликнула Ипатия, как бы заранее угадывая ответ. – В чем же мой комментарий отступает от сочинения Аполлония[87]87
Имеется в виду Аполлоний Тианский, живший во второй половине I в. н. э. и оставивший после себя многочисленные сочинения по математике и особенно философии, из которых ни одно до нас не дошло. Аполлоний стремился реформировать наивные античные верования и истолковывал богов, как частичные проявления единой и непостижимой для человека божественной силы, а на себя самого смотрел, как на пророка, посланного в мир для обновления человечества. Его проповедь имела большой успех: его аскетический образ жизни и равнодушие к земным благам завоевали ему широкую популярность. Его считали чудовищем, и для «языческих» кругов он являлся соперником Христа. Объехав весь известный тогда мир, Аполлоний поселился в Эфесе, где и умер.
[Закрыть], на основе которого я строила свои выводы?
– Отличается так же, как живой человек от мертвого. Вместо сухого исследования прямых и кривых линий я нашел истинную сокровищницу поэзии. Все скучные математические положения, точно по волшебству, преобразились в эмблемы мудрого и возвышенного закона незримого мира.
– Мой юный друг, – заговорил Теон, – для философа математика служит средством, помогающим найти духовную истину. Для чего изучаем мы числа: для подведения счетов или для того, чтобы, следуя учению Пифагора, на основании их соотношений постигать идеи, на которых зиждется вселенная, человек и даже само Божество?
– Не знаю, но последняя цель, по-моему, благороднее!
– Как ты думаешь: мы исследуем конические сечения ради изобретения более совершенных машин или стараемся открыть таким путем значение символов, связующих божественное с земным?
– Ты владеешь диалектикой, как сам Сократ, отец мой, – вмешалась Ипатия. – Твои слова, безусловно, верны, но мне хотелось бы, чтобы Филимон старался достигнуть высшего духовного понимания природы. В своих прекраснейших проявлениях она проникнута божественной искрой и воплощается в осязаемых формах. Он должен убедиться, что учение христиан лживо, ибо они, с одной стороны, говорят, что Бог сотворил мир, а с другой – что после творения он удалился от него.
– Христиане, – произнес Филимон, – не говорят, как мне кажется, ничего подобного.
– На словах – может быть, но фактически они видят в Боге творца бездушного механизма. Приведенный в движение единым словом механизм продолжает двигаться по инерции. Христиане презирают, как еретика, всякого мыслителя и последователя Платона, который, не удовлетворяясь их представлением о мироздании, хочет возвысить Божество и признает его живым, движущимся и принимающим участие в жизни вселенной.
Филимон осмелился скромно возразить, что эта идея, но в несколько иных выражениях, заключается в Священном Писании.
– Да, но если вселенная живет и движется в лоне Бога, то не должен ли Бог проникать во все сущее?
– Почему же? Прости мое незнание и объясни мне подробнее.
– Потому что все, не проникнутое Божеством, находилось бы вне его сущности.
– Совершенно верно, но все-таки оно осталось бы в сфере его влияния.
– Правильно. Но тем не менее природа жила бы не в нем, а сама по себе. Для объединенной жизни с Божеством она должна всецело преисполниться его духом. Взгляни на лотос, который, как Афродита, поднимается над водами. Он дремлет ночью, склонив свою лебединую шею, но зато всегда приветствует солнце! Неужели в нем заключена только грубая материя, сводящаяся к трубочкам, волокнам и краскам? Неужели это лишь бессознательная жизнь, которую называют прозябанием? Нет, древним египетским жрецам это было известно лучше, чем нам, и на основании числа и формы лепестков, золотистых тычинок и ежегодного таинственного возрождения на лоне вод они вывели ряд сокровенных законов. Этим законам подчинялась, вместе с лотосом, и жрица, державшая его в руке во время религиозных обрядов в храме, а также и сама богиня, покровительница цветка, и девственницы-жрицы, облаченные в белоснежные одежды… Цветок Изиды![88]88
Изида и Озирис. Первоначальный египетский миф об Изиде и Озирисе сводился к следующему: Озирис, бог творческих сил природы (олицетворение Нила), был убит своим братом, богом Сетом (символ иссушающих ветров пустыни). При помощи супруги и сестры Изиды, богини плодородия, Озирис снова воскрес. Культ Изиды распространился во всех частях Римской империи. Особенного распространения он достиг во II и III веках н. э. Несколько римских императоров носили титул верховных жрецов Изиды. Ипатия, подобно многим философам той эпохи, отождествляла ее образ с образом Афины Паллады.
[Закрыть] Да, природа обладает не только прекрасными, но и скорбными символами!
Филимон, по-видимому, успел уже далеко отойти от христианства, потому что он не только без ужаса услышал намек на Изиду, но даже попытался утешить Ипатию.
– Я уверен, – начал он, – что истинный философ не станет оплакивать распад внешнего языческого идолопоклонства. Если, как ты думаешь, в символизме природы заключена духовная истина, то эта истина не может умереть. Поверь, лотос сохранит свое значение до тех пор, пока лотосы будут существовать на земле.
– Идолопоклонство! – возразила она с улыбкой. – Моему ученику не следовало бы повторять пошлую клевету христиан. В какие бы низменные суеверия ни впадала благочестивая чернь, сейчас настоящими идолопоклонниками являются не язычники, а христиане. Они приписывают чудесную силу костям мертвецов, превращают покойницкие в храмы, преклоняются перед изображениями самих низких представителей рода человеческого и потому не должны обвинять в идолопоклонстве греков и египтян, которые под формами символической красоты олицетворяли идеи, не выразимые словами. Идолопоклонство! Разве я поклоняюсь маяку, если смотрю на него целыми часами, как на памятник всепобеждающей мощи Эллады? Разве я поклоняюсь свитку, исписанному стихами Гомера, когда я с восторгом воспринимаю божественные истины, заключающиеся в нем? Мы поклоняемся идее, эмблемой которой является внешний обязательный образ.
– Значит, ты почитаешь языческих богов? – дрожащим голосом спросил Филимон, не в силах более сдерживать свое любопытство.
Его вопрос оскорбил Ипатию, но она ответила с горделивым спокойствием:
– Если бы на твоем месте был Кирилл, я не стала бы разговаривать с ним. Тебе же я готова объяснить, что такое те, кого ты дерзаешь называть языческими богами. Невежественные массы или, вернее, клеветники, из личных соображений порицающие философов, утверждают, что языческие боги – простые люди, подверженные терзаниям горя, боли и любви. Но первые мудрецы Греции, жрецы Древнего Египта и звездочеты Вавилона научили нас признавать в них общие силы природы, детей всеоживляющего духа, которые являются лишь разнообразными порождениями первичного единства. Они почитаются в разных формах, сообразно климату, местным условиям и характеру расы. Поэтому человек, почитающий многих богов, поклоняется, в сущности, одному, вмещающему в себе все совершенства. Каждый из этих богов совершенен по-своему, но каждый является лишь образом того или другого совершенства единого Божества.
– Но почему же ты так ненавидишь христианство? – спросил Филимон, почувствовав некоторое облегчение от такого объяснения. – Разве эта вера не такое же проявление одного из способов почитания?
– Нет, нет, – прервала его Ипатия. – Оно опровергает все бывшие прежде способы почитания и исключительно себе приписывает божественное откровение. – Отец, посмотри! Вон женщина, которую я не могу и не хочу встречать. Свернем в эту аллею. Скорее!
Ипатия смертельно побледнела и быстро увела своего отца на одну из боковых дорожек.
– Да, – закончила девушка, стараясь овладеть собой, – если бы это галилейское суеверие скромно заняло место среди других религий, терпимых в империи, его можно было бы принять как одно из видоизменений идеи божественного, но…
– Опять Мириам! – перебил Филимон горячую речь Ипатии. – Смотри, она идет прямо на нас!
– Мириам? – с удивлением спросила Ипатия. – Ты ее знаешь? Каким образом?
– Она живет в доме Евдемона, так же, как и я, – просто ответил Филимон. – Но я еще ни разу не говорил с ней, да и вообще не хотел бы беседовать с этой отвратительной женщиной!
– И никогда не смей разговаривать с ней. Я тебе запрещаю! – резко сказала Ипатия.
Избегнуть встречи с Мириам было теперь уже невозможно, и Ипатия столкнулась лицом к лицу с ненавистной еврейкой.
– Удели мне одну минуту, прекрасная дева, – заговорила старуха, почтительно кланяясь. – Не будь жестока! Смотри, что у меня есть для тебя.
И с таинственным видом старая Мириам показала Ипатии кольцо – радугу Соломона.
– Я знаю, если ты остановишься на минуту, то не ради кольца, даже не ради того, кто некогда подносил тебе эту драгоценность! Ах, где-то он теперь, бедный! Быть может, он уже умер от любви! Так вот это его последний дар самой прекрасной и самой жестокой девушке. О, она права, конечно! Она может сделаться императрицей, да, императрицей! Это выше того, что мог бы предложить бедный еврей. Но все-таки… Даже императрица может иногда внять просьбам своих подданных…
Всю эту речь Мириам проговорила чрезвычайно быстро, в льстивом тихом тоне и низко кланяясь. Только глаза ее, упрямо устремленные в лицо девушки, казалось, леденили душу. От этого взгляда нельзя было убежать.
– О чем ты говоришь? Какое мне дело до твоего кольца? – резко спросила Ипатия.
– Прежний владелец предлагает тебе это кольцо. Ты помнишь, у тебя был маленький черный агат, не имеющий никакой ценности. Если ты его не бросила, он желал бы выменять агат на этот опал. Эта драгоценность, без сомнения, лучше украсит такую руку.
– Рафаэль подарил мне агат, и я сохраню его!
– Но этот опал стоит десять тысяч золотых. Возьми его взамен сломанной вещи, стоящей червонец…
– Я не торговка, как ты, и не оцениваю подарков по их денежной стоимости! Я дорожу талисманом, начертанным на агате, и не желаю расстаться с этим кольцом…
– А, ради талисмана! Как это мудро, как благородно… Но знает ли мудрая дева, как нужно пользоваться агатом?
Ипатия покраснела; ей было стыдно признаться, что Рафаэль не посвятил ее в эту тайну.
– Ах, счастливой красавице, значит, все известно? И талисман поведал ей – овладел ли Гераклиан Римом и станет ли она матерью новой династии Птоломеев, или умрет девственницей. Наверное, к ней прилетал великий демон, когда она терла плоскую сторону камня?
– Ступай, неразумная женщина… Я – не ты… Меня не прельщает глупое суеверие!
– Глупое суеверие! Ха-ха-ха! – воскликнула старуха, собираясь удалиться и кланяясь еще ниже. – Так она еще не видела ангелов!.. Ну, хорошо. Может быть, настанет день, когда прекрасная дева пожелает воспользоваться талисманом, и тогда бедная старая еврейка откроет ей эту тайну.
Мириам скрылась за деревьями.
Конечно, Ипатия не знала, что старуха, оставшись одна, бросилась на землю и стала корчиться, точно в судорогах, в бешенстве кусая себе пальцы.
– Но я его все-таки добуду! Добуду, даже если мне придется вырвать его из сердца Ипатии! – шептала Мириам.
Глава XVI
Венера и Паллада
В полдень того же дня, когда Ипатия направлялась в свою аудиторию, она встретила на полдороге необыкновенную процессию. То были десятка два готов вместе с молодыми девушками. Впереди всех ехала Пелагия на белом муле, роскошно одетая, а рядом с ней ее друг, амалиец. Длинные ноги красавца-гота почти касались земли, а тяжесть его могучего тела, казалось, придавливала к земле маленькую берберийскую лошадку, совсем не похожую на мощных боевых коней его родины. Толпа любопытных ротозеев сопровождала кавалькаду до дверей музея, где готы остановились и сошли на землю, поручив рабам присмотреть за лошадьми и мулами.
Положение Ипатии было крайне затруднительным: гордость мешала ей уйти. Между тем амалиец снял Пелагию с мула, и соперницы в первый раз в жизни очутились лицом к лицу.
– Да будет Афина благосклонна к тебе, Ипатия! – начала Пелагия с любезной улыбкой. – Я привела с собой своих гвардейцев, чтобы дать им возможность вкусить хотя бы каплю твоей мудрости. Меня, право, интересует, что лучше: твои поучения или те легкомысленные песенки, которым меня научила Афродита, после того как приняла меня из пены морской и нарекла Пелагией.
Ипатия горделиво смотрела на нее и продолжала молчать.
– Надеюсь, моя гвардия не уступает твоей. Мои спутники – викинги и потомки богов. По справедливости, им следует войти в музей прежде твоих слушателей. Не укажешь ли ты им путь?
Ипатия продолжала молчать.
– Ну в таком случае я сама это сделаю. Идем, амалиец!
Пелагия поднялась по ступеням лестницы, и готы последовали за ней, отшвыривая присутствующих, как маленьких детей.
– Вероломная изменница! – неожиданно раздался голос какого-то молодого человека среди густой толпы зрителей. – Ты отняла у нас все до последнего гроша и, ограбив нас, тратишь наследие наших отцов с дикими варварами!
– Отдай нам наши подарки, Пелагия! – воскликнул другой юноша. – Тогда мы примиримся с твоим свирепым спутником.
– Хорошо! – ответила Пелагия и, сорвав с себя браслеты и ожерелье, готовилась бросить их в изумленную толпу.
– Вот, берите ваши подарки! Пелагия и ее спутницы не хотят быть в долгу у мальчишек, обладая любовью вот таких красавцев, – сказала она, указывая на амалийца, к счастью для учеников Ипатии, не понявшего ни слова из всей беседы.
Схватив за руку Пелагию, он с тревогой сказал:
– Ты с ума сошла?
– Нет! Нет! – кричала она в исступлении. – Дай мне золото! Дай все, что у тебя есть, до последней монеты! Эти жалкие люди укоряют меня своими подарками! – вопила Пелагия, прижимаясь к груди амалийца.
– А, они смеют говорить, что мы живем за их счет? Так бросьте сейчас же свои кошельки этим негодяям! – воскликнул амалиец и первым бросил пригоршню золотых в толпу учеников.
Все готы последовали его примеру и стали кидать браслеты и ожерелья в лицо испуганным философам.
– У меня нет подруги сердца, мои юные друзья, – заявил Вульф на довольно сносном греческом языке, – значит, я не в долгу перед вами и имею право сохранить свои деньги. Советовал бы и вам сделать то же, друзья мои! Ты, старый Смид, поступил бы очень умно, следуя моему благоразумному примеру. – За золото я расплачиваюсь железом, – продолжал Вульф и вынул из ножен широкое лезвие со зловещими бурыми пятнами – следами крови.
Испуганные философы попятились назад, и готы свободно прошли в пустой зал, где и разместились в передних рядах.
Сначала Ипатия хотела отказаться от чтения лекции, потом решила послать к Оресту или заставить учеников отстоять священную неприкосновенность музея. Но гордость, а равно и благоразумие в конце концов подсказали ей иное решение.
Отступить – значило признать себя побежденной, а это повредило бы авторитету философии и лишило бы последнего оплота колеблющихся юношей. Нет, она пойдет и с презрением отнесется к оскорблениям, даже к насилию. Дрожа всем телом и сильно побледнев, Ипатия появилась на кафедре…
Но, к удивлению и удовольствию девушки, ее посетители, варвары, вели себя превосходно. Пелагия, как ребенок, наслаждалась своим торжеством и желая выказать сопернице полное пренебрежение, предоставила ей свободу действий. Она приказала своим спутникам молчать и быть внимательными и в продолжение целого получаса сдерживала хихиканье юных спутниц. Вместе с тем тяжелое дыхание спящего амалийца, которого она уже два раза будила, стало громко разноситься по аудитории и наконец перешло в возмутительно громкий храп.
Вскоре сама Пелагия тоже сладко задремала. Тогда старый Вульф принял на себя обязанность поддерживать порядок. С того мгновения, как началась лекция, он не сводил глаз с Ипатии, и чуткое сердце девушки угадывало в нем внимательного слушателя. Ей нравилась улыбка, освещавшая суровое, изборожденное рубцами лицо Вульфа; седая борода его нередко склонялась на грудь, как бы в знак сочувствия к словам лектора.
Задолго до конца лекции Ипатия заметила, что совершенно инстинктивно обращалась своей речью как бы исключительно к новому слушателю. Ученики, занявшие последние скамьи и державшиеся весьма тихо и скромно, торопливо вскочили по окончании лекции, чтобы поскорее избежать опасной встречи с готами. К величайшему удивлению Ипатии с ними вместе приподнялся и старый Вульф; тяжелой походкой приблизился он к кафедре и положил свой кошелек к ногам Ипатии.
– Что это? – спросила она, несколько испуганная его угрюмой и дикой фигурой.
– Я плачу свой долг за то, что слышал сегодня. Ты поистине благородная дева: да соединит тебя Фрейя с супругом, достойным тебя, чтобы ты стала родоначальницей царской династии!
И старый Вульф удалился вместе со своим обществом. На глазах Пелагии соперница одержала явную, несомненную победу, а красавица готова была возненавидеть старого Вульфа.
Но он оказался единственным изменником. Остальные готы единогласно решили, что Ипатия слишком глупа, так как тратит свою молодость и красоту на какие-то поучительные беседы с мальчиками, разъезжающими на ослах.
В сопровождении готов Пелагия торжественно тронулась в обратный путь, ощущая странную тоску, несмотря на свою мнимую победу.
С детства живя только для удовольствий, Пелагия не знала высших потребностей. Но ее новая привязанность или, вернее, уважение, которое внушала ей мужественная энергия и сила красавца-гота, возбудило в Пелагии неведомое еще чувство: желание удержать при себе амалийца, жить для него, последовать за ним на край света, даже если она ему надоест, и он начнет ее презирать.
Постепенно под влиянием насмешливых улыбок и замечаний Вульфа в душе Пелагии зародилось опасение, не презирает ли ее амалиец уже и теперь?
За что же? Она не могла понять.
Красавица была печальна и недовольна – не собой, так как иначе она не была бы Пелагией, одаренной всеми совершенствами. Нет, – ее мучили те же странные сомнения, которые в эту эпоху закрадывались и в умы других людей.
«Почему не пользоваться счастьем, насколько оно нам доступно? – думала молодая женщина. – Разве отречение от личного счастья – заслуга?»
– Посмотри, Амальрих, вон на того старого монаха! – сказала вдруг она. – Почему он так уставился на меня? Скажи ему, чтобы он ушел.
Монах, на которого она указывала пальцем, был старик с тонкими чертами лица и длинной седой бородой; казалось, он понял ее слова, потому что внезапно обернулся, закрыл лицо руками и, к удивлению Пелагии, разразился рыданиями.
– Что это значит? Позовите его немедленно сюда, ко мне, – потребовала Пелагия, желая избавиться от тревожного ощущения.
Один из готов подвел к ней плачущего старца, который смело и спокойно остановился возле мула красавицы.
– Почему ты расплакался при виде меня? – задорно спросила она.
Старик взглянул на нее с нежной грустью и тихо, так, чтобы только она слышала его слова, ответил ей:
– Я не могу удержаться от слез, потому что, глядя на твою красоту, я вспоминаю, что ты осуждена на вечные адские муки!
– Адские муки? – повторила Пелагия, содрогаясь. – Как так? Почему?
– Разве тебе это неизвестно? – спросил старик, смотря на нее со скорбным удивлением. – Разве ты забыла, кто ты?
– Я? Да я никогда даже мухи не обидела.
– Почему у тебя такой испуганный вид, моя милая? Что тебе сказал старый негодяй? – спросил амалиец, замахиваясь бичом.
– О, не бей его! Приходи, пожалуйста, ко мне, прошу тебя. Завтра приходи и объясни мне, что ты хотел сказать.
– Нет, мы не позволим монахам приходить к нам. Прочь, болтун! Благодари Пелагию, что твоя шкура осталась цела!
И амалиец, схватив под уздцы мула красавицы, поспешил уехать, в то время как старик провожал их печальным взглядом. Прелестная грешница, очевидно, смутила старого пустынника, потому что он не скоро успокоился. Вздохнув свободно, монах поспешил к дверям музея и здесь стал внимательно разглядывать лица выходивших, терпеливо снося неизбежные шутки и замечания учеников.
– Ну, старый кот, какую мышь караулишь ты тут?
– Спрячься скорей, а то мыши отгрызут тебе бороду.
– Вот моя мышь, – с улыбкой сказал монах, положив руку на плечо Филимона, с удивлением увидевшего перед собой тонкие черты и высокий лоб Арсения.
– Отец мой! – воскликнул он в порыве радости и любви.
Да, юноша давно ожидал этой встречи, но теперь смертельно побледнел, когда настал момент свидания.
Ученики заметили его волнение.
– Руки прочь, старая мумия!.. Он принадлежит нам и нашей корпорации, твой сын! У монахов, не имеющих жен, не может быть сыновей. Не отколотить ли нам его, Филимон?
– Советую вам разойтись. Ведь готы еще недалеко! – возразил Филимон, научившийся давать меткие, остроумные ответы. Затем, опасаясь новой дерзости со стороны молодежи, юноша увлек за собой старика и молча пошел с ним по улице в ожидании неизбежного объяснения.
– Это твои друзья?
– Избави боже! У меня нет ничего общего с ними, кроме того, что мы вместе сидим в аудитории Ипатии.
– У этой язычницы?
– Да, у язычницы! Ты, наверное, виделся с Кириллом, прежде чем прийти сюда.
– Видел и…
– И? – прервал его Филимон. – Тебе передали все, что может придумать злоба, тупость и мстительность. Тебе сказали, что я наступил ногой на крест, совершил жертвоприношения перед всеми богами Пантеона, а должно быть, и…
Сильно покраснев, Филимон продолжал:
– Что я и… это чистое, святое существо, которое следовало бы почитать как царицу света, не будь она язычницей… – Он остановился.
– Разве я сказал тебе, что верю речам, которые, быть может, слышал?
– Нет, но так как все это самая низкая ложь, то поговорим лучше о чем-либо другом. Во всем остальном я с радостью отвечу на все твои вопросы, дорогой отец…
– Я тебе еще не предлагал их, дитя мое!
– Да, конечно. В таком случае оставим этот предмет.
Филимон засыпал старого друга вопросами о нем самом, о Пампе и всех обитателях лавры, испытывая неизъяснимую радость от обстоятельных и добродушных рассказов Арсения.
Умный старик угадывал причину лихорадочного оживления и словоохотливости Филимона.
– А все-таки ты кажешься мне бледным и худым, мой бедный мальчик!
– Это от усиленной умственной нагрузки, – возразил юноша. – Но теперь я щедро вознагражден, а в будущем ожидаю еще большего.
– Дай бог! Но кто эти готы, с которыми я только что встретился на улице?
– Ах, отец мой! – обрадовался Филимон возможности поговорить о постороннем. – Так это, значит, с тобой Пелагия беседовала, остановившись в конце улицы? О чем мог ты говорить с подобным существом?
– Про это знает Всевышний! Непонятная симпатия овладела мной при виде… Ах, бедная, несчастная девушка! Но где же ты мог с ней познакомиться?
– Вся Александрия знает эту гадкую женщину! – сказал чей-то голос позади них.
Это был маленький носильщик, давно уже наблюдавший за ними и шедший следом. Он не мог далее молчать и решил принять участие в их разговоре.
– Да, для многих богатых щеголей было бы лучше, если бы старая Мириам вовсе не привозила Пелагию из Афин.
– Мириам?
– Да, монах. Ее имя, как говорят, пользуется известностью не только на невольничьем рынке, но и во дворцах.
– Это еврейка со злыми глазами?
– Еврейку в ней обличает ее имя, а что касается ее глаз, то я нахожу их одновременно и божественными, и дьявольскими; предоставляю твоему воображению, монах, по своему вкусу определить их выражение.
– Но как ты познакомился с Пелагией, сын мой! Это совершенно не подходящее для тебя общество.
Филимон откровенно передал Арсению историю своего путешествия по Нилу и последовавшее за ним приглашение Пелагии.
– Ты, конечно, не воспользовался им?
– Да сохранит Небо ученика Ипатии от подобного унижения.
Арсений печально покачал головой.
– Наверное, тебе было бы нежелательно, чтобы я принял ее приглашение?
– Конечно, сын мой! Но скажи, давно ли ты считаешься учеником Ипатии и находишь унизительным посетить хотя бы самое грязное существо, если при твоем содействии возможно обратить на путь истинный заблудшую овцу? Впрочем, ты слишком молод для этого. Без сомнения, она хотела обольстить тебя.
– Не думаю. По-видимому, ее восхитило мое чистое греческое произношение, а также и то, что я родом из Афин.
– А давно ли она сама прибыла из Афин в Александрию? – спросил Арсений после некоторого молчания.
– Сейчас же после разграбления города варварами, – сказал маленький носильщик, который, подозревая какую-то тайну, метался, как раздразненный попугай. – Старуха привезла ее с грузом пленных мальчиков и девочек.
– Время совпадает. Возможно ли найти эту Мириам?
– Мудрый вопрос, вполне достойный монаха! Разве тебе неизвестно, что Кирилл изгнал всех евреев еще четыре месяца тому назад?
– Правда, – тихо пробормотал старик.
– Что с тобой, отец мой? Кажется, ты глубоко заинтересовался судьбой этой женщины.
– Она – рабыня Мириам?
– Нет, она уже четыре года считается свободной женщиной, – ответил носильщик. – По определенным соображениям красавица сочла нужным посвятить свою жизнь александрийской публике и обирала ее где и как могла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































