Текст книги "Ипатия – душа Александрии"
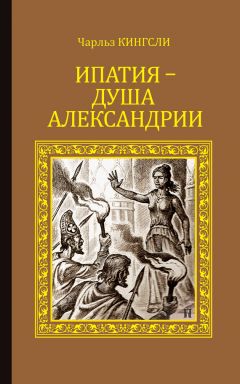
Автор книги: Чарльз Кингсли
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
– Ну, сегодня мне не страшны немилостивые взгляды! – пробормотала старуха, поднимая с пола желанную цель всех своих козней – половинку черного агата, принадлежавшую Рафаэлю.
– Заметит ли она свою потерю? Может быть, она не дорожит им с тех пор, как поняла, какие архангелы являются к ней, если потерять талисман. Но, быть может, она вздумает его вернуть обратно? Ну, в таком случае ей придется помериться силами со мной или, вернее, с христианской чернью.
Она сняла с груди другую половину талисмана, много раз складывала оба обломка, ощупывала их, пожирала их влажными глазами, пока наконец не удостоверилась, что куски в точности подходят друг к другу.
Временами старуха обрывочно бормотала:
– О, если бы он теперь вернулся! Но он должен вернуться сегодня! Завтра уже будет поздно! Я спрошу Терафима, не знает ли он, где Рафаэль.
И Мириам приступила к магическим заклинаниям.
Придя домой, Ипатия бросилась на свою постель, плача и вздыхая, как слабый больной ребенок. Когда наступило утро, она встала, собрала все силы для последнего великого дела и стала спокойно готовить последнюю лекцию. После нее она решила навеки проститься и с Александрией, и со своими учениками…
Филимон бежал, как безумный, по главной улице, ведущей в Серапеум. Но не успел он промчаться и полмили, как столкнулся с огромной толпой, которая шла ему навстречу, заполняя всю улицу.
Народ шел без конца. Тысячи факелов мерцали над головами, а из середины процессии доносилось торжественное пение, в котором Филимон узнал хорошо знакомый гимн. Он хотел было свернуть в боковой переулок, чтобы избегнуть встречи, но отступать было некуда. Не успел он оглянуться, как его подхватили передние ряды и увлекли за собой!
– Пустите меня! – воскликнул он умоляющим голосом.
– Тебя пропустить, язычник?
Тщетно уверял Филимон, что он христианин.
– Последователь Оригена! Донатист! Еретик! Всякий добрый христианин нынче ночью идет в Цесареум.
– Друзья мои, у меня нет никакого дела в Цесареуме, – с отчаянием проговорил он. – Я хотел добиться беседы с архиепископом по делам первейшей важности.
– Лжец! Ты утверждаешь, что архиепископ знает тебя, а разве ты не слышал о торжестве этой ночи, не слышал, что сегодня святейший отец должен посетить в Цесареуме прах святого мученика Аммония?
– Как? Кирилл с вами?
– Да, и со всем духовенством.
«Тем лучше! Пусть все произойдет публично», – подумал Филимон, присоединяясь к толпе.
Шествие прошло через ворота Солнца на портовую площадь с пением гимнов и погребальных псалмов. Там процессия повернула направо, вдоль набережной, и свет факелов багровым пламенем озарил главный фасад Цесареума с двумя обелисками, мачты бесчисленных судов у пристани и темную, мрачную громаду дворца, перед которым сверкали длинные ряды закованных в латы солдат. От пристани до угла музея был протянут морской канат, где Орест сосредоточил все свои военные силы.
Процессия внезапно остановилась. Поднялся смутный, зловещий ропот, задние ряды напирали на передние, придвинувшиеся к самому канату. Воины опустили копья и спокойно ждали. Толпа отступила, но вскоре снова нахлынула. Послышались гневные возгласы, и наиболее агрессивные нагнулись, подбирая камни на мостовой. Еще мгновение – и весь гарнизон Александрии вступил бы в отчаянную схватку с пятьюдесятью тысячами христиан.
Но Кирилл помнил свои обязанности предводителя. Он не боялся возбуждать народные страсти, что подтверждалось событиями этой ночи, но со свойственной ему осторожностью и хитростью хотел предупредить ночное побоище, которое было бы опасно и рискованно даже в случае победы, так как стоило бы многих сотен жертв.
Его монахи в совершенстве знали свое дело.
Прежде чем были нанесены оскорбления с той или другой стороны, они пробрались сквозь толпу и, грозя отлучением от церкви, не только восстановили порядок, но и поддерживали полнейшую тишину до самого окончания священной церемонии.
В продолжение целых двух часов расхаживали они, словно часовые, между враждующими сторонами и наводили порядок, вызывая чувство искреннего удивления и одобрения даже у римских легионеров.
В это время по ступеням храма поднялся блестящий ряд священников в богатом облачении. Среди них эффектно выделялась статная фигура архиепископа, эа которым следовали тысячи монахов не только из Нитрии и Александрии, но и из всех городов и монастырей в округе. За монахами двигались миряне. Стечение народа было так велико и давка так сильна, что Филимону удалось проникнуть в церковь только в конце богослужения, когда началась проповедь Кирилла:
– Зачем пришли вы сюда? Чтобы взглянуть на человека в блестящих одеждах? Нет, блеск и роскошь вы найдете только в царских палатах или во дворцах наместников, которые мечтают об императорской короне и готовы нарушить союз, заключенный с Творцом. А вы, бедные в миру, но богатые верой, – что вы хотите узреть в пустыне? Пророка? Да, даже более чем пророка, – мученика? Ныне он выше царей, выше наместников! Называйте его не Аммонием, а Томазием блаженным. Приблизьтесь же и исцеляйтесь! Подсидите и взирайте на славу святых и неимущих! Приблизьтесь и убедитесь, что у Господа в чести тот, кто презрен людьми.
Бог приемлет отвергнутого и награждает наказанного. Приблизьтесь и посмотрите, как Творец охраняет немощных и сокрушает сильных. Человек с отвращением взирает на казнь на кресте. Сын же Божий на нем принял смерть. Человек попирает ногами бедняка, и Сыну Божьему негде преклонить голову. Человек отвергает блудницу после того, как вынудил ее стать рабыней греха, – Сын Божий беседует с ней, оскверненной, презираемой и покинутой, принимает ее слезы, благословляет ее жертву и говорит, что грехи ее прощены, ибо она много любила…
Филимон ничего более не слушал. В страстном порыве фанатика протиснулся он к ступеням того возвышения, на котором под роскошным балдахином стоял стеклянный гроб с телом Аммония. Очутившись перед кафедрой, откуда говорил Кирилл, он припал лицом к земле, простер руки наподобие креста и замер, неподвижный и безмолвный.
Среди присутствующих началось движение, поднялся легкий шепот, а Кирилл продолжил после минутного перерыва:
– Человек в своей гордыне и самомнении презирает унижение и покаяние, Сын же Божий говорит, что тот, кто сам себя унижает, как этот наш кающийся брат, будет возвышен. Станем же радоваться и веселиться вместе с сонмом архангелов об обращении раскаявшегося грешника. Приподнимись, сын мой, кто бы ты ни был, и вкуси мир на эту ночь, повторяя слова Сына Божьего, поборовшего в пустыне искушение сатаны!
Вслед за этим удачным и ловким оборотом речи раздался гром рукоплесканий.
Филимон опустился на колени и, краснея и смущаясь, смотрел на тысячи прихожан.
Старик, стоявший вблизи кафедры, бросился к юноше и обнял его. Это был Арсений.
– Сын мой! Сын мой! – громко рыдая, проговорил он.
– Твой раб, если хочешь, – шепнул ему Филимон. – Последнюю милость испрошу у патриарха и потом навеки назад, в лавру…
– О дважды благословенная ночь! – провозгласил сверху густой, звучный голос Кирилла. – Мы одновременно венчаем мученика и празднуем обращение грешника. На земле пополнились ряды победоносного воинства церкви, а небеса с двоякой великой радостью приветствуют торжество одного брата и покаяние другого!
По знаку Кирилла Петр-оратор приблизился и ласково увел рыдающего старца и Филимона. Их напутствовали пожеланиями, молитвами и слезами даже дикие монахи Нитрии. Петр тоже подал руку взволнованному юноше.
– Молю тебя о прощении, – прошептал Филимон, стремившийся всячески унизить себя.
– А я тебе дарую его, – ответил Петр. Последний возвратился в церковь с более веселым видом и, вероятно, в более светлом настроении.
Глава XXVII
Возвращение блудного сына
На следующий день, около десяти часов утра, когда Ипатия, измученная бессонной ночью, старалась собраться с мыслями для прощальной лекции, любимая невольница доложила ей, что внизу ждет посланный от Синезия.
Письмо от епископа! Луч надежды блеснул в ее душе. Наверное, он шлет ей утешение, совет, какое-либо успокоение! О, если бы он знал, как безысходно ее горе!
– Возьми письмо и принеси его сюда.
– Он хочет лично передать его тебе. И я думаю, тебе бы следовало удостоить его беседы, – добавила девушка, подкупленная золотой монетой щедрого посетителя.
Ипатия нетерпеливо покачала головой.
– По-видимому, он хорошо тебя знает, моя повелительница, хотя и не сообщает своего имени. Я не поняла, что он хочет сказать, но он мне велел напомнить тебе о черном агате и о каких-то духах, которые являются, если потереть поверхность талисмана.
Ипатия смертельно побледнела. Неужели это опять Филимон? Она схватилась за грудь – талисман исчез! Должно быть, она потеряла его в минувшую ночь, в комнате Мириам. Только теперь ей стал окончательно ясен коварный замысел колдуньи.
– Скажи ему, чтобы он оставил письмо и удалился… Отец мой! Как? Кто этот незнакомец? Кого ты привел ко мне в такую минуту?
Человек, сопровождавший Теона, был не кто иной, как Рафаэль Эбен-Эзра. Старик вскоре удалился, оставив молодых людей наедине.
Еврей медленно приблизился к Ипатии и, преклонив колено, передал ей письмо Синезия. Девушка затрепетала от волнения при этой неожиданной встрече. Но события прошлой ночи и ее позор не могли быть ему известны. Она не решилась, однако, взглянуть в глаза Рафаэля, когда взяла и открыла письмо. Если Ипатия надеялась найти утешение в послании епископа, то надежда и тут обманула ее.
«Синезий – наставнице философии.
Судьба не может лишить меня всего, хотя по мере возможности стремится всячески обездолить меня. Но я ей не покорюсь и буду приносить пользу людям и помогать угнетенным. Только бы вместе с остальным не отняла она у меня и разум. Я ненавижу несправедливость и, насколько могу, стараюсь положить ей конец. Но я не в силах осуществить свои планы. И этой возможности я лишился еще раньше, чем утратил своих детей.
Было время, когда я был утешением для своих друзей, и ты видела во мне благодетеля всех, кроме самого себя. Тогда я использовал на благо ближних милости, которыми меня осыпали сильные мира сего. Это было тогда! Теперь же я был бы совершенно беспомощен, если бы ты не сохранила своего прежнего влияния. Ибо тебя и добродетель твою отношу я к тому хорошему, которое у меня никто не отнимет. Но ты всегда имела влияние и пользуешься им, без сомнения, и теперь, с присущим тебе великодушным благородством.
Что касается моих родственников, двух достойных юношей, Никея и Филолея, то пусть все твои почитатели, частные лица, а также и сановники, позаботятся о возвращении им их законных прав…»
– Все мои почитатели! – произнесла Ипатия с горькой усмешкой, а затем быстро взглянула в лицо Рафаэлю, точно боясь выдать себя.
Ипатия побледнела и, заметив жалость на лице Рафаэля, невольно подумала: «Он знает… но не все… конечно, не все!»
– Видел ли ты… Мириам? – пробормотала она.
– Нет еще. Я прибыл в Александрию только час тому назад, а благополучие Ипатии мне по-прежнему важнее собственного.
– Мое благополучие? Оно потеряно безвозвратно.
– Тем лучше! Я нашел свое счастье, когда утратил все.
– Что ты хочешь этим сказать?
Рафаэль колебался и не сводил с нее глаз. Он как будто и желал, и боялся сообщить ей что-то весьма важное. Наконец он заговорил:
– По крайней мере теперь ты вынуждена признать, что я одет лучше, чем при нашем последнем свидании. Я вернулся более благообразным и, быть может, более здравомыслящим.
– Рафаэль! Неужели ты явился сюда, чтобы издеваться надо мной? Ты знаешь, ты ведь не мог, пробыв здесь час, не услышать о том, что я еще вчера мечтала, – тут Ипатия опустила глаза, – стать императрицей. Сегодня же мои мечты разбиты, а завтра, быть может, я буду изгнана. Неужели у тебя ничего не найдется для меня, кроме прежних насмешек и двусмысленных намеков?
Рафаэль стоял безмолвный и неподвижный.
– Почему же ты молчишь? Что означает этот грустный, сосредоточенный взор, так непохожий на твое прежнее выражение лица?.. Ты хочешь поведать мне нечто важное?
– Да! – тихо вымолвил он. – Что бы сказала Ипатия, если бы Эбен-Эзра воскликнул вместе с умирающим Юлианом: «Ты победил, галилеянин!»
– Юлиан этого никогда не говорил! Это клевета монахов!
– Но я это говорю…
– Невозможно!
– Я повторяю это.
– Как предсмертное слово, – да, я понимаю… Таким образом, подлинный Эбен-Эзра перестал существовать.
– Но он может возродиться.
– Умереть для философии, чтобы возродиться в варварском суеверии! Достойное перерождение! Прощай же навсегда!
Она встала, готовясь выйти из комнаты.
– Выслушай меня! Выслушай меня терпеливо хотя бы в этот раз, благородная, дорогая Ипатия! Если на твоих прелестных устах появится презрительная улыбка, я, пожалуй, опять стану тем злобным дьяволом, каким я был по отношению ко всем, кроме тебя. О, не считай меня неблагодарным и забывчивым! Я очень многим обязан тебе. Ведь только твои чистые, возвышенные речи поддерживали во мне воспоминание о справедливости и истине.
Ипатия остановилась и слушала с большим удивлением. У нее не осталось веры. Какую же веру нашел он?
– Ипатия, я старше тебя и мудрее, если мудрость дается опытом. Тебе знакома только одна, красивая, сторона медали, я же видел и ее оборотную сторону. Долгие годы блуждал я среди всевозможных форм человеческой мысли, человеческой деятельности, греха и безумия! Я не мог оставаться верным твоему платонизму, – отчего, ты узнаешь впоследствии. Я перешел к стоицизму, эпикуреизму, цинизму, скептицизму и на дне глубокой бездны открыл еще более страшную пропасть, усомнившись и в самом скептицизме.
«О, можно пасть еще ниже!» – подумала Ипатия, припомнив магические фокусы минувшей ночи, но промолчала.
– Тогда, преисполненный презрения к самому себе, я признал себя ничтожнее животных, которые имеют и соблюдают известные законы, в то время как я был собственным богом, демоном, гарпией[115]115
Гарпии (греч. мифология). Свирепые богини вихря и смерти. Изображались в виде птиц с женскими лицами.
[Закрыть]. Только благодаря моей собаке у меня пробудилось сознание собственного существования и бытия других существ, вне меня находящихся, и я слушался ее, так как она была разумнее меня. Бессловесное создание вернуло меня к человеческой природе, к милосердию, самопожертвованию, вере и к чистой супружеской любви.
Ипатия с удивлением смотрела на Рафаэля. Пытаясь скрыть свое замешательство, она сказала, почти не сознавая, что говорит:
– Супружеская любовь? Так вот та жалкая приманка, ради которой Эбен-Эзра изменил философии?
«Слава богу! – подумал Рафаэль. – Она не любит меня. В противном случае гордость не допустила бы ее до этой насмешки».
– Да, моя дорогая, – проговорил он громко, – я отказался от философии и от поисков мудрости, потому что истина сама искала и нашла меня. Но, право, я думал, ты похвалишь меня за то, что я хоть раз в жизни захотел последовать твоему примеру и решил вступить в брак, подобно тебе.
– Не издевайся надо мной! – воскликнула Ипатия и взглянула на него с таким стыдом и отвращением, что ему стало неловко за свои слова. – Если ты еще не слышал, то скоро все услышишь и узнаешь. Никогда больше не упоминай мне об этом отвратительном сне, если ты хочешь услышать от меня хоть одно слово!
Рафаэль почувствовал мучительное раскаяние. Ведь он сам подал мысль об этом злосчастном браке! Но Ипатия не дала ему ответить и торопливо продолжала:
– Скажи мне лучше о самом себе. Что означает этот странный и быстрый брак? Какое отношение имеет он к христианству? Я полагала, что галилеяне привлекают к себе новых последователей прелестями безбрачия, как ни грубы и суеверны их представления о нем.
– Я тоже разделял твое мнение, моя повелительница, – подхватил Рафаэль. – Человеческую непоследовательность объяснить мудрено. Суть в том, что однажды меня схватили два епископа и, не осведомляясь о моем согласии, помолвили меня с молодой особой, которую за несколько дней перед тем хотели отдать в монастырь.
– Два епископа?
– Именно. Один был Синезий. Этот добродушнейший и непоследовательнейший хлопотун выдал мой секрет. Но этой частью моей истории я не хочу докучать тебе. Всего замечательнее то, что другим епископом, содействовавшим этому браку, оказался Августин из Гиппона.
– Они готовы на любую подачку, лишь бы добыть лишнего новообращенного, – пренебрежительно бросила Ипатия.
– Ты ошибаешься, могу тебя уверить. Августин откровенно и весьма невежливо заявил нам обоим, что искренне жалеет нас за столь глубокое падение. Но так как в нас не заметно призвания к безбрачию, то он-де не может принуждать нас к нему. Августин в свое время пролил немало горьких слез…
– Ты, кажется, весьма расположен к софисту из Гиппона? – с нетерпением вырвалось у Ипатии. – Но его убеждения, особенно если они противоречат сами себе, для меня не особенно важны.
– Мне не важно, последователен он или нет, – несколько заносчиво отвечал Рафаэль. – Я пошел к нему не для того, чтобы он учил меня взаимоотношениям полов, а для того, чтобы он рассказал мне о Боге. На этот счет я узнал от него достаточно. Это-то и заставило меня вернуться в Александрию, дабы загладить, если возможно, то зло, которое я причинил Ипатии.
– Разве ты причинил мне зло? Почему ты молчишь? Но знай одно, что каково бы ни было это зло, ты его не исправишь, если будешь пытаться обратить меня в христианство.
– Не будь столь самоуверенной. Я нашел столь великое сокровище, что хотел бы поделиться им с дочерью Теона… Когда мы расставались с тобой несколько месяцев тому назад, я сказал, что, подобно Диогену, иду искать человека. Я обещал сообщить тебе первой, если найду его. И вот я нашел его.
– Я понимаю… Ты говорила о распятом галилеянине. Пусть будет так, но мне нужен Бог, а не человек.
– Видишь ли, мне всегда казалось, что главным качеством абсолютного Единого является не бесконечность, вечность и всемогущество, а справедливость. Все время приходили мне на ум наши древние еврейские книги, которые говорят о таком Божестве, и я смутно сознавал, что в них, быть может, найду ответ…
– Который я не могла дать тебе. Так вот причина твоей сдержанности! Но почему, почему не сказал ты мне этого раньше?
– Потому, Ипатия, что я был животным. Я утратил всякое понятие о справедливости и не искал ее, боясь, как бы она не осудила меня. Да помилует Бог меня грешного!
Ипатия взглянула на Рафаэля. Этого человека, казалось, преобразило какое-то чудо, но он был все тот же. В нем чувствовалось то же благородное сознание собственной силы, тот же тонкий юмор сквозил в типичном еврейском лице и блестящих глазах, но все его черты стали мягче и приветливее; исчезла маска равнодушного пренебрежения, сменившись выражением глубокой, сосредоточенной любви.
Ипатия смотрела на него и проводила рукой по глазам, как бы стараясь убедиться, не привидение ли перед ней. Так вот кем стал задорный, насмешливый Лукиан[116]116
Лукиан – сириец по происхождению, родился в 125 г. н. э. в бедной семье. Отданный на обучение к ваятелю, Лукиан бежал от него, поступил в школу риторов (школу красноречия), изучил в совершенстве греческий язык, стал адвокатом, а потом отдался литературе и занял одно из первых мест среди сатириков Древнего мира. В своих сатирах Лукиан точно насмехался над верой в богов и проводил атеистические взгляды. С еще более беспощадной иронией Лукиан относился к христианству, видя в нем «новое суеверие». Умер в конце II века н. э. (точная дата смерти неизвестна).
[Закрыть] Александрии!
«Это каприз трусливого суеверия… Христиане напугали его адскими муками за прошлые грехи!»
Но, снова взглянув на его ясное, радостное, бесстрашное лицо, Ипатия устыдилась этой невысказанной клеветы. Наконец она заговорила, не поднимая глаз:
– Но если ты нашел человека в распятом, обрел ли ты в нем и Бога?
– А если у Платона понятие о праведном человеке связывалось с образом человека, прошедшего крестную муку, то почему же и мне не придерживаться такого же воззрения?
– Распятый человек – да… но распятый Бог, Рафаэль! Это кощунство ужасает меня.
– Так же думали и мои бедные одноплеменники! Но вернемся к нашему разговору. Признайся мне, Ипатия, размышляла ли ты когда-нибудь о том, каков должен быть прототип человека?
Ипатию поразил этот новый вопрос, на который она как последовательница неоплатонизма[117]117
Неоплатонизм – эклектическое философское направление, проповедовавшее возвращение к Платону, возникшее в начале II века, разработанное Аммонием Саккосом (175–242 гг. н. э.) и углубленное Плотином и Порфирием (204–270 гг. н. э.). Согласно учению неоплатоников человек должен очистить свой дух путем строгого аскетизма и выработать в себе способность углубленного размышления и созерцания божества. Основная цель – мистический экстаз, во время которого человеческому духу раскрываются все тайны мироздания. У учеников Платона логическая разработка философских проблем все более и более уступала место безудержной фантазии и поискам чудесных магических формул, при помощи которых они надеялись воздействовать на природу и людей. Неоплатонизм в эпоху упадка Римской империи распространялся исключительно среди аристократии, охваченной страхом перед социальными потрясениями и нашествием варваров. Неоплатонизм оказал чрезвычайно большое влияние на христианство, и многие догматы христианской церкви (например, учение о Троице) были установлены под его непосредственным воздействием. С другой стороны, неоплатонизм чрезвычайно сильно влиял и на тех ревнителей «старой веры», которые хотели реформировать культ древних богов, приспособив его к более широкому философскому миросозерцанию. К числу таковых принадлежали император Юлиан, прозванный христианами «Отступником», и Ипатия.
[Закрыть] не могла не отвечать отрицательно.
– А между тем Платон, наш учитель, говорит, что все сущее, от цветка до целого народа, имеет свое вечное, неизменное, законченное подобие в нашем мире. Теперь сама посуди, не оправдывает ли этот взгляд Платона кажущуюся нелепость, которая заключается в следующих словах рыбака из Галилеи: «И тот, по образу которого создан человек, стал плотью!»
– Бог, ставший плотью! Мой разум возмущается против подобного предложения!
– Однако старика Гомера это не возмущало.
Ипатия умолкла. Она вспомнила свое вчерашнее желание увидеть одно из древних осязательных, человекоподобных божеств.
Но диалектика Рафаэля не в силах была ее убедить.
Вера Ипатии, подобно всем философам этой школы, основывалась на фантазии и религиозном чувстве, а не на выводах разума. Блестящие грезы того сказочного мира, где она витала столько лет, не могли ее успокоить, она им даже не верила в полном значении этого слова; и хотя в страшную для нее минуту они развеялись, как дым, но они были так прекрасны, что ей было жалко расстаться с ними. Противясь всем доводам разума, она наконец ответила:
– Тебе, по-видимому, хотелось бы, чтобы я променяла великое, прекрасное и небесное на сухой, отвлеченный ряд диалектических умозаключений, – на этой почве я признаю твое безусловное превосходство. Ведь я только женщина, слабая женщина.
Она закрыла лицо руками.
– Ты не хочешь отказаться от прекрасного, великого и небесного, милая Ипатия, – кротко заговорил Рафаэль, – а что скажешь ты, если Рафаэль Эбен-Эзра объяснит тебе, как он нашел это прекрасное, давно и тщетно отыскиваемое им? Я убедился, что так называемое прекрасное, великое, небесное, в сущности, совершенно земные понятия. Духовный же мир зиждется не на познаниях ума, а на нравственности и управляется справедливостью, в которой заключены все остальные законы. Я открыл, что только справедливость возвышенна, прекрасна, бесподобна и является, таким образом, сущностью самого Божества. Я встретил человеческое существо, – тоже женщину, – слабую, молодую девушку, в которой отражалась слава Божества. Она меня научила, что из чувства долга мы не должны избегать соприкосновения с грязным и отвратительным; она мне показала, что самое высокое как раз и заключается в исполнении самых простых обязанностей и в унизительном с внешней стороны самоотречении. В первый, но надеюсь, не в последний раз я увидел подобное существо, завеса спала с моих глаз, и я узнал в нем подобие Божества во всем его сиянии.
Ипатия проговорила с натянутой улыбкой:
– Рафаэль Эбен-Эзра заменил метод строгой диалектики красноречием пылкого влюбленного.
– Не совсем, – с улыбкой возразил он в свою очередь, – я не терял из виду положения учения Платона, что созерцание Божества – высшее блаженство.
Ипатия снова вздрогнула, вспомнив минувшую ночь.
– Я убежден, что справедливость тождественна с любовью, и если Бог – высшая праведность, то благо людей ему дороже, чем им самим. Разве я не придерживаюсь метода диалектики, Ипатия? Ты все еще молчишь. Ты, значит, не хочешь меня слушать? Прощай!
– Останься! – быстро сказала она. – Куда ты уходишь?
– Перед смертью я хочу еще принести какую-то пользу, так как совершил слишком много зла. Я буду сражаться с авсурийскими грабителями, стану кормить фракийских наемников и, вероятно, мне удастся спасти от голодной смерти двух-трех вдов и избавить от рабства несколько сирот. Быть может, я оставлю после себя сына из рода Давида, который будет лучшим христианином, а поэтому и лучшим евреем, чем его отец… Прощай!
– Останься! – повторила она. – Приди еще раз! Вернись! И ее… приведи ее с собой, я хочу ее видеть! У нее благородная душа, если она достойна тебя.
– Она далеко отсюда, – на расстоянии многих сотен миль.
– Ах, быть может, она бы меня чему-нибудь научила, меня – представительницу философии! Тебе не следует меня опасаться. Я более не хочу искать новых приверженцев… О, Рафаэль Эбен-Эзра, к чему ломать и без того надломленный тростник? Мои планы стали добычей ветров, мои ученики оказались недостойными болтунами, мое доброе имя осквернено, мою совесть томит сознание моей жестокости. А ты, если еще и не знаешь всего, то, вероятно, скоро узнаешь. Моя последняя надежда, Синезий, сам просит меня в помощи. А в довершение всего… о тебе можно сказать – «и ты, Брут!»[118]118
Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.). Римлянин плебейского происхождения. В конце I века н. э. в Риме шла ожесточенная борьба между сенатом, находившимся в руках аристократии, и многочисленными узурпаторами, выдвигавшими демагогические лозунги и увлекавшими за собой многочисленные массы обедневшего (в некоторой части паразитарного) городского населения. Класс самостоятельных ремесленников и класс самостоятельного среднего крестьянства («плебс»), являвшиеся опорой Римской республики и сторонниками широких социально-политических реформ, в этот период римской истории находились в состоянии упадка и не были уже решающим фактором политической жизни. Тем не менее Брут, принадлежавший к «плебсу» по своему происхождению, стремился восстановить значение демократических учреждений и во время борьбы между Помпеем, который якобы отстаивал сенат и республику, и Юлием Цезарем, который выступил против сената, стал на сторону Помпея. После поражения Помпея Брут перешел на сторону Цезаря, стал доверенным другом этого последнего, занимая ответственные посты. Но в 44 году в нем снова проснулись его плебейские симпатии, и он примкнул к заговору Кассия против Цезаря ради восстановления республики. В сенате он вместе с сообщниками заколол Юлия Цезаря. По античной легенде, увидя его в числе убийц, Юлий Цезарь сказал: «И ты, Брут!», завернулся в тогу и тут же упал. В 42 году Брут был разбит Антонием и Октавианом при Филиппах и в отчаянии покончил жизнь самоубийством. Выражение «И ты, Брут!» употребляется, когда хотят намекнуть на измену близкого друга.
[Закрыть] Мне осталось только, как Юлию Цезарю, завернуться в плащ и умереть!
Рафаэль с грустью взглянул на нее: лицо Ипатии выражало полную подавленность.
– Да, приходи… Приходи скорее… сегодня вечером… Мое сердце разрывается на части.
– Около восьми вечера?
– Да… Утром я прочту свою последнюю лекцию, вернее, навеки прощусь с аудиторией? О боги! Что могу я им сказать? Приходи и говори со мной о том, кто пришел из Назарета. Прощай!
– Прощай, моя дорогая повелительница! В девятом часу услышишь ты о том, кто пришел из Назарета?
Ему почудилось особое значение в этих словах, которые, казалось, предвещали несчастье. Он поцеловал руку Ипатии. Она была холодна, как лед. Сердце Рафаэля ныло, когда он выходил из комнаты. Он спускался с последней лестницы, как вдруг из-за колонны выскочил молодой человек и схватил его за руку.
– А! Юный вожак набожных грабителей! Что тебе нужно?
Филимон – это был он – посмотрел на Рафаэля и мгновенно узнал его.
– Спаси ее! Ради самого Господа Бога, спаси ее!
– Кого?
– Ипатию.
– С какого момента заботишься ты об ее благополучии, мой юный друг?
– Именем Отца небесного заклинаю тебя, – вернись и предупреди ее! Тебя она послушает. Ты богат, был ее другом, я тебя знаю и слышал о тебе! О, если ты чувствуешь к ней хоть сотую долю той привязанности, которую она внушила мне, то вернись и уговори не выходить из дома!
– Объясни мне в чем дело, – произнес Рафаэль, заметивший сильное волнение юноши. – Пойдем со мной и переговорим с ее отцом.
– Нет! Не в этом дело! Никогда не переступлю я его порога. Не расспрашивай меня о причине, а ступай сам. Со мной она не будет разговаривать. Уж не ты ли удержал ее от беседы со мной?
– Что ты хочешь сказать?
– Я стою здесь целую вечность! Я послал ей с ее невольницей несколько строк, на которые до сих пор не получаю ответа.
Рафаэль только теперь припомнил, что во время свидания с Ипатией ей передана была записка.
– Я видел, как ей принесли письмо, которое она с досадой бросила. Расскажи мне в чем дело. Если есть повод к опасениям, я сам передам ей, что нужно. От чего нужно ее предостеречь?
– На нее готовится покушение. Я знаю, что монахи и параболаны затевают какое-то ужасное дело. Сегодня утром, когда я лежал на постели в комнате Арсения… Они думала, что я сплю…
– Арсений? Так этот почтенный фанатик тоже последовал примеру святых ревнителей и превратился в преследователя?
– О, нет! Я слышал, как он убеждал Петра-оратора не делать чего-то – чего именно, не знаю, но я явственно расслышал ее имя… До меня долетали также слова Петра: «Она нам препятствует и будет вечной помехой, пока мы не устраним ее с дорога». Когда же он вышел в коридор, то обратился к одному из монахов: «Сделай скорее то, что решено».
– Это не веские доводы, друг.
– Ах, ты не знаешь, на что эти люди способны!
– Да неужели? Где это мы с тобой встречались в последний раз?
Филимон покраснел и продолжил:
– С меня этого было достаточно. Я знаю, они ее ненавидят, слышал, в каких преступлениях они ее обвиняют. Ее дом был бы разрушен прошлой ночью, если бы Кирилл не воспрепятствовал этому… А повадки Петра я знаю. Он носится с каким-то дьявольским замыслом, потому что говорит очень кротко и ласково. В течение всего утра я искал случая ускользнуть незаметно и вот прибежал сюда! Возьмешься ли ты передать ей все это?
– Но каковы его планы?
– Это известно лишь Богу, или дьяволу, которому они поклоняются вместо него.
Рафаэль поспешил обратно в дом.
– Можно ли видеть Ипатию? – спросил он.
– Нет, она заперлась в своей комнате и строго-настрого приказала не допускать к ней посетителей…
– А где Теон?
– Он с полчаса тому назад со связкой рукописей прошел через калитку и направился неизвестно куда.
– Безумный старый чудак! – вырвалось у Рафаэля. Вслед за тем Рафаэль торопливо написал на табличке:
«Не пренебрегай предостережениями молодого монаха. Я убежден, что его слова правдивы. Если ты дорожишь собой и своим отцом, не выходи сегодня из дома».
Он подкупил рабыню, которой вручил свое послание, и предупредил слуг об угрожавшей опасности. Но ему не хотели верить. Лавки, правда, были заперты в некоторых кварталах, в садах музея не видно было гуляющих, но, должно быть, у горожан не прошел еще вчерашний страх. Рабы уверяли, что Кирилл, под страхом отлучения от церкви, приказал христианам не нарушать общественного порядка, и поэтому, вероятно, на улицах не видно ни одного монаха…
Наконец Рафаэль получил ответ, написанный знакомым красивым, аккуратным и твердым почерком:
«Ты пользуешься странным приемом, чтобы расположить меня к своей вере, если в первый же день проповеди предостерегаешь против козней твоих собратьев. Благодарю тебя. Я ничего не боюсь, и они не осмелятся, – иначе они бы давно на все решились. Что касается юноши, то я считаю позором для себя не только верить его словам, но даже замечать его существование. Я выйду из дома именно потому, что он имеет наглость предупреждать меня. Не бойся. Ведь не захочешь же ты, чтобы я впервые в жизни подумала о своей без опасности. Я не могу избегать своей судьбы. Я должна сказать то, что считаю нужным. А главное – я не позволю христианам говорить, что наставница философии обладает меньшей твердостью духа, чем фанатики. Если мои боги сильны, они защитят меня, в противном случае – да проявит твой Бог всемогущество, как он найдет нужным».
Рафаэль разорвал письмо на клочки. Стража, наверное, не лишилась ума, как все остальные. До лекции оставалось еще полчаса. Тем временем он решил собрать такой отряд, который способен будет разгромить весь город. И, быстро повернувшись, он вышел из дома.
– Кого Бог хочет погубить, у того отнимает разум, – грустно крикнул он Филимону. – Оставайся тут и задержи ее. Попытайся в последний раз! Схвати лошадей под уздцы, если сможешь. Я вернусь через десять минут!
За садами тянулся двор замка, соединявшийся с музеем многочисленными проходами. О, если бы увидеть Ореста или вовремя предупредить стражу!..
Он спешил по дорожкам, минуя беседки, покинутые боязливыми горожанами и, дойдя до ближайших ворот, с ужасом убедился, что они заперты и крепко заделаны изнутри. В тревоге он бросился к следующим, но и те были заперты. Тут он все понял и пришел в отчаяние. Стража ожидала покушений на музей, составлявший красоту и гордость Александрии, и, дабы сосредоточить все свои силы на возможно меньшем пространстве, уничтожила всякое сообщение с садами. Но, быть может, двери, ведущие из самого музея прямо во двор, оставались еще открытыми? Он нашел вход и по давно знакомому коридору бросился к калитке, через которую вместе с Орестом проходил несчетное число раз. Калитка была заперта. Он стучал, шумел, но тщетно, – никто не отвечал. Он пытался взломать другую дверь. Кругом царило молчание и пустота. Он побежал по лестнице, надеясь дозваться солдат через окно. Но предусмотрительные воины заперли и заставили все проходы в верхние этажи правого флигеля, чтобы и с этой стороны не оставить дворец открытым. Куда же теперь? Назад? А потом? Его дыхание прерывалось, в горле пересохло, лицо горело точно от жгучего порыва самума[119]119
Самум – иссушающий жаркий ветер в Аравии и смежных с Сахарой областях.
[Закрыть], тело тряслось» как в лихорадке. Обычное присутствие духа совершенно покинуло его: над ним как будто тяготели зловещие чары. Не сон ли это? Неужто он осужден постоянно, всю жизнь, блуждать по этим хоромам мертвецов, чтобы искупить грехи, познанные и совершенные в них? Впервые его разум словно помутился. Он ничего не мог сообразить и только ощущал приближение чего-то страшного, которое он должен, но не может предотвратить. Где он теперь? В маленькой комнате, смежной с большой залой… Как часто болтал он тут с ней, окидывая взором маяк и Средиземное море… Но что за рев там внизу, на улице?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































