Текст книги "Рыбаки"
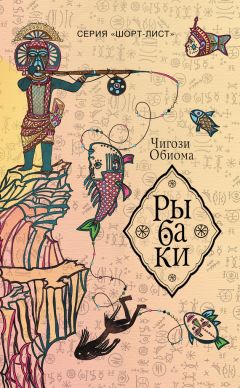
Автор книги: Чигози Обиома
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
6. Безумец
Тех, кого боги решают погубить, они поражают безумием.
Пословица народа игбо
Абулу был безумцем.
Обембе сказал, что однажды с ним произошел несчастный случай. Абулу тогда едва выжил, но мозг его превратился в кровавое месиво. Оказалось, Обембе, который объяснял мне большинство непонятных вещей, даже откуда-то знает историю этого безумца, и вот, как-то ночью, он поведал ее мне. У Абулу, по словам Обмембе, как и у нас, был когда-то брат, и звали его Абана. На нашей улице кое-кто еще помнит их обоих: они ходили в колледж Фомы Аквинского, элитную среднюю школу для мальчиков, в белых рубашечках и белых же шортах, всегда безупречно чистых. Обембе сказал, что Абулу своего брата любил и они были неразлучны.
Абулу с братом росли без отца.
Когда они были детьми, их отец отправился в паломничество в Израиль, да так и не вернулся. Многие думали, что он погиб в Иерусалиме при взрыве бомбы, но его друг, который отправился вместе с ним, сказал: отец Абулу встретил одну австрийку и уехал жить к ней на родину. Абулу и Абана росли с матерью и старшей сестрой, а та, когда ей исполнилось пятнадцать, занялась проституцией и перебралась в Лагос.
Их мать управляла небольшим ресторанчиком. Построенный из дерева и цинка, он стоял на нашей улице и в восьмидесятых был весьма популярен. Обембе сказал, что даже наш отец обедал там пару раз, когда мать была беременна и ей было слишком тяжело готовить. Абулу с братом приходили после школы в ресторан помогать матери: мыли посуду и убирали шаткие столики за каждым клиентом, подновляли зубочистки, мыли полы – с каждым годом они становились все темнее от грязи, пока наконец не сделались похожи на пол в мастерской автомеханика, и пальмовыми веерами отгоняли мух в сезон дождей. Но, несмотря на все усилия, ресторан приносил мало дохода, и семья больше не могла себе позволить нормальное образование.
Бедность и нужда взорвалась в головах двух мальчишек, точно граната – поразив их разум осколками отчаяния, – и со временем они стали воровать. Однажды они обнесли дом богатой вдовы: пришли к ней с ножами и игрушечными пистолетами и взяли полный денег портфель, но стоило им выбежать на улицу, как вдова подняла тревогу, и за ворами в погоню бросилась толпа. Когда Абулу, спасаясь от преследователей, перебегал широкую улицу, его на полном ходу сбила машина. Водитель скрылся, а толпа поспешно рассосалась, оставив Абану наедине с раненым братом. Абана кое-как умудрился самостоятельно донести Абулу до больницы, где врачи тут же бросились его спасать. Серое вещество – по словам Обембе – перетекло из одних отделов мозга в другие. К страшному физическому ущербу добавился еще и умственный.
Когда Абулу выписали, он вернулся домой – но уже совершенно иным человеком: он был как младенец, чей разум напоминает совершенно чистый – без единого пятнышка – белый лист. В те дни он только и делал, что сидел и пялился в одну точку, словно во всем его теле из органов имелись одни глаза и они выполняли все нужные функции. Или же как будто все органы в теле, за исключением глаз, отказали. Шло время, и стало проявляться безумие: порой оно дремало, но легко пробуждалось – точно потревоженный тигр. А пробудить это безумие могла масса самых разнообразных вещей: происшествие, зрелище, слово, да что угодно… В самый первый раз это был звук самолета, пролетавшего над домом: Абулу в гневе заорал и принялся рвать на себе одежду. Он и из дома выбежал бы, но Абана вовремя успел перехватить его – прижал к полу и не отпускал, пока брат не обмяк и не заснул, растянувшичсь на полу. В следующий раз приступ вызвала нагота матери: Абулу сидел в гостиной, устроившись в одном из кресел, и вдруг заметил, как мать, раздетая, идет в ванную. Абулу вскочил, будто призрака увидел, и, притаившись за дверью, стал следить за ней в замочную скважину. Кто знает, что у него тогда в голове творилось, да только он достал из штанов восставший член и принялся себя ласкать. Увидев, что мать закончила и готова выйти, он перепрятался и быстренько разделся, потом прокрался к ней в спальню, повалил на кровать и изнасиловал.
После Абулу даже не подумал отпустить мать; возлежал с ней, точно с женой, пока она плакала и убивалась от горя. Но вот домой вернулся Абана. Взбешенный тем, что натворил Абулу, он схватился за кожаный ремень и принялся пороть брата. Он не останавливался, хотя мать и умоляла пощадить Абулу, но наконец тот вырвался и вылетел из комнаты, объятый жгучей болью. В гостиной он вырвал телеантенну из хрупкой подставки и, вернувшись в спальню матери, пригвоздил этим прутом брата к стене. Потом, устрашающе заверещав, выбежал из дома. Безумие завладело им окончательно.
Первые несколько лет Абулу спал где придется: на базарах, в недостроенных домах, на помойках, в открытых коллекторах и даже под припаркованными машинами – словом, везде, где заставала его ночь, пока не нашел разбитый фургон в нескольких метрах от нашего дома. В 1985 году эта машина врезалась в электрический столб – в аварии погибла целая семья. Из-за кровавой истории фургон стал никому не нужен и постепенно, разрушаясь, превратился в царство диких кактусов и слоновой травы. Наткнувшись на машину, Абулу принялся за дело: изгнал колонии пауков и неприкаянные души покойников, чья кровь навечно оставила пятна на сиденьях. Убрал осколки стекла, крохотные островки дикого мха, которым поросла голая, траченная молью обшивка в салоне. А заодно уничтожил беспомощное племя тараканов. Затем он сложил в грузовике свои пожитки: вещи, подобранные в мусорках, ненужные выброшенные предметы, да почти все, что когда-то привлекло его внимание. Так он устроил себе жилище.
Охваченный безумием, разум Абулу разделился надвое: словно в голове у него сидело сразу два дьявола и оба наигрывали разные мелодии, каждый на свой лад. Когда один из них исполнял мелодию повседневного, или обычного, сумасшествия, Абулу бродил по улицам – голый, грязный, вонючий, преследуемый облаком мух; копался в мусорках и ел то, что находил; громко разговаривал сам с собой или с невидимыми собеседниками – на языках не от мира сего, орал на разные предметы, танцевал на углах улиц, подбирал с земли палочки и ковырял ими в зубах, испражнялся на обочинах – в общем, делал все, что делают простые бродяги. Волосы у него сильно отросли, лицо, лоснящееся и чумазое, покрылось чирьями. Время от времени он беседовал с целыми толпами двойников и невидимых друзей, чье присутствие было скрыто от глаз обыкновенных людей. Во власти этого безумия Абулу превращался в человека идущего – он шел и шел, почти не останавливаясь. Ходил он большей частью босой, по немощеным дорогам, из сезона в сезон, из месяца в месяц, из года в год. Ходил по помойкам, по шатким мостам из занозистых досок и даже по стройкам, где на земле валялись гвозди, куски железа, сломанные инструменты, стекло и прочие острые предметы.
Однажды на дороге столкнулись две машины, и Абулу – не зная об аварии – прошелся по битому стеклу. Изрезал себе ноги и чуть не истек кровью: рухнул на землю и пролежал без сознания, пока его не нашли полицейские. Они забрали его, а через неделю Абулу вернулся в свой фургон; многие, кто видел, что случилось, думали, что он умер, и потому поразились. Покрытый шрамами, Абулу шел домой в больничной пижаме и медицинских чулках, скрывающих варикозные вены.
Во власти безумия Абулу ходил полностью голый, выставляя напоказ огромный член – порой восставший, словно это было обручальное кольцо стоимостью в миллион найр. Однажды его член стал предметом известного скандала, эту историю потом обсуждали по всему городу. Одна вдова так сильно хотела родить, что соблазнила Абулу: как-то ночью отвела его к себе за руку, отмыла и занялась с ним сексом. Если верить слухам, в обществе той женщины безумие Абулу на время отступило. Но когда эта история стала известна окружающим, люди принялись дразнить вдову женой Абулу. Не выдержав, она уехала из города, а Абулу осталось тяжкое помешательство на женщинах и сексе. Вскоре поползли слухи о его ночных визитах в отель «Ля Рум»: поговаривали, будто некоторые из проституток тайком, под покровом ночи периодически проводили Абулу к себе в комнаты. Этим легендам в популярности не уступали пересуды о его публичных мастурбациях. Соломон как-то рассказал нам, что вместе с несколькими людьми видел, как у реки, под манговым деревом, возле Небесной церкви дрочит один безумец. Правда, я тогда еще даже не знал про Абулу и не понял значение слова «дрочит». А Соломон продолжал рассказывать про Абулу: в 1993 году его поймали, когда он лип к цветной статуе Мадонны перед кафедральным собором Святого Андрея. Должно быть, Абулу принял ее за красивую женщину, которая – в отличие от прочих – даже не пыталась пресечь его приставания. Он принялся тереться об нее, постанывать; собралась толпа, люди смеялись над сумасшедшим, пока наконец какие-то набожные люди не оттащили его прочь. Совет католиков потом убрал оскверненную статую и воздвиг новую, но уже в пределах двора, за оградой. Не удовольствовавшись мерами безопасности, они дополнительно обнесли ее железным заборчиком.
Несмотря на беспорядки, которые учинял Абулу, в таком состоянии он никому никогда не вредил.
Вторая же ипостась его безумия была из разряда невероятного: состояние, в которое он входил внезапно, урывками, словно бы находясь еще в нашем мире, – ковыряясь на помойке или танцуя под неслышимую музыку, или еще что – он внезапно впадал в мир снов. Правда, и в этом состоянии он не покидал нашего мира полностью. Он пребывал в обоих – одной ногой здесь, другой – там; он словно превращался в проводника между двумя царствами, в незваного посредника. И приносил послания людям этого мира. Он вызывал дремлющих духов, раздувал крохотные огоньки до яростных пожаров и рушил жизни многих. Входил он в это состояние почти всегда по вечерам, когда гас солнечный свет. Превращаясь в Абулу Пророка, он принимался петь, хлопать в ладоши и предсказывать. Проникал, словно вор, за незапертые ворота, если за ними жили те, кому предназначалось пророчество. Чтобы сообщить о своих видениях, он мог прервать что угодно – даже похороны. Он стал пророком, пугалом, божеством, даже оракулом. Зачастую, однако, он сотрясал оба мира или перемещался между ними так, словно барьер был тонок, как девственная плева. Порой, натыкаясь на того, кому он хотел предречь будущее, он на время впадал в измененное состояние и тогда произносил пророчество. Он мог даже погнаться за автомобилем, выкрикивая на ходу прорицание, если там сидел тот, кто был ему нужен. Люди, бывало, сильно злились и ожесточались, когда он заставлял их выслушивать пророчества; порой его даже ранили. Люди вываливали ему на голову проклятия, как грязные тряпки, плакали и горестно причитали.
А ненавидели его потому, что верили, будто уста его – источник несчастий. Язык у него был – что жало скорпиона. Пророчества рождали в людях страх перед злой судьбой, ожидающей их. Сперва, конечно, никто не обращал на них внимания, но вот одно за другим они стали сбываться, убивая всякую надежду на простое стечение обстоятельств. Одним из ранних и самых известных случаев стала предсказанная Абулу жуткая автоавария, унесшая жизни целой семьи: машина свалилась в глубокую и широкую часть Оми-Алы, близ города Ово. Все случилось ровно так, как предрекал Абулу. Одному мужчине он пообещал смерть «от удовольствия» – через пару дней того вынесли вперед ногами из борделя: он умер прямо во время секса с одной из проституток. Прорицания Абулу запечатлевались в умах людей огненными буквами, вызывая глубокий страх. Они теперь считали, что предсказанного не избежать, верили, что Абулу – оракул, что он – телеграфист судьбы. Отныне, что бы он кому ни предсказывал, человек безоговорочно верил в это. А многие даже пытались предотвратить грядущее. Самым памятным стал случай, когда пятнадцатилетняя дочь владельца крупного театра в нашем городе покончила с собой. Абулу предсказал, что ее жестоко изнасилует родной сын. Глубоко потрясенная ожидающим ее мрачным будущим, она наложила на себя руки, оставив записку, в которой написала, что не хочет ждать, когда это случится.
Со временем безумец стал бичом для всех, грозой нашего города. Песню, которую он пел после пророчеств, знал чуть ли не каждый горожанин, и все страшились ее.
Если что и беспокоило окружающих сильнее, так это способность Абулу проникать в их прошлое – столь же легко, как и в будущее. Частенько он разоблачал тщеславные царства умов человеческих и срывал покровы с секретов, как с погребенных трупов. Итоги всегда приводили в ужас: однажды он увидел, как из машины выходит супружеская пара, и назвал женщину шлюхой. «Tufia! – плюясь, прокричал безумец. – Все спишь с Мэтью, другом мужа, да еще на брачном ложе? Совести у тебя нет! Бесстыжая!» А после, разрушив этот брак – жена поначалу все отрицала, но после созналась, и муж подал на развод, безумец пошел себе дальше, напрочь забыв о том, что сейчас сделал.
Несмотря ни на что, какая-то часть горожан все же любила Абулу и не хотела убивать его, ведь он и помогал тоже. В одном районе сорвалось вооруженное ограбление, потому что Абулу известил людей: ночью придут четверо «в масках и черных одеждах». Вызвали полицию, и когда грабители появились, их повязали. Примерно в то же время он раскрыл, где держат похищенную ради выкупа маленькую девочку, дочь одного государственного деятеля. Следуя точным указаниям Абулу, полицейские ночью отыскали похитителей, арестовали их и спасли заложницу. И снова безумец заслужил признательность горожан, а тот политик, говорят, завалил его фургон подарками. Он вроде бы даже хотел отправить Абулу на лечение в клинику, но горожане воспротивились: нормальный Абулу им даром не нужен. Абулу всегда избегал психиатрии. Когда он изранил себе ноги о битое стекло на месте аварии и его доставили в лечебницу, он принялся запугивать врачей и утверждать, что совершенно здоров и что его держат в неволе незаконно. Когда это не помогло, он устроил самоубийственную голодовку, отказываясь – как его ни заставляли – даже воду пить. Испугавшись, что Абулу уморит себя – к тому же он стал требовать адвоката, – его отпустили.
7. Сокольник
Мать была сокольником.
Стояла на холме и наблюдала за детьми, стремясь оградить их от всего, что казалось ей злом. В закромах ее разума хранились копии наших умов, так что она запросто могла учуять неприятности еще в самом зародыше, подобно тому, как моряки чуют нарождающийся шторм. Еще до того, как отец уехал из Акуре, она то и дело подслушивала за дверью, пытаясь уловить обрывки наших разговоров. Бывало, соберемся мы с братьями в одной комнате, и кто-то один обязательно подкрадется к двери, чтобы проверить, нет ли по ту сторону матери. Если что, мы распахивали дверь – и ловили ее с поличным. Но как хороший сокольник она прекрасно знала нас, своих птенцов, и потому часто успешно за нами шпионила. Она, может, намного раньше поняла, что с Икенной что-то не так, но уж когда он уничтожил календарь М.К.О., почуяла, увидела, ощутила и убедилась: ее старший сын претерпевает метаморфозу. И именно в попытке выяснить, с чего все началось, мать уговорами вынудила Обембе раскрыть подробности той встречи с Абулу.
И хотя Обембе умолчал о том, что было после ухода Абулу, то есть о том, как он, Обембе, рассказал нам, что говорил Абулу, когда над нами пролетал самолет, мать все же охватила чудовищная тревога. Мать то и дело перебивала Обембе, судорожно причитая: «Боже мой, Боже мой», а когда он закончил, встала – кусая губы и заламывая руки. Было видно, что беспокойство съедает ее изнутри. Дрожа всем телом, словно простуженная, мать, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты, а мы с Обембе остались гадать: что с нами сделают братья, если узнают, что мы разболтали наш секрет? И почти тут же мы услышали, как она пеняет им, почему они сразу не рассказали о случившемся. Не успела она выйти из их спальни, как к нам ворвался разгневанный Икенна, желая знать, какой придурок растрепал матери о встрече с Абулу. Обембе стал оправдываться: это мать заставила его во всем признаться; говорил он нарочно громко – чтобы мать слышала и вмешалась. Она и услышала. Пришлось Икенне оставить нас в покое, однако он пообещал наказать нас позже.
Примерно час спустя, немного оправившись, мать собрала нас в гостиной. Она повязала на голову традиционный платок, узел которого свисал с затылка, подобно птичьему хвосту. Это означало, что мать только что молилась.
– Отправляясь на ручей, – заговорила она хриплым надтреснутым голосом, – я беру с собой уду. Наклоняюсь к воде и не разогнусь, пока не наполню сосуд. Затем иду обратно… – Тут Икенна широко и громко зевнул. Мать сделала паузу, пристально посмотрела на него и продолжила: —…иду обратно, к себе домой. Там я опускаю кувшин на пол, но он оказывается пуст.
Она обвела нас взглядом, ожидая, пока до нас дойдет смысл сказанного. Я вообразил, как мать идет к реке, водрузив уду – глиняный кувшин – на голову так, что его со всех сторон поддерживали многослойные кольца враппы. Меня так затянула и тронула эта простая история, а также тон, которым она была рассказана, что мне почти уже не хотелось знать, в чем смысл. Подобные истории, рассказанные в назидание, всегда заключали в себе зерно какого-то смысла, ведь наша мать говорила и думала притчами.
– Вы, дети мои, – снова заговорила она, – утекли из моего уду. Я-то думала, вы со мной, что я несу вас в своем уду, что вы наполняете мою жизнь… – Она вытянула руки и обхватила воображаемый сосуд. – …но я ошибалась. У меня под носом вы ходили на реку и рыбачили там, много недель. Теперь оказывается, что еще дольше вы хранили от меня страшную тайну, а ведь я думала, что вы в безопасности и я пойму, если вам будет грозить беда.
Она покачала головой.
– Вас надо очистить от злых чар Абулу. Сегодня вечером мы идем в церковь, а пока вы все сидите дома, – объявила мать. – Ровно в четыре вместе отправимся на службу.
Мать смотрела на нас, желая убедиться, что мы поняли сказанное ею. Тут из ее комнаты раздался веселый смех Дэвида, который остался там вместе с Нкем.
Мать уже встала и хотела вернуться к себе, но тут Икенна что-то произнес ей вслед.
– А? – переспросила она, резко обернувшись. – Икенна, isi gini – что ты сказал?
– Я сказал, что не пойду с тобой в церковь ни на какое там очищение, – ответил Икенна, переходя на игбо. – Терпеть этого не могу: стоят все эти люди, нависают над тобой, типа зло изгоняют. – Он вскочил из кресла. – Короче, не хочу. Не сидит во мне никакой бес. Все со мной хорошо.
– Икенна, ты что, рассудка лишился? – спросила мать.
– Нет, мама, просто не хочу никуда идти.
– Что? – прокричала мать. – Ике-нна?
– Так и есть, мама, – ответил он. – Мне просто неохота, – он замотал головой, – неохота, мама, biko – пожалуйста. Не хочу идти ни в какую церковь.
Тут со своего места понялся Боджа, который не общался с Икенной с того самого дня, как они поспорили из-за сериала.
– И я не хочу, мама, – сказал он. – Не хочу идти очищаться. Ни мне, ни кому-либо из нас очищение не требуется. Я никуда не пойду.
Мать раскрыла было рот, но слова провалились назад ей в горло – точно человек, что падает с вершины лестницы. Пораженная, она попеременно взирала то на Икенну, то на Боджу.
– Икенна, Боджанонимеокпу, разве мы вас ничему не научили? Вы хотите, чтобы пророчество безумца сбылось? – На раскрытых губах ее набух пузырек слюны и лопнул, когда она заговорила снова: – Икенна, посмотри: ведь ты уже принял его. Откуда, по-твоему, такие перемены в твоем поведении? Ведь ты уже веришь, что тебя убьют братья. И вот ты стоишь передо мной и мне в лицо заявляешь, что тебе не нужны молитвы. Что тебе не нужно очиститься. Неужели годы воспитания, годы наших с Эме усилий ничего вам не дали? А?
Последнее предложение мать прокричала, вскинув руки в театральном жесте. Икенна, тем не менее, с решительностью, с какой можно и врата железные сокрушить, ответил:
– Я знаю только, что никуда не пойду. – Видимо, слова Боджи придали ему еще больше смелости, и он вернулся к себе в спальню. Когда за ним захлопнулась дверь, Боджа встал и отправился в противоположном направлении – в комнату, которую мы делили с Обембе. Мать опустилась в кресло и погрузилась на дно кувшина собственных раздумий. Сидела она, обхватив себя руками, а ее губы двигались, как будто она беззвучно повторяла имя Икенны. Из родительской спальни доносились громкие топот и смех: Дэвид гонял мяч, одновременно пытаясь в одиночку изобразить шумное приветствие стадиона. Под его крики Обембе подошел к матери и сел рядом с ней.
– Мама, мы с Беном пойдем, – сказал он.
Мать взглянула на него сквозь слезы.
– Икенна… и Боджа… теперь чужие нам, – запинаясь, проговорила она и покачала головой. Обембе придвинулся ближе и похлопал ее по плечу длинной худой рукой. – Чужие, – повторила мать.
Все время, что оставалось до похода в церковь, я сидел и думал о происходящем, о том, что Икенна сотворил с собой и с нами из-за видения безумца. Я ведь совершенно забыл о встрече с Абулу, особенно после того как Боджа предупредил нас с Обембе, чтобы мы молчали и никому о ней не рассказывали. Как-то я спросил у Обембе, почему Икенна нас больше не любит. И брат ответил: все из-за той отцовской порки. Тогда я поверил ему, но сейчас стало очевидно, что я был не прав.
Потом, пока мать одевалась в церковь, я смотрел на этажерку в гостиной. Взгляд мой коснулся полки, до самого пола покрытой одеялом пыли и паутины. То были знаки отсутствия нашего отца: пока он жил дома, мы еженедельно по очереди убирались на полках. Прошло всего несколько недель с его отъезда, и мы забросили это занятие, а матери не хватало настойчивости, чтобы принудить нас к уборке. Без отца дом как будто бы сделался больше: словно по волшебству, некие невидимые строители раскрыли его, точно он был бумажный, и раздвинули стены. Когда отец жил с нами, одного его присутствия – даже когда он сидел, уткнувшись в газету или книгу, – хватало, чтобы соблюдались строжайшие правила и мы сохраняли то, что он называл «приличием». Думая о братьях, о том, как они отказались идти в церковь и освободиться от чар или от того, что ими казалось, я затосковал по отцу, и мне отчаянно захотелось, чтобы он вернулся.
Тем вечером я и Обембе отправились с матерью в церковь – Ассамблею Бога, – что располагалась через дорогу, тянувшуюся аж до самой почты. Дэвида мать взяла на руки, а Нкем усадила за спину в слинг из враппы. Чтобы кожа у младшеньких не запрела и не началась потница, мать покрыла их шеи таким слоем присыпки, что они блестели, как у кукол.
Церковь представляла собой просторный зал, по углам которого с потолка спускались провода с лампами. За кафедрой стояла молодая женщина в белом одеянии – кожа у нее была куда светлее, чем у жителей наших краев, – и с иностранным акцентом пела «Великую благодать». Мы бочком продвигались по проходу между скамей; я то и дело натыкался на внимательные взгляды прихожан, и мне стало казаться, что за нами все наблюдают. Подозрения усилились, когда мать подошла к сидевшим позади кафедры пастору с женой и старейшинам и что-то шепнула главе нашей церкви. Наконец, когда девушка в белом допела, пастор – в рубашке с галстуком и брюках на подтяжках – поднялся на амвон.
– Братья и сестры! – произнес он так громко, что колонки возле нас заглохли, и пришлось слушать его голос из динамиков на другой стороне зала. – Прежде чем я продолжу доносить до вас слово Божье, позвольте рассказать о том, что я сейчас узнал: дьявол в обличье Абулу, одержимого бесами самопровозглашенного пророка, который, как все вы знаете, принес столько вреда жителям нашего города, вошел в дом нашего дорогого брата Джеймса Агву. Вы все его знаете, он муж нашей дорогой сестры Паулины Адаку Агву. Кое-кто из вас даже знает, что у него много детей, которых, по словам нашей сестры, уличили в рыбалке на берегу Оми-Алы на Алагбака-стрит.
Удивленная паства едва слышно зашепталась.
– К этим детям подошел Абулу и говорил ложь, – продолжал пастор Коллинз, чуть ли не крича и не выплевывая слова в микрофон. – Братья и сестры, вы сами знаете, что ежели пророчество – не от Бога, то оно – от…
– …дьявола! – в унисон прокричала паства.
– Воистину. А ежели пророчество от дьявола, его надлежит отвергнуть.
– Да! – хором соглашалась толпа.
– Я вас не слышу, – потрясая кулаком, выплюнул в микрофон пастор. – Я говорю: ежели оно от дьявола, то его НАДЛЕЖИТ…
– …отвергнуть! – завопили прихожане, да с таким жаром, словно это был боевой клич. Маленькие дети, которых привели на службу – в том числе и Нкем, – заплакали, должно быть, испугавшись диких криков.
– Мы готовы его отвергнуть?
Паства согласно взревела; громче других звучал голос матери – она продолжала кричать, даже когда остальные замолчали. Я заметил, что из глаз у нее снова текли слезы.
– Так встаньте же и отвергните это пророчество во имя Господа нашего Иисуса Христа.
Люди повскакивали со скамей и ударились в восторженные, истовые молитвы.
* * *
Сколько мать ни старалась исцелить Икенну, усилия пропадали впустую. Пророчество глубоко повлияло на него и, обратившись безумием, со всей силой и яростью, как разгневанный зверь, принялось крушить все вокруг: ломать стены, срывать с них картины, потрошить шкафы и опрокидывать столы – до тех пор, пока все, чем был и чем стал Икенна, не превратилось в жуткий бардак. Страх смерти, которую напророчил Икенне Абулу, стал для моего брата осязаем. Он теперь жил в этом страхе, как в отдельном мире, как в клетке, откуда нет выхода и за пределами которой больше ничего нет.
Я слышал, что человек, чьим сердцем овладел страх, слабеет. Так стало с моим братом, ведь когда страх овладел его сердцем, он много чего лишился: мира, благополучия, отношений, здоровья и даже веры.
В школу Икенна стал ходить один, без Боджи. Вставал рано, часов в семь, и убегал, даже не позавтракав, – лишь бы не пересекаться с Боджей. Потом стал пропускать обеды и ужины, если мать готовила эба или пюре из ямса – блюда, которые едят все вместе, из одной посуды. Он начал чахнуть: его ключицы теперь заметно выпирали, отчетливей выделялись скулы, а белки глаз сделались бледно-желтыми.
Это не укрылось от матери. Она протестовала, просила, запугивала – все без толку. Однажды, незадолго до конца учебного года – в первую неделю июля – она заперла входную дверь и стала требовать, чтобы Икенна позавтракал перед школой. Подавленный – в тот день был экзамен, Икенна умолял выпустить его:
– Разве тело – не мое? Какая тебе забота, поем я или нет? Оставь меня в покое. Дай мне самому решать, что делать.
Он не выдержал и заплакал, но мать не выпускала его, пока он не согласился поесть. Он ел омлет с хлебом, ругая ее и нас всех, говоря, что все в этом доме его ненавидят. Он поклялся однажды – очень скоро – покинуть эти стены и больше не возвращаться.
– Вот увидите, – пригрозил он, утирая глаза тыльной стороной ладони. – Скоро все это завершится, и вы от меня избавитесь. Вот увидите.
– Сам знаешь, это не так, Икенна, – возразила мать. – Мы все тебя любим: я люблю тебя, братья любят тебя. Ты поступаешь так с собой из страха. Страха, который взрастил и выпестовал сам, своими руками. Икенна, ты сам решил поверить в пророчество безумца, этого бродяги, которого даже человеком назвать стыдно. Он ведь не больше, чем… С кем бы я сравнила его? Он не больше, чем рыба. Нет, он даже не больше, чем головастики, которых вы ловили на реке. Головастики. На днях на рынке рассказывали, как он в поле наткнулся на стадо коров. Телята сосали мамкино вымя, и Абулу тоже присосался! – Мать с отвращением перед описанной картиной сплюнула. – Разве можно верить человеку, сосущему коровье вымя? Нет, Икенна, ты сам себя моришь. Тебе некого винить. Даже когда ты отказался молиться за себя, мы молились за тебя. Так что не смей винить никого за то, что по своей воле живешь в пустом страхе.
Икенна слушал, слепо глядя в стену перед собой. На какое-то мгновение даже показалось, что он осознал свою глупость, что слова матери проникли в его измученное сердце и черная кровь страха вытекла оттуда. Икенна молча ел завтрак за общим столом – впервые за долгое время, а закончив, пробормотал: «Спасибо». Мы всегда благодарили родителей за еду, но Икенна уже давно этого не делал. Посуду он отнес на кухню и помыл; мать всегда учила нас мыть посуду, а не оставлять ее на столе или – как поступал в последнее время Икенна – у себя в комнате. Затем он отправился в школу.
Когда он ушел, в гостиной появился Боджа, который уже почистил зубы и ждал, пока Обембе выйдет из ванной. На бедрах у Боджи было полотенце, которым они с Икенной пользовались вместе.
– Боюсь, он исполнит угрозу и уйдет из дому, – сказал он матери.
Мать в это время мыла тряпкой холодильник. Не отрываясь от своего занятия, она покачала головой. Затем, нагнувшись так, что были видны только ноги под дверцей, сказала:
– Не уйдет. Куда ему податься?
– Не знаю, – ответил Боджа. – Просто боюсь, и все.
– Никуда Икенна не денется. Страх не будет длиться вечно, он пройдет, – уверенно проговорила мать. В тот момент она, похоже, и сама в это верила.
Мать не бросала попыток исцелить и защитить Икенну. Помню, одним воскресным днем к нам пришла Ийя Ийябо. Мы как раз ели стручковую фасоль, маринованную в соусе на пальмовом масле. Я заметил, что на улице, рядом с нашим домом, собирается толпа, но нас учили не выбегать и не смотреть на подобные сборища, как поступали прочие дети. Отец предупреждал: у кого-то в толпе может оказаться оружие, и если вдруг начнут стрелять, то нас могут ранить. Вот мы и остались дома – иначе мать наказала бы за проступок или доложила о нем отцу. На следующий день Бодже предстояло пройти два теста: по социологии и истории – двум предметам, которые он терпеть не мог, и потому он сделался вспыльчив. Все ругал исторические личности из учебника, называл их «мертвыми идиотами». Мы с Обембе решили не докучать ему, не вертеться около, когда он в таком состоянии, и сидели в гостиной вместе с матерью. Тогда-то к нам и постучалась соседка.
– А, Ийя Ийябо, – сказала мать, вскакивая на ноги.
– Мама Ике, – приветствовала нашу мать женщина, которую я по-прежнему ненавидел за донос.
– Садись поешь, мы как раз кушаем, – сказала мать.
Нкем протянула к торговке ручонки, и та тотчас же подняла ее.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































