Читать книгу "Стрела бога"
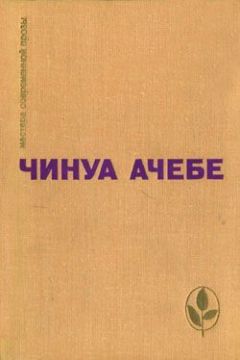
Автор книги: Чинуа Ачебе
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Роман «Человек из народа» – наиболее публицистическое из произведений писателя. Вынося безоговорочный приговор правящей верхушке Нигерии, он в этом романе с наибольшей последовательностью высказался за то, что его страна должна искать, спасения в обращении к каким-то новым общественным силам. Чинуа Ачебе с искренним сочувствием рассказал о попытке группы честных, патриотически настроенных интеллигентов создать партию, которая являлась бы выразительницей подлинных чаяний народа, но не скрыл и своих сомнений в том, что этим честным, самоотверженным людям удастся сломать политический аппарат коррупции и насилия. Признанного вожака новой партии убивают по приказу министра Коко наемные головорезы. И эта трагическая жертва символична.
Вместе с новым романом в палитре писателя появились новые краски, в его голосе – новые тона. Сарказм, ядовитая ирония, с трудом сдерживаемый гнев придают роману характер памфлета, злой сатиры. Лишь в его последних главах звучат сдержанно оптимистические ноты: на арену политической борьбы вышла армия и смела стоящий у власти режим.
Веру в прогрессивную роль армии Ачебе разделял с многими своими соотечественниками; они бурно приветствовали военный переворот, когда он наконец произошел. Пройдут годы, закончится кровавая гражданская воина, свершатся еще несколько переворотов, прежде чем станет очевидной иллюзорность надежд на то, что военная диктатура положит конец коррупция и поведет страну по пути к прогрессу. Но в 1966 году среди молодых офицеров – организаторов первого политического выступления армии было немало истинных патриотов, настроенных демократически. Разве мог писатель предположить, что уже в первые недели после выступления они будут отстранены, а позднее – одни погибнут на фронтах гражданской войны, другие – исчезнут при таинственных обстоятельствах?
Роман «Человек из народа» был написан в переломные годы жизни писателя и его родины. Время надежд было недолгим. Страх за свои позиции и влияние привел в движение могущественные крути за рубежом, зашевелились и реакционные силы внутри страны, не без оснований полагавшие, что близок и их конец. Клевета, организованные провокации – все было лущено в ход, чтобы отравить отношения между этническими группами Нигерии, – всколыхнули волну насилия и погромов. Начавшиеся трагические события поколебали веру писателя в возможность сохранения единства страны. Как никогда остро чувствовал он неразрывность связей с родным народом игбо, оказавшимся в фокусе инспирированных реакцией националистических провокаций. Когда группа политических и военных деятелей игбо приняла решение о провозглашении независимости Восточной области Нигерии, названной ими Биафрой, то писатель поддержал это решение.
Биафра не была нигерийской Катангой. В Биафре все обстояло сложнее. Среди сепаратистов, добивавшихся отделения от Нигерии, были люди – и они занимали ключевые посты, – тесно связанные с нефтяными монополиями и защищающие их интересы. Но одно время к движению примыкали политические деятели и деятели культуры, придерживающиеся прогрессивных убеждений и искренне надеявшиеся на возможность создания подлинно демократического государства. На определенном историческом этапе идея отделения находила отклик и у народа игбо, глубоко потрясенного погромами и преследованиями.
Чинуа Ачебе был не единственным нигерийским писателем, связавшим свою судьбу с Биафрой. Такой же шаг сделал старейший нигерийский прозаик Сиприан Эквенси. В гражданской войне на стороне Биафры погиб молодой поэт Кристофер Окигбо, которого Ачебе относил к числу лучших поэтов всей Африки.
В небольшом сборнике рассказов «Девушки на войне» (1972) Чинуа Ачебе описал трагическую сторону биафрских событий, напрасные жертвы родного народа. Читая эту взволнованную книгу, легко понять силу его разочарования, горечь его потерь. И после окончания гражданской войны он надолго замолкает. Лишь сборник стихотворений «Брат, осторожно, душа» и вышедший в 1975 году том критических статей «Еще утро дня творения» прервали это молчание.
Именно сегодня, как никогда раньше, велика слава Чинуа Ачебе в Нигерии. В его творчестве прогрессивная общественность страны видит стремление к правде, трезвый самоанализ, верность народному делу, любовь к простому человеку, особенно необходимые сейчас, когда продолжается борьба за подлинное обновление Нигерии.
В. Иорданский
Памяти моего отца
Исайи Окафора Ачебе
посвящается
Глава первая
Вот уже третий вечер всматривался он в небо, ожидая появления новой луны. Он знал, что луна должна выйти сегодня, но, как всегда, начал выглядывать ее за три дня до срока, потому что рисковать тут нельзя. В нынешнее время года его задача была не такой уж трудной – не то что в сезон дождей, когда приходится подолгу обыскивать напряженным взглядом небосклон. Тогда луна иногда по многу дней прячется за тучами и впервые показывается уже наполовину выросшей. А покуда она играет в эту игру, верховный жрец из вечера в вечер допоздна дожидается ее.
Его оби было построено иначе, чем хижины других мужчин. Кроме обычного широкого входа с порогом в передней части строения, тут имелся еще один проем, поуже, тоже с порогом – как входишь, справа. Скат крыши над этим дополнительным входом был укорочен, для того чтобы Эзеулу, сидя на полу, мог видеть ту сторону небосвода, где находится дверь, через которую выходит луна. Темнело, и он часто моргал, очищая глаза от влаги, набегавшей из-за пристального вглядывания.
Эзеулу гнал от себя мысль, что зрение у него теперь уже не такое острое и когда-нибудь ему придется полагаться на чужие глаза, как это делал его дед, когда его собственные глаза ослабли. Правда, тот дожил до таких преклонных лет, когда слепота является как бы украшением. Если Эзеулу доживет до такой же глубокой старости, он тоже спокойно примирятся с подобной утратой. Но пока он ни в чем не уступит любому молодому мужчине; пожалуй, он даже покрепче их; ведь молодые мужчины теперь не те, что прежде. Эзеулу любил подшучивать над ними, применяя свой излюбленный прием. Когда кто-нибудь из них здоровался с ним за руку, он напрягал мускулы и вкладывал в рукопожатие всю свою силу, так что здоровающийся вздрагивал от боли и отшатывался.
Луна, которую он увидел в тот день, была тоща, как сирота, наголодавшаяся в доме жестокой приемной матери. Он пригляделся еще внимательней, чтобы убедиться, что не принял за луну перышко облака. И в то же самое время он, волнуясь, потянулся за своим огене. Так с ним бывало каждое новолуние. Теперь он уже стар, но страх перед новолунием, который он испытывал в раннем детстве, был жив до сих пор. Конечно, после того как он стал верховным жрецом Улу, радость от сознания своего высокого положения часто пересиливала страх, но страх не умер. Он только был побежден, пригвожден радостью к земле.
Эзеулу ударил в свое огене: бом, бом, бом, бом… И сразу же со всех сторон зазвучали детские голоса, подхватившие эту новость. Онва атуо!.. Онва атуо! Онва атуо!.. Он вложил колотушку внутрь железного гонга и прислонил его к стене.
Ребятишки в усадьбе Эзеулу тоже громко приветствовали новую луну. Пронзительный голосок Обиагели выделялся в общем гомоне – он звучал как маленькое огене среди барабанов и флейт. Различал верховный жрец и голос своего младшего сына Нвафо. Женщины тоже вышли во двор, и было слышно, как они разговаривают.
– Луна, луна, – воскликнула его старшая жена Матефи, – загляни мне в лицо и принеси удачу.
– Где же она? – спросила Угойе, младшая жена. – Не вижу ее. Или я ослепла?
– Да она прямо над верхушкой дерева, вон того – уквы. Нет, не там. Смотри, куда я показываю пальцем. Видишь?
– Теперь вижу. Луна, луна, загляни мне в лицо и принеси удачу. Но хорошо ли она сидит на небе? Что-то мне не нравится ее поза.
– Почему? – спросила Матефи.
– По-моему, она сидит в опасной позе – как злая луна.
– Нет, – возразила Матефи. – Дурную луну все сразу узнают по виду. Как ту, под которой умерла Окуата. Ее концы тогда были задраны вверх.
– Разве луна убивает людей? – спросила Обиагели, дергая за кусок ткани, прикрывавшей тело ее матери, Угойе.
– Ну что за ребенок такой! Хочешь раздеть меня догола?
– Я спрашиваю, луна убивает людей?
– Она убивает девчонок, – сказал Нвафо.
– Тебя не спрашивают, Нос-как-муравьиная-куча.
– Сейчас ты у меня заплачешь!
– Луна убивает мальчишек,
С носом-как-муравьиная-куча.
Луна убивает мальчишек… —
У Обиагели все на свете превращалось в песню.
Эзеулу зашел в свой амбар и взял один клубень ямса с бамбукового помоста, сооруженного специально для двенадцати священных клубней. Осталось восемь. Он знал, что должно остаться восемь клубней, но тем не менее тщательно их пересчитал. Три он уже съел, а четвертый был у него в руке. Еще раз проверив оставшиеся клубни ямса и плотно затворив за собой дверь амбара, он вернулся к себе в оби.
В очаге теплился огонь. Эзеулу выбрал из поленницы в углу несколько поленьев, осторожно уложил их на красные угли, а сверху водрузил, словно жертвоприношение, клубень ямса.
Пока ямс поджаривался, он размышлял о предстоящем празднестве. Сегодняшний день – ойе. Завтра будет афо, а послезавтра – нкво, день большого базара. Праздник Тыквенных листьев падает на третий нкво после этого дня. Завтра он пошлет за своими помощниками и поручит им объявить день праздника всем шести деревням Умуаро.
Всякий раз, когда Эзеулу задумывался о своей беспредельной власти над временами года, над всеми полевыми работами и, следовательно, над людьми, он спрашивал себя, реальна ли эта власть. Спору нет, он назначает день праздника Тыквенных листьев и день праздника Нового ямса, но ведь он не выбирает любой день. Он не более как простой дозорный. Его власть подобна власти ребенка над порученной его попечению козой. Ребенку скажут, что коза принадлежит ему, и, пока коза Живет, так оно и есть: он кормит ее и заботится о ней. Но в тот день, когда ее забьют, он увидит, кто был настоящим владельцем. Нет! Верховный жрец Улу – это значит куда больше; должно значить больше. Если он откажется назвать день, праздника не будет – не будет ни посева, ни жатвы. Вот только может ли он отказаться? Ни один верховный жрец никогда не делал этого. Так что отказаться невозможно. Он не отважился бы.
Эта мысль уязвила и разгневала Эзеулу, как если бы ее высказал его враг.
– Возьми обратно слова «не отважился бы», – ответил он этому врагу. – Да-да, возьми их обратно. Ни один человек во всем Умуаро не посмеет сказать, что я не отваживаюсь сделать что-то. Еще не родилась женщина, способная родить мужчину, который посмел бы сказать такое.
Но эта отповедь принесла лишь мимолетное удовлетворение. Мысль Эзеулу по-прежнему настойчиво пыталась разобраться в природе его власти. Что же это за власть, если всем известно, что ею никогда не воспользуются? Лучше уж сказать, что ее нет вовсе, что она так же слаба, как ветры, которые пускает хвастливая собака, грозившаяся задуть пламя в печи… Он перевернул палочкой клубень ямса.
В оби вошел его младший сын Нвафо; назвав, как полагается при приветствии, отца по имени, он устроился на своем любимом месте – на земляном ложе в дальнем углу, рядом с узким порогом. Хотя Нвафо совсем еще дитя, похоже, что божество уже решило сделать его своим будущим верховным жрецом. Едва только он начал говорить, в нем обнаружилась тяга к ритуальным обрядам". Пожалуй, он уже сейчас знает о богослужении больше, чем даже старший из его братьев. Но несмотря на все это, нельзя, конечно, быть настолько неосторожным, чтобы открыто утверждать, что Улу сделает то-то или то-то. Когда Эзеулу не станет, Улу может выбрать на его место, казалось бы, самого неподходящего из его сыновей. Такое уже случалось в прошлом.
Эзеулу внимательно следил за своим ямсом, поворачивая клубень палочкой с боку на бок, по мере того как ближайшая к огню сторона достаточно пропекалась. В хижину вошел его старший сын Эдого.
– Эзеулу! – приветствовал он отца.
– Э-э-и!
Эдого, пройдя через оби, вышел во внутренний дворик и направился к временному жилищу своей сестры Акуэке.
– Пойди и позови Эдого, – обратился Эзеулу к Нвафо.
Вернувшиеся Эдого и Нвафо сели на земляное ложе. Эзеулу еще раз перевернул клубень ямса и только потом спросил:
– Что я говорил тебе насчет того, вправе ли ты вырезывать изображения богов?
Эдого не отвечал. Эзеулу посмотрел в сторону Эдого, но тот был почти невидим, так как там, где он сидел, уже сгустился мрак. Эдого, напротив, хорошо видел лицо отца, освещенное огнем, на котором поджаривался священный ямс.
– Разве Эдого не здесь?
– Я здесь.
– Так ответь же: что я говорил тебе по поводу вырезывания ликов богов? Должно быть, ты не расслышал мой вопрос, когда я задал его в первый раз; наверно, я спрашивал, набрав воды в рот.
– Ты говорил, чтобы я не вырезывал их.
– Значит, я говорил тебе это? Так почему же тогда мне рассказывают, что ты вырезаешь алуси для одного человека из Умуагу?
– Кто тебе сказал?
– Какая разница кто? Правда это или нет – вот что я хочу знать.
– Я спросил, кто тебе это сказал, потому что он, как видно, не может отличить лик бога от простой маски.
– Понятно. Можешь идти, мой сын. И коли хочешь, пожалуйста, вырезай всех богов Умуаро. Если еще хоть раз ты услышишь, что я спрашиваю тебя про это, возьми мое имя и отдай его псу.
– То, что я вырезаю для жителя Умуагу, маска.
– Ты это не мне говоришь. Мой разговор с тобой закончен.
Нвафо тщетно пытался понять смысл этой беседы. Ничего, когда отец перестанет сердиться, он спросит его. Из внутреннего дворика вошла его сестренка Обиагели; она поприветствовала Эзеулу и направилась к земляному ложу.
– Ты что, уже кончила готовить горький лист? – спросил Нвафо.
– А сам ты не умеешь готовить его? Или у тебя пальцы отсохли?
– Эй вы там, помолчите. – Эзеулу палочкой выкатил из огня клубень ямса, быстро сжал его большим и указательным пальцами, пробуя, готов ли он, и остался доволен. Взяв се стропил обоюдоострый нож, он принялся счищать с испеченного клубня черную корку. Когда он кончил, все пальцы и ладони у него были в саже, и, похлопав руками, он отряхнул ее. Его деревянная миска стояла тут же; он нарезал в нее клубень и стал ждать, чтобы ямс остыл.
Когда Эзеулу приступил к еде, Обиагели начала напевать себе под нос. Ей пора уже было знать, что отец никогда не давал никому даже самого маленького ломтика от клубня ямса, который он съедал без пальмового масла в каждое новолуние. Но она не переставала надеяться.
Эзеулу ел молча. Он еще раньше отодвинулся от огня и сидел теперь, прислонясь спиной к стене и устремив взор вдаль. Как это всегда бывало с ним в подобных случаях, он, казалось, погрузился в раздумье о вещах, далеких от повседневности. Время от времени он отпивал холодной воды из калебаса, принесенного Нвафо. После того как он проглотил последний кусок, Обиагели вернулась в хижину матери. Нвафо убрал деревянную миску и калебас и положил нож обратно на стропила.
Эзеулу поднялся с козьей шкуры и подошел к домашнему святилищу, помещавшемуся на гладкой доске за низкой стеной перед входом. Его икенга, высотою с локоть мужчины и с двумя крепкими рогами, стоял вплотную к безликим окпоси предков, черным от жертвенной крови; тут же был и его короткий личный жезл офо. Один из грубо вырезанных, без лица, окпоси принадлежал Нвафо. Окпоси сделали для Нвафо потому, что по ночам у него бывали судороги. Ему велели называть своего окпоси Тезкой. Судороги постепенно прошли.
Взяв жезл офо, Эзеулу сел перед святилищем, но не по-мужски – ноги в стороны, а так, как сидят женщины, вытянув обе ноги перед собой, сбоку от святилища. Один конец этого короткого жезла он сжимал в правой руке, а другим концом ударял о землю в такт своей молитве.
– Благодарю тебя, Улу, за то, что ты дал мне увидеть еще одну новую луну. И дай мне увидеть ее снова и снова. Пошли здоровье и достаток всем в этом доме. Пусть в нынешний месяц посадочных работ труды всех шести деревень обернутся богатым урожаем. Помоги нам избежать опасности во время работы в поле. Пусть не ужалят нас ни змея, ни скорпион, могучий владыка кустарников. Убереги наши голени от порезов мотыгой и мачете.
Пусть наши жены рожают мальчиков. Пусть при следующем пересчете жителей наших деревень нас окажется намного больше – и тогда мы принесем тебе в жертву корову, а не цыпленка, как после прошлого праздника Нового ямса. Пусть дети будут укладывать в землю своих отцов, а не отцы – детей. И да будут счастливы каждый мужчина и каждая женщина. И да сопутствует удача людям речной страны и народам страны лесов.
Он положил жезл офо па доску к икенге и окпоси, вытер рот тыльной стороной ладони и вернулся на прежнее место. Всякий раз, когда он молился за Умуаро, рот ему заполняла горечь. В Умуаро произошел большой раскол, и его недруги пытались взвалить вину за это на него. А все из-за чего? Из-за того, что он сказал правду перед лицом того белого. Но разве может человек, держащий священный жезл Улу, говорить заведомую ложь? Разве мог он рассказать эту историю не так, как он слышал ее из уст своего отца? Даже тот белый человек, Уинтабота, понял это, хотя он и явился из никому не ведомой страны. Он назвал Эзеулу единственным правдивым свидетелем. Вот это и обозлило его врагов – белый, прибывший издалека, высказал им правду, которую они знали, но не желали слушать. Что же это было, как не предзнаменование гибели мира?
Голоса женщин, возвращающихся от источника, нарушили ход мыслей Эзеулу. Ему не было видно их, потому что снаружи совсем стемнело. Новая луна, показавшись, снова ушла. Но ее появление оставило свой след в ночи. Тьма уже не была такая кромешная, как в последнее время, а какая-то просторная и открытая, словно лес с вырубленным подлеском. Женщины одна за другой восклицали «Эзеулу», приветствуя его, и он, с трудом узнавая каждую из них, отвечал на приветствия. Обойдя оби с левой стороны, они вошли во внутренний дворик через единственный другой вход – высокую резную дверь в стене из красной глины.
– Разве не видел я собственными глазами, как они отправились к источнику еще до захода солнца?
– Они ходили к роднику Нванджене, – ответил Нвафо.
– Понятно. – Эзеулу только сейчас вспомнил, что ближайший источник Ота со вчерашнего дня никем не посещается: оракул предсказал, что огромная каменная глыба, лежащая на двух скалах прямо над родником, скоро упадет и человек станет той подушкой, которую она подложит себе под голову. Ни один человек не подойдет теперь близко к этому источнику до тех пор, покуда алуси, которому он принадлежит и по имени которого назван, не будет умилостивлен.
Все равно, подумал Эзеулу, он задаст нагоняй той из них, которая принесет ему сегодня ужин с запозданием. Раз они знали, что придется идти за водой к Нванджене, должны были отправиться пораньше. Ему уже надоело получать ужин тогда, когда другие мужчины давным-давно поели.
Густой, басовитый голос Обики все громче и громче звучал в ночном воздухе, приближаясь к дому. Даже его свист был слышен лучше, чем иные мужские голоса. Сейчас он пел и свистел попеременно.
– Обика возвращается, – сообщил Нвафо.
– Рано сегодня ночная птичка домой летит, – сказал Эзеулу одновременно с ним.
– Как-нибудь он опять увидит Эру, – заметил Нвафо, намекая на то, как однажды ночью Обике уже явилось привидение. История эта рассказывалась так часто, что Нвафо казалось, будто он сам при этом присутствовал.
– На сей раз это будет Идемили или Огвугву, – усмехнулся Эзеулу.
Года три тому назад Обика вбежал однажды ночью в оби и бросился к отцу, весь дрожа от ужаса. Ночь была черная, и собирался дождь. Гром глухо громыхал во влажном воздухе, молнии полыхали беспрестанно.
– Что случилось, сын? – снова и снова спрашивал Эзеулу, по Обика лишь дрожал и не говорил ни слова.
– Что случилось, Обика? – крикнула его мать Матефи, которая уже прибежала в оби и теперь тряслась сильнее сына.
– Помолчи, – сказал ей Эзеулу. – Что ты увидел, Обика?
Немного успокоившись, Обика начал рассказывать отцу, что привиделось ему при свете молнии возле дерева уджили между их деревней, Умуачалой и Умуннеорой. Едва только Эзеулу услышал, в каком месте это произошло, как ему стало все ясно.
– Что же было дальше, после того как ты увидел это?
– Я понял, что это дух, и голова у меня пошла кругом.
– Не свернул ли он в кустарник, убивающий маленьких птиц? Слева?
Уверенность отца придала Обике мужества. Он кивнул головой, и Эзеулу со значением кивнул дважды. В дверях появились остальные женщины.
– Как он выглядел?
– Высокий, выше всех мужчин, которых я знаю. – Обика судорожно глотнул. – Кожа у него очень светлая… как… как…
– Одет он был бедно или так, как одеваются люди большого богатства?
– Он был одет как богач. На нем была красная шапочка с орлиным пером. – У Обики снова от страха зуб на зуб не попадал.
– Возьми себя в руки. Ты не женщина. Был у него слоновый бивень?
– Да. Он нес громадный бивень на плече.
Пошел дождь – поначалу отдельными тяжелыми каплями, которые звонко забарабанили по тростниковой крыше, словно падающие с неба камешки.
– Бояться, сын мой, тебе нечего. Ты видел Эру, Великолепного. Того, кто дарует богатство людям, снискавшим его расположение. Его иногда видят на том месте в такую погоду. Наверное, он возвращался домой из гостей – от Идемили или какого-нибудь другого бога. Эру причиняет вред только тем, кто дает ложные клятвы перед его святилищем. – Эзеулу так увлекся, восхваляя бога богатства, что можно было подумать, будто он сам – гордый жрец Эру, а не верховный жрец Улу – бога, который стоит высоко над Эру и всеми другими божествами. – Уж если Эру полюбит кого-нибудь, богатство польется к тому в дом рекой: ямс у него вырастает с человека, козы котятся тройнями, а куры высиживают по девять цыплят.
Дочь Матефи Оджиуго вошла с миской фуфу и миской похлебки, поприветствовала отца и поставила перед ним обе миски. Затем она обратилась к Нвафо:
– Иди в хижину своей матери, она уже кончила готовить.
– Оставь мальчика в покое, – сказал Эзеулу, которому было известно, как бесит Матефи и ее дочку его привязанность к сыну другой жены. – Пойди и позови сюда свою мать. – Он не притрагивался к еде, и Оджиуго поняла, что надвигается гроза. Она вернулась в хижину матери и позвала ее в оби.
– Сколько раз нужно повторять в этом доме, что я не желаю есть ужин, когда все мужчины в Умуаро уже ложатся спать, – произнес Эзеулу, как только Матефи вошла. – Но ты меня не слушаешь. Что бы я ни говорил, это оказывает на тебя не больше действия, чем ветры, что пускает пес, пытаясь задуть огонь…
– Я далеко ходила за водой – к Нванджене, вот и…
– Если тебе нравится, можешь ходить даже в Нкису. Но попомни мои олова: попробуй принеси мне ужин в такое время еще раз, и я мигом выбью дурь из твоей головы.
Когда Оджиуго пришла за мисками, Нвафо подъедал похлебку. Дожидаясь, пока он закончит, она кипела от возмущения. У себя в хижине она пожаловалась матери. Ведь это – не в первый раз, не во второй и не в третий! Это повторяется каждый день.
– Разве порицаем мы стервятника за то, что он садится на падаль? – сказала Матефи. – Как ты думаешь, что еще остается делать мальчишке, если его мать кладет в похлебку сладкие рожки вместо рыбы? А па сбереженные деньги покупает себе браслеты из слоновой кости. Но что бы она ни вытворяла, Эзеулу никогда ей ничего не скажет. Зато уж мне он всегда находит, что сказать.
Оджиуго посмотрела в сторону хижины Угойе в дальнем конце усадьбы. Сейчас она была погружена во тьму, если не считать видневшейся между низким навесом крыши и порогом полосы тусклого желтого света, отбрасываемого светильником, в котором горело пальмовое масло. На усадьбе стояла еще и третья хижина, как бы образующая полумесяц вместе с двумя другими. Прежде она принадлежала первой жене Эзеулу Окуате, которая умерла много лет назад. Оджиуго почти не помнила ее. Она помнила только, что эта женщина всегда давала кусочек рыбы или немного сладких рожков каждому ребенку, заходившему к ней в хижину, когда она варила похлебку. Окуата была матерью Адэзе, Эдого и Акуэке. Они жили в этой хижине после ее смерти, пока Адэзе и Акуэке не вышли замуж. Потом Эдого продолжал жить там один. Два года назад он женился и построил свою собственную маленькую усадьбу рядом с отцовской. Сейчас в той хижине снова жила Акуэке – с тех пор как она ушла из дома своего мужа. Говорили, муж плохо с ней обращался. Но мать Оджиуго утверждала, что это ложь и что Акуэке попадало за своевольный, гордый нрав.
– Когда женщина выходит замуж, она должна забыть, какой большой была усадьба ее отца, – повторяла она. – Ведь женщина не приносит с собой в усадьбу мужа отцовское оби.
Только принялись Оджиуго с матерью за еду, как до них донеслось пение и посвистывание возвращающегося домой Обики.
– Принеси-ка мне его миску, – сказала Матефи. – Сегодня он что-то рано явился.
Обика, нагнувшись, чтобы подлезть под низкий скат крыши, и вытянув вперед руки, ввалился в хижину. Он приветствовал мать, и та холодно ответила ему «Нно». Затем он тяжело опустился на земляное ложе. Оджиуго уже принесла его глубокую миску из обожженной глины и теперь доставала с бамбуковой полки фуфу. Матефи подула в миску, очищая ее от золы и пыли, и налила в нее похлебку. Оджиуго подала похлебку брату и вышла из хижины, чтобы принести ему воды в сосуде из тыквы.
После первого же глотка Обика наклонил миску к свету я начал придирчиво рассматривать ее содержимое.
– Что это такое, похлебка или кокоямсовая каша?
Женщины, оставив его слова без внимания, принялись за прерванный ужин. Что тут говорить, когда и так ясно, что он снова выпил слишком много пальмового вина.
Обика был одним из самых красивых молодых мужчин в Умуаро и во всей округе. У него были тонкие, точеные черты лица, а нос прямой и ровный, как звук гонга. Кожа его, так же как у отца, была цвета терракоты. Люди говорили о нем (как и всегда говорили при виде человека большой красоты), что он по ошибке родился в этих краях, среди лесных людей игбо, а в прошлой своей жизни он, должно быть, жил среди народа олу – так называли игбо людей, обитавших у реки.
Но Обику портили две вещи. Он злоупотреблял пальмовым вином и был подвержен внезапным приступам бешеного гнева. А так как Обика обладал к тому же огромной силой, от него то и дело кому-нибудь крепко доставалось. Отец, любивший Обику больше, чем Эдого, его единокровного брата, смирного и задумчивого, тем не менее все время твердил ему:
– Быть смелым и бесстрашным похвально, но иной раз, сын мой, лучше быть трусом. Ведь как часто мы, стоя во дворе труса, показываем на развалины усадьбы, где некогда жил храбрец. Мужчина, который никогда и ничему не покоряется, вскорости покорно ложится на погребальную циновку.
Но при всем том Эзеулу предпочитал, чтобы его сын был горячим, быстрым юношей, пусть бы даже он в спешке бил посуду, а не медлительной, осторожной улиткой.
Не так давно Обика чуть было не совершил убийство. Его единокровная сестра Акуэке уже не раз приходила домой к отцу жаловаться, что муж избил ее. И вот как-то рано утром она снова явилась с распухшим от побоев лицом. Обика, даже не дослушав ее до конца, ринулся в Умуогвугву – деревню, где жил его зять. По пути он зашел за своим приятелем Офоэду, который не пропускал ни одной драки. Когда они подходили к Умуогвугву, Обика предупредил Офоэду, чтобы он не помогал колотить мужа Акуэке.
– Зачем же ты тогда позвал меня? – спросил тот разочарованно. – Чтобы я держал твою сумку?
– Может, и для тебя найдется работа. Если мужчины из Умуогвугву – храбрецы, за каких я их принимаю, они толпой полезут защищать своего собрата.
В доме Эзеулу никто не знал, куда отправился Обика, покуда он не вернулся перед полуднем вместе с Офоэду. На головах они тащили кровать, к которой был накрепко привязан муж Акуэке, избитый до полусмерти. Положив его под уквой, они запретили кому бы то ни было переносить его оттуда. Женщины и соседи упрашивали Обику пожалеть несчастного и показывали на свисающие с веток спелые плоды, большие, как глиняные сосуды для воды.
– Вот еще! Я нарочно его там оставил – пускай его, негодяя, раздавят!
Дело кончилось тем, что поднявшийся переполох заставил Эзеулу, удалившегося в ближайший кустарник, поторопиться домой. Увидя, что происходит, он горестно возопил, что Обика хочет навлечь беду и погибель на его дом, и велел ему освободить зятя.
В течение трех базарных недель Ибе едва мог подниматься с постели. На четвертой неделе его родичи явились к Эзеулу искать удовлетворения. Когда все это случилось, почти все они работали на полях. Больше трех базарных недель они терпеливо ждали, чтобы кто-нибудь объяснил им, почему их родича избили и унесли из деревни.
– Что значит эта история с Ибе, которую нам довелось слышать? – спросили они.
Эзеулу постарался всячески успокоить их, выгораживая вместе с тем Обику, за которым не признавал сколько-нибудь серьезной вины. Он кликнул свою дочь Акуэке и велел ей встать возле него.
– Видали бы вы, на что она была похожа в тот день, когда вернулась домой! Неужели у вас в деревне принято такое обхождение с женами? Если таков ваш обычай, то прямо вам скажу, что со своей дочерью так обращаться я не позволю.
Мужчины из Умуогвугву согласились, что Ибе действительно давал волю рукам и что посему никто не может упрекнуть Обику, защитившего свою сестру.
– Ведь и мы о защите думаем, когда в молитвах наших просим Улу и предков преумножить наш род! – сказал их предводитель. – Конечно, много людей – много ртов, но если нас много, никто не посмеет чинить нам неприятности, и наши дочери смогут высоко держать голову в домах своих мужей. Так что мы не очень сильно виним Обику. Верно ли я говорю? – Его спутники ответили утвердительно, и он продолжал: – Мы не можем сказать, что твой сын поступил неправильно, заступившись за свою сестру. Однако одного мы никак не поймем: зачем надо было вытаскивать из дома и уносить из деревни взрослого мужчину, не мальчишку какого-нибудь? Ведь поступить так – это все равно что сказать: «Ты – пустое место, ничто, а родичи твои не могут за тебя заступиться». Вот чего мы не понимаем. Мы пришли не поучать тебя мудрости, а с просьбой просветить нас в пашей глупости, ибо свояк не ходит к свояку, чтобы учить его уму-разуму. Мы хотим, чтобы ты сказал нам: «Вы ошибаетесь; дело обстоит так-то и так-то». Мы удовлетворимся твоим объяснением и отправимся домой. Если впоследствии нам станут говорить: «Вашего родича избили и унесли», – мы будем знать, что ответить. Наш великий свойственник, я приветствую тебя.






























