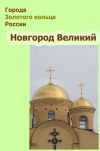Читать книгу "Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)"

Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XVII
Великий князь Иван Васильевич всея Русии
Наутро опять звонил вечевой колокол. Опять плачущий голос его разносился по всем концам. Опять вспугнутый ворон делал по небу круги все шире и шире, все выше и выше…
Вечевой звонарь колотил что есть мочи в свой «колоколушко», слезы катились из его одинокого глаза…
– Что, братцы, об чем вечат? Чево звонит вещун наш?
– Да, должно, об хлебе, об борошне[74]74
О брашне: брашно – еда.
[Закрыть]: вон жита не хватило, голод в городе…
– Да пшеница, сказывали, есть… Много навезено.
– Пшеница-то, братец, не про нас, житников, припасена, а про богатых, про пшеничников! Вот что!
– Посла нашево, чу, немцы к Каземиру не пропустили… Ни с чем ноне воротился.
– Как же топерево нам быть, братцы?
– Да за князя задаваться пришло, а то измором помрем!
– А князь-от головы нам, поди, долой, как в Русе вон Марфичу да Селезневу-Губе с товарищи.
– Ну, нас, худых мужиков, не про что, – бояр рази да житых людей?..
Вече готовилось быть бурное. Город наполнен был беглецами со всех новгородских волостей, разоренных московскими ратями, и в Новгороде оказалась недостача хлеба. Уже и теперь чувствовался голод, а что же будет дальше, когда москвичи осадят город! А уже ходят слухи, что великий князь, совершив казни в Русе и отослав важнейших новгородских пленников в Москву, готовился сам идти на Новгород.
Те, которые кричали прежде с голоса Марфы, теперь проклинали ее за «литовские посулы».
– Похвалялась море зажечь, синица-то наша, дуй ее горой!
– Осоромотила нас баба, братцы, – волновались бывшие приверженцы Марфы.
Она не смела показываться народу. Да и ее личное горе было слишком велико: кроме потери сына она потеряла веру в возможность осуществления своих тайных честолюбивых замыслов… Не бывать венцу киевскому и новгородскому на ее буйной голове. В два дня эта голова совсем поседела…
– Это не я, не я, не Марфа! – с ужасом шептала она, увидав себя в металлическом полированном диске, заменявшем тогда зеркало.
Она не верила зеркалу, она брала свои густые косы в руки – они были седые! Она подносила их к свету, расплетала, наматывала на руки – седые, седые!
– Это не мои косы, это – борода посаднича, это волосы Корнила-звонаря! – с горечью повторяла она. – Не мои! Не мои!.. И глаза… – всматривалась она в зеркало, – не мои глаза… Господи!.. Это старуха! – шептала она в отчаянье.
Она слышала звон вечевого колокола и догадывалась, в чем дело…
– Кричи! Кричи до неба! Кричи до Киева, чтоб слышал мой изменник! Кричи, зови Ивана московского!
Она ломала руки, не находила места… А колокол все звонил-надрывался…
– Звони! Звони по Марфе-посаднице…
…Голос Исачка:
– Что это, баба? Зачем ты седенькая стала? И мама лежит – недужна, хворая. Мы с ней вчера ходили смотреть, как Упадыша топили. И мама там испугалась.
Марфа только застонала…
А между тем толпа уже затопила собой вечевую площадь…
– Что – где ваш Коземир? – кричали «худые мужики», приступая с кулаками к сторонникам Марфы, Григоровичу, отцу Остромиры, к Пимену и другим. – Где он?
– Где ваша сука Марфа, что щенят своих не ублюла! Сказывайте!
Те стояли бледные, безмолвные, ожидая народной расправы – с мосту да в Волхов. Но народу было не до того – слишком тяжело было каждому…
По другую сторону, на серединке помоста, стоял посадник с «большими людьми». Василий Ананьин также успел постареть за это время. Лицо его осунулось, умные, ласковые глаза глубоко запали. Разве легко ему было сознавать, что в его именно посадничество такие великие беды обрушились на его город, на всю его страну!..
– Ах, детушки, детушки! Ах, посадничек, посадничек!.. – горестно качал головою вечевой звонарь, обозревая с высоты целое море голов новгородских. – Горьки, сиротски головушки!
Мужики посунулись к посаднику и к «большим людям», снявши шапки.
– Простите вы нас, окаянных! – кланялись они со слезами. – Согрубили мы вам – чинили свою волю да волю Марфину.
– Смилуйтесь, господо и братие, простите! – вопили мужики.
– Смертный час пришел, батюшки! Научите вы нас.
– Не слушались мы вас, больших умных людей, себе на погибель и послушались безумцев, что и сами наглостною смертию пропали и нас под беду подвели…
– Смилуйтесь, родные! Теперь уж будем вас во всем слушать…
– Не будем вам перечить – ни-ни! Ни боже мой!
– Пощадите нас и животишки наши, отцы родные!
– Не дайте Новугороду пропасть пропадом, миленькие! Идите добивать челом великому князю, чтоб помиловал нас, сирот горьких!
Тогда выдвинулся вперед Лука Клементьев – лукавый старикашка! – тот самый, что воеводил во владычнем полку и с умыслом, по наказу Феофила, опоздал к коростынской битве.
Он разгладил свою бороду, откашлялся…
– Вот то-то, братцы, – начал он, косясь на посадника, – коли б вы бабу не слушали и зла не починали, то и беды б такой не сложилось…
Мужики-вечники кланялись, охали, усиленно сопели, утирая пот с лиц и с затылков: день был жаркий – упека страх!
– Пусто б ей было, бабе-бесу! – ворчали они.
– Сказано – волос долог…
– Где черт не сможет, туда бабу пошлет…
– Так, так, братцы, – подтверждал Лука-лукавец. – Да добро-ста, лих-беда научила вас… Добро и то, что хоть топерево грех да безумие свое познали… Токмо мы, братцы, – он глянул на посадника, – не можем за экое дело сами взяться, а пошлем от владыки просить у великого князя опасу: коли даст опас – знак, что смирит свою ярость и не погубит своей отчины до конца.
– К владыке, братцы, к владыке! – заревело вече. – Будем просить опасу!
– На Софийской двор, господо вечники, к отцу Фефилу!
– В ноги ему, батюшке, упадем: смилуйся, пожалуй!
Толпа, как вешние воды через плотину, ринулась на Софийский двор.
Великий князь Иван Васильевич, совершив казни в Русе, двинулся с войском к Новгороду и 27 июля остановился на берегу Ильменя для роздыха.
Вечерело. Солнце серебрило косыми лучами небольшую рябь Ильменя, который, казалось, плавно дышал своею многоводною грудью и отражал в себе розоватые облачка, стоявшие на небе, далеко там, над Новгородом. Над станом стоял обычный гул.
Иван Васильевич вышел из своей палатки и в сопровождении братьев родных – Юрия и Бориса и двоюродного Михайлы Андреича, которые соединились с ним на походе, – приблизился к берегу Ильменя. За ними почтительно следовали князья, воеводы, бояре и неизменный ученый посох великого князя – Степан Бородатый.
Иван Васильевич и теперь, как и всегда, казался одинаковым: серьезен, сух и молчалив. Но и на него вид Ильменя с этою массою воды, которая – Иван Васильевич это помнил – принадлежала ему, как и земля, на которой стояли его владетельные козловые с золотом сапоги, с этим мягким голубым небом, которое тоже ему принадлежало, с этим мягким, теплым ветерком, осмелившимся ласкать его русую с рыжцою бороду – и на него, повторяю, сухого и чуждого всякой поэзии, этот вид произвел впечатление.
Он остановился, глянул на бояр, опять на Ильмень, на небо, на зеленевшие леса. Все пододвинулись к нему, заметив мягкость – редкое явление – на задумчивом лице своего господина.
– Красно, воистину красно творение рук Божиих! – сказал он со вздохом.
– Воистину, господине княже, – вставил свое слово Бородатый, – точно красно… Ино сказано есть в Писании: се что добро и се что красно, во еже жити братии вкупе…
– Так, так, – улыбнулся великий князь, – похваляю Степана – горазд воротити Писанием.
Все с почтительной завистью посмотрели на счастливца Степана.
Но Иван Васильевич, взглянув на Ильмень, воззрился в даль и осенил глаза ладонью. Прямо к тому месту, где они стояли, плыло какое-то судно.
– Кажись, новгородское…
– Точно, господине княже, новогородское, – подтвердили бояре. – Иха походка…
– Насад, господине княже, и хоруговь владычня в аере реет…
Великий князь направился обратно в свой шатер. Он не шел – «шествовал»: он догадался, что гордый Новгород смиряется наконец… «Сокрушил гордыню… То-то – не возноси рога», – стучало его жесткое сердце, и он шествовал плавно, ровно, не ступая по новгородской земле, а «попирая» ее…
– Эка шествует! – тихо, холопски любовался сзади Степан Бородатый. – Аки пардуст…
– Аки лев рыкаяй, – поддакнул кто-то из бояр.
– Яко орел… Ишь красота! – похолопил еще кто-то.
Действительно, к берегу пристал новгородский насад. Из насада вышли нареченный владыка Феофил, за ним попы от семи соборов новгородских, старые посадники и тысяцкие и житые люди, по одному от каждого «конца». В числе их находились Лука Клементьев – «лукав человек» и Григорович, отец Остромирушки. За ними слуги выкатили и вынесли из насада «всяки поминки» – взятки или подарки для московских бояр, для братьев великого князя и для него самого. Новгородцы уже знали «московски свичаи и обычаи»: к москвичам нельзя было являться с пустыми руками… «Пустая-де рука ничего не берет, и сухая-де ложка рот дерет».
Тут были и вина, и сукна, и шелка, и объяр[75]75
Объяр (тобъяр) – шелковая ткань с золотой или серебряной нитью.
[Закрыть], и всякое заморское узорочье…
Начались поклоны, доклады: доложились боярам и поклонились поминками.
Бояре поминки приняли и покрутили головами: «Ммы ничево-ста не могим… и на пресветлыя очи показаться не дерзаем… Мы-ста холопи… мы-ста черви, а не человеки, поношение человеком… Мы-ста доложимся их милостям – родным братцам осударя всеа Русии…»
Доложились их милостям… Поклонились поминками.
Их милости поминки приняли и головами покрутили: «Мы-де тоже ничево-ста не могим… Мы-де тоже холопи великаго князя осударя всеа Русии… Как он… Мы-ста доложимся»…
А новгородцы все кланяются… «Фу! вот земелька! Все кланяйся да кланяйся… Эх, и вышколили их татары на поклонах!»
Доложились великому князю… И слушать не хочет, и на очи не пускает… Сидит «аки вепрь»…
Братья упрашивают, умаливают сжалиться над своею отчиною – положить гнев на милость…
«Не положу, дондеже не сокрушу…»
Но наконец сжалился.
Ввели новгородцев в шатер. Шатер – словно церковь, а на возвышении восседает «сам» – холодный, каменный, как Перун… Бояре и князья полукругом – очей поднять не смеют, и Степан Бородатый шепчет псалом четыредесятый:
– «Помилуй мя, Боже, по велицей…» Ох!
Новгородцы пали ниц. Перун хоть бы векой пошевелил – камень и холод…
– Помяни, Господи, царя Давида, – шепчет «лукав человек» Лука, лежа окарач вместе с прочими…
Сопят новгородцы от непривычки кланяться… Приподнялись – не глядит Перун – это не глаза, а стекла – мертвые, холодные…
Владыка складывает дрожащие руки словно на моление.
– Господине! – со слезами в горле восклицает он. – Великий князь Иван Васильевич всеа Русии милостивый! – Голос его срывается, взвизгивает. – Господа ради, помилуй виновных пред тобою людей Великого Новгорода, отчины своей… – Владыка не может говорить – всхлипывает.
Моргает и «лукав человек»… У кого губы дрожат, у кого руки… А у Перуна все тот же стеклянный взгляд.
– Покажи, господине, свое жалованье! – плачет владыка. – Смилуйся над своею отчиною… Уложи гнев и уйми меч! – выкрикивает он.
Слезы текут по лицу, по бороде… Нет слов, нечего больше говорить… Камень, холодный камень перед ним на возвышении…
– Ох! Угаси, господине, огне на земли и не порушай старины земли твоея… Дай света видеть безответным людем твоим! Смилуйся, пожалуй, как Бог положит тебе на сердце!
Молчит, хоть бы слово, хоть бы движение. Все опять повалились наземь – колотятся головами… А он все такой же каменный…
Стали упрашивать братья. Молчит!
Повалились в ноги бояре – молчит!.. Мол, «сокрушу до конца»…
Бородатый выручил… Он зашуршал бумагой. Великий князь глянул на него и увидел у него бумагу – вспомнил: то была грамота митрополита – сжалиться над Новгородом.
Глаза Перуна ожили, он «прорек», по выражению Бородатого, «словеса огненны»:
– Отдаю нелюбье свое. Унимаю меч и грозу в земли. Отпускаю полон новгородский без окупа. А что залоги старые и пошлины – и о всем том укрепимся твердым целованьем по старине.
Холодом веяло от этих «огненных словес»… Но на этот раз туча прошла мимо Новгорода.
Глава XVIII
Последний посадник и последний вечный дьяк
Дорого обошлась Новгороду несчастная попытка отстоять свою вековечную волю.
– Эх, колоколушко, колоколушко! – изливал вечевой звонарь свое горе перед немым собеседником своим, задумчиво качая седой головой. – Оставили тебя, родимаго, нам на радость вороги наши, насытились, окаянные, новогороцкою кровушкой – и прочь пошли… А ты виси, виси, колоколец родной, виси до Страшнаго суда.
А на ворона он все продолжал сердиться за его людоедство.
– Эх ты, человекоядец подлой! Може, за твои окаянства все это сталось… Шутка сказать – сколько народу полегло у Коростыня да у Шелони, а туто еще копейное[76]76
Вид подати, в качестве военной контрибуции.
[Закрыть] добивай ему, аспиду, за нашу-де проступку… А какова наша проступка? Старину держать хотим. Эх! Так вот и добивай ему, аспиду, копейное – на Рожество полтретьи тысячи, да на Крещенье три тысячи, да на велик день пять тысящей… Легко молвить! Да опять-таки и на усиленье пять… Эх! – высчитывал он по пальцам то, что Новгород должен был выплатить великому князю «окупа».
– Вот ты и сочти, сыроядец подлой!.. Что клев-от чистишь? Али опять человечинку клевал? Чево ж ее не клевать! По всей земле новогороцкой аспиды человечины горы наметали, да еще и копейное добили. Эх!.. А с Козсмиром-де Новгород ни-ни! Не моги!.. Эх, Марфа, Марфа! Не задалось нам с тобой.
И он опять считал по пальцам, опять поглядывал на колокол…
– Что ж – на то воля Божья… Только живи ты, колоколушко, а мы наше наверстаем: была бы жива с нами наша воля да наш вечной колоколушко, так и мы на ноги станем.
Но трудно уже было Новгороду стать на ноги. Беда за бедой валилась на него.
Когда москвичи ушли с своими ратями восвояси, жители новгородских сел и пригородов, бежавшие в Новгород после московского погрома, теперь стали возвращаться на свои пепелища. Сколько слез они пролили, найдя свои родные гнезда разоренными! Но других постигли иные, более горькие бедствия. Жители Русы и всего заильменского побережья, возвращаясь к своим родным пепелищам, закупили готовые хоромы и на плотах везли их на родину вместе с женами и детьми. Целая вереница судов плыла по Ильменю. Но вдруг потемнело небо, завыли ветры, забушевал Ильмень… Старцы Перыня-монастыря видели, как на берегу Ильменя стояла какая-то простоволосая старуха. Ветер рвал ее седые волосы, а она стояла и руками махала на тучи: казалось, она призывала бури, громы и молнии… И громы разразились над Ильменем… Вереница судов и плотов была разбросана по озеру и поопрокидывана: все погибло в разъяренной стихии – и дома и люди… Одних людей потонуло до семи тысяч душ.
Прошло шесть лет. Марфа-посадница стала окончательно старухой. Она уже не мечтала об Олельковиче и о киевском венце и с горестью вспоминала былое счастье. Исачко подрастал и уже думал, как он возмужает и отмстит Москве за своего отца и дядю Федора, который тоже томился в московской неволе. Мать его давно была черничкой, а некогда его приятельница, ясноглазая Остромирушка, поврежденная рассудком, была неузнаваема: она все твердила, что ей нечем целовать Христа, и Христос от нее отвернулся…
Все в Новгороде точно постарело и осунулось. Горислава после казни Упадыша по целым часам сидела на берегу Волхова, безмолвно глядя в воду, как бы ожидая, что вот-вот выглянет оттуда рыжая голова и поманит ее за собою, но рыжая голова не показывалась из воды. На берегу Волхова давно уже не было слышно пения Гориславы, которое рыбаки принимали за пение русалки.
Простоватый и добродушный Петра, сердце которого зазнобила эта льняноволосая русалка, загулял с горя и все собирался в ратники, чтобы прельстить свою недотрогу шеломом и красным щитом.
А к кудеснице все чаще и чаще наведывались новгородцы и все о чем-то с ней шептались. В последнее время к ней чаще всего наведывались вечный дьяк Захар, что так хорошо разрисовал когда-то заставки в грамоте с королем Казимиром и который вместе с прочими был отпущен из московского полона, да подвойский Назар.
И вдруг в феврале месяце 1477 года Захар и Назар отправились зачем-то в Москву!..
– Вы почто к нам есте прибыли? – спрашивали их на Москве бояре.
– К осударю великому князю к Иван Василичу всеа Русии с челобитьем.
– К осударю? – переспросили бояре, точно не слыхали.
– К осударю-ста, – был вторичный ответ.
– И ты, Захар, к осударю? – новый лукавый вопрос.
– И я-ста к осударю.
– И ты, Назар, к осударю?
– И я-ста к осударю.
Бояре лукаво переглянулись между собою.
– Так стоите на том, что к осударю? – опять заладили бояре.
– Да что вы наладили – к осударю да к осударю! Знамо, к осударю, а не к вам, – вспылил наконец вечный дьяк.
– Добро-ста. Помните это слово…
– Помним – не забыли.
– По-русскому, чаю, говорим.
– Добро-добро, к осударю…
Бояре оставили челобитчиков и торопливо пошли к великому князю. Они доложили ему, что новгородские челобитчики, вечный дьяк Захар Овинов да подвойский Назар, в челобитьях своих назвали его, великого князя, «осударем», и стоят-де на том накрепко.
По бесстрастному, каменному лицу деда Грозного прошло как бы что-то светлое – не луч и не тень, и холодные глаза холодно блеснули…
– Государем именуют – точно? – тихо спросил он.
– Точно, осударем, господине княже.
– И стоят на том?
– Стоят накрепко.
– Хорошо! Похваляю вас.
«Собиратель земли русской» глубоко вздохнул, точно бы камень свалился с его груди: он нашел «зацепку», которой напрасно искал столько лет… Сами новгородцы назвали его «государем» – «титло государское дали»…
Через полтора месяца в Новгород явились послы великого князя… Как? Зачем? Никто ничего не знал.
Заговорил вечевой колокол, замоталась из стороны в сторону седая голова Корнила-звонаря.
Собралось вече. Явились на помосте московские послы.
– Шапки! Шапки долой! – послышалось в толпе.
Послы были в шапках, потому, может быть, что видели, что и все вече не сымало шапок.
– Долой шапки перед Господином Великим Новгородом! – закричали уже сотни голосов.
– Перед Новгородом, что перед храмом Божим, ломай шапку!
– Новгород – та же церква! Сымай шапки, не то сшибем!
Послы сняли шапки; но говорить медлили.
– Сказывайте! Почто есте посланы? – раздавались голоса.
Один посол выступил вперед, поклонился и откашлялся.
– Осударь великий князь Иван Васильевич всеа Русии, – начал он немножко дрожащим голосом, – велел спросить Новгород, отчину свою: какого государства он хочет?
Все, казалось, замерло после этих слов, точно все дышать перестали. Так бывает в воздухе перед бурей, когда птицы торопятся под деревья, а деревья как бы головы склоняют от страху.
И буря разразилась. Заходили плечи и головы, замахали руки…
– Государства! Каково государства?
– Мы не хотим никаково государства!
– Не надоть нам государства!
– Мы сами государство!
Посадник, стоявший рядом с послами тоже без шапки, был бледен. На груди его заметно колыхалась золотая гривна.
– Ишь осерчали дитушки, – улыбался с своей колокольни звонарь. – Осерчал Господин Великий Новгород. Поделом им, татарским объедкам…
Когда буря несколько утихла, московский посол снова откашлялся.
– Дайте слово молвить, – начал он.
– Говори да помни, где ты!
– Великий Новгород, – продолжал посол, – посылал к великому князю от владыки и от всех людей Великого Новгорода послов своих, Захара да Назара, бить челом о государстве, и послы назвали великого князя государем!
Эти слова вызвали новую бурю…
– Вече никово не называло?
– Вече никогда не называло великово князя государем! Какой он нам государь!
– От века того не бывало, как и земля наша стала, чтоб какого ни на есть князя мы называли государем!.. Не бывало того!
– Всяково князя свово мы называли господином, а не осударем!
– Осударей у нас не бывало и не будет!
– А что вашему князю сказывали, будто мы посылали – и то сказывали ложно!
– Давай сюда Захара! Где Захар?
– Подавай сюда Назара! Мы их спросим!
Десятские бросились искать Захара и Назара. Голоса то возвышались до крику, то падали. Более степенные люди просили посла объяснить им, какая разница между «господином» и «государем».
– Осударь – титло.
– Что ж такое, что титло… А? Прислушайте, господо и братие: он об осударевой титле нам скажет.
– О какой такой титле? Знать не хотим никакой титлы!
– Да ты допреж выслушай, да тогды и ори!
– Я не ору…
– Полно, слушайте, братцы!
Кое-как удалось угомонить крикунов. Они замолчали – и все стихло. Посол заговорил:
– Титло есть слово великое… Коли вы великаго князя осударем назвали, и то знак, что вы за нево задались, и тогда следует быть ево суду в Великом Новгороде, и тиунам ево сидеть по всем улицам, и Ярославов дворище великому князю отдать, и в суды ево не вступатца…
Опять буря – еще сильнее прежней. Застонало вече.
– Так вот она, титла?
– Кака она, титла! Она не титла, а петля на шею Великому Новугороду!
– Нашли китлу!.. К черту ее! К черту китлу!
– Не китла, а титла!
– Все едино! Один черт на дьяволе!
– Захара подавайте сюда!
– Назара тащите на вече!.. Как смели они ходить в Москву судитца и крест целовать великому князю как осударю!.. Этого от века не бывало!
– И в докончанье сказано, чтобы новогородца не судить на низу, а судить в Новегороде! Тащи сюда тех, кто ездил на них судитца!
– Ишь китлу выдумали!.. И народец же!
Сквозь толпу с трудом протискивались десятские с бердышами. Они вели виновных.
– Пропусти! Вечново дьяка ведут, Захара!
– Назара пропустите, братцы, к помосту!.. Пускай ответ держат!
Бледные и трепещущие, подошли виновные к помосту. Они глянули на посадника – тот не смел, по-видимому, поднять на них глаз и глядел в землю.
– Переветник! – схватил за грудки вечного дьяка ближайший новгородец. – Ты был у великово князя, ты целовал ему на наши головы крест? Сказывай!
Вечный дьяк заговорил, но слова замирали у него в горле. Он сделал над собой усилие и крикливо, точно с плачем, бросал слово за словом, размахивая руками:
– Точно – я был у великово князя… целовал ему крест… Но целовал в том, что служить мне великому государю…
– Осударю! Слышите?.. Это китла!
– Служить мне правдою и добра хотеть… Токмо не на государя моево Великий Новгород.
– Опять китла! И на Новгород китлу накинул, переветник.
– Ни-ни!.. Не на Новгород и не на вас, свою господу и братью…
Голос его совсем порвался. С лица крупными каплями катился пот… Он упал на колени.
– И Назар ходил за китлой! Сказывай, Назарьище!..
Тот стоял безмолвно и только дрожал.
– Говори! Зачем ходил?
– Посадник…
– Что посадник?
– Посадник посылал…
– А! Посадник!.. И посадник переветник!.. Продали нашу волю!
Через несколько минут вместо посадника Василия Ананьина, вечного дьяка Захара Овинова и подвойского Назара на площади, у помоста, валялись безобразные клочки кровавого мяса.
– Не дам тебе, подлому, мясца ихово – каркай не каркай, – бормотал звонарь, грозя кружившемуся над площадью и каркавшему ворону и сметая метлой в одну кучу остатки тел погибших – посадника, вечного дьяка и подвойского. – Не дам ни волоса, не каркай…
Немного осталось этих «остатков реликвий»: все прочее разнесли на сапогах да на лаптях «худые мужики-вечники»… Экое времечко!