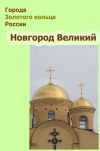Читать книгу "Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)"

Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но дед Грозного подумал об этом раньше. Он знал, что и курица защищается, когда ее режут, что и воробей клюет когти ястреба, пока они не растерзают его, не лишат способности трепыхаться.
А Новгород еще трепыхается… Надо его выморить совсем… Надо так «ускромнить» это племя, чтоб его и на семена не осталось, чтоб не взошло оно вновь, не дало новых порослей… Тогда уже новгородская земля «не отрознится» от низовской земли, от Москвы…
Вот что думал «собиратель земли русской» – и не пустил новгородских послов из своего стана. Он знал, что в городе мор – пусть же вымрут сами змееныши, волею Божиею, а не его, великого князя, повелением…
И оно вышло так, как он удумал – «как ему Бог и Пречистая его Матерь на сердце положили».
30 декабря явился в стан последний защитник Новгорода – наш старый знакомый, князь Василий Шуйский-Гребенка.
Послы увидели его, обрадовались было ему, как родному: свой человек, долго жил с ними, бился за Великий Новгород, за святую Софию и за волю новгородскую.
– Что, князь Василей, почто прислан? – спросил его владыка, осеняя крестом.
– Я, владыко святый, не прислан. Сам пришел.
– Что так, княже?
– Вчерась откланялся Господину Великому Новугороду.
Феофил, казалось, не понимал его – он не хотел понимать.
– Что, княже?.. Не уразумею я тебя.
– Вчерась, говорю, на вече, пред всеми оставшимися вживе людьми сложил есми с себя крестное целованье Господину Великому Новугороду, благодарил за хлеб, за соль… Уже я Новугороду не слуга…
Владыка все понял. Но ему страшно было спрашивать дальше – и все-таки спросил:
– А как же мы?
– Надоть покоритца – на то воля Божья… Новгород уже, владыко, не Новгород, а, сказать бы, пустой улей – пчелки все, почитай, вымерли, и мед осы растаскали… Я пришел служить Москве.
Великий князь ласково принял последнего потомка некогда могущественных, а потом низложенных владетельных князей суздальских – «захудалаго» князя Василия, последнего «кормленаго» князя Господина Великого Новгорода.
Узнав от него, в каком отчаянном положении находится Новгород, Иван Васильевич приказал позвать к себе новгородских послов на очи. Они ожидали услышать от него последнюю волю, но услыхали опять что-то старое, загадочное, зловещее.
– Вы мне били челом, чтоб я отложил гнев свой, не выводил бы людей из новгородской земли, не вступался в вотчины и животы людские, чтоб суд был по старине и чтоб вас не наряжать на службу в низовские земли, – проговорил он, глядя неподвижно на наперсный крест Феофила. – Я всем сим жалую отчину свою, Великий Новгород.
И ни слова больше. Поворотился и велел послам уходить. Те поклонились и попятились к дверям… Зачем же звал?.. Они это давно от него слышали… Новое лукавство!
А лукавство было вот в чем. Едва послы вышли, как к ним вышли и бояре.
– Великий князь велел вам сказать вот что: чтоб-де наша отчина, Великий Новгород, дал нам волости и села: нам-де, великим государям, немочно без того держать свое государство на своей отчине, в Великом Новегороде.
Надо было отдать и села, и волости – все отдать! Да еще дань – по полугривне с сохи!
Убитые горем и измученные, не смея поднять глаз к родному небу и на Святую Софию, возвращались послы в свой некогда шумный и веселый, а теперь почти вымерший улей.
Проходя мимо вечевой колокольни, они не решались поднять глаз, чтобы взглянуть на свое сокровище – на вечевой колокол, как ни хотелось им видеть и слышать его в последний раз…
Но с этого дня колокол уже не звонил!
– Переставился, колоколушко мой!.. Помер, помер, родной мой батюшка… О-ох! – рыдал навзрыд вечевой звонарь, обнимая и целуя холодную медь…
Глава XXI
Увозят вечевой колокол и Марфу-посадницу
– Князь великий Иван Васильевич всея Русии, государь наш, тебе, своему богомольцу, владыке, и своей отчине, Великому Новгороду, глаголет так: «Ты наш богомолец, Феофил, со всем освященным собором и вся наша отчина, Великий Новгород, били челом нашей братьи о том, чтоб я пожаловал – смиловался и нелюбие сердца сложил. Я, князь великий, ради своей братьи жалую свою отчину и отлагаю нелюбие. Ты, богомолец наш архиепископ, и отчина наша написали грамоту, на чем-де били нам челом и целовали крест, ино пусть топерь все люди новгородские, моя отчина, целуют крест по той же грамоте и оказывают нам должное. А мы вас, свою отчину, и впредь хотим жаловать по вашему исправлению к нам».
Так говорил князь Иван Юрьич всему Новгороду от имени великого князя. Это было 15 января 1478 года. Он говорил на Софийском дворе – там, где когда-то мы видели весь Новгород при избрании владыки Феофила. С того времени прошло восемь лет, а как изменился с тех пор Новгород! Как редки стали толпы, слушавшие теперь московского оратора.
Они точно не понимали, что им говорилось: так дико звучали в их ушах слова – «смиловался», «нелюбие сердца сложил», «жаловать хотим»; так не согласовались эти слова с тем, что они видели, что пережили… «Где же Бог? – думали они. – Где правда?»
«А вон где Бог, вон где правда: у владыки Феофила в руках, на серебряном кресте… Вон где Бог – на кресте!.. Правда распята – вон где правда на земле – на кресте она, правда-то… И ручки и ножки гвоздями прибиты, да крепко-крепко ко кресту приколочены, чтоб и не сойти ей, правде-то, со креста… И ребрушки у правды-то, у Бога, прободены копием, до самого сердца прободены, за то, что любовию к бедным людям билось это сердце… Так вон где Бог!.. А мы ищем его… Вон Он – и святую головку на плечико склонил»… – в каком-то забытьи думал придблянин, глядя на распятие, которое сверкало в руках владыки.
– Целуйте слово и крест Спасителя нашего! – возгласил князь Иван Юрьич.
И все стали целовать книгу, что сохранила слова Спасителя, и крест, на котором Его распяли… Это присягали новому государю – уже не Господину Великому Новгороду.
Присяга шла по всем соборам, по всем церквам, во всех пяти концах. Бояре, бывшие посадники, тысяцкие, житые и бывшие власти Новгорода приводились к присяге на Софийской стороне московскими боярами, а на торговой стороне – детьми боярскими и дьяками.
По церквам, площадям и улицам слышался плач. Новгородцы целовались и прощались друг с другом, знакомые и незнакомые, друзья и недруги, кланяясь один другому в землю словно в Прощеный день.
Видя слезы старших, по всему Новгороду плакали дети, отыскивая матерей и отцов, которых гнали к присяге. Слышался лай и вой собак, которые на лицах людей читали что-то недоброе. Ревел некормленый скот, которого давно и кормить было нечем.
Многие спешили на могилы отцов, чтобы проститься с ними и с новгородскою волею.
Слепой Тихик, ходя по улицам, продолжал петь «со святыми упокой». Во всех церквах шел перезвон как по покойнике. Это заметили москвичи и не велели звонить. Тогда общий плач стал еще слышнее и раздирательнее. Павша Полинарьин, бывший жених Остромиры, пригнанный в церковь для присяги вместе с прочими, не хотел целовать креста.
– Целуй слово и крест Спасителя нашего, – напомнил ему Бородатый.
– Мне нечем целовать, – отвечал Павша.
– Как нечем, малый?
– Видишь – мои губы ворон склевал.
– Ну, приложись так.
– Я не пес, чтобы Христа зубами тыкать.
– Так я те в зубы-те крестом!
И Бородатый действительно ударил Павшу в зубы крестом, но получил такой сдачи, что сам потерял три зуба. Павшу взяли «за приставы» – и его белые зубы вместе с челюстями и черепом сгнили потом где-то далеко в «низовской земле», за Окою…
У Ярославова дворища, на вечевой площади, собрались последние вечники, чтобы проститься с колоколом. Но москвичи не пустили их на колокольню: они сами туда отправились снимать колокол.
Старик звонарь заперся было на своей башне, но москвичи выломали дверь и взошли на башню. Звонарь встретил их с оружием в руках – с старым, заржавленным бердышом, которым он в блаженное время лучину себе щепал по зимам; но бердыш у него отняли и сбросили с колокольни, а самого хотели связать. Старик с плачем бросился им в ноги.
– Батюшки! Родимые! Дайте простица с колоколушком! Родимые, не погубите! – вопил он так горько и беспомощно, что москвичи сжалились над стариком.
– Ну, прощайся, старина… Али он тебе сыном был?
– Батюшки! Голубчики! Сыночек он мне… Отец родной… кормилец мой! – бессвязно бормотал старик.
Он обхватил колокол руками, колотился об него головою, целовал, плакал, приговаривая:
– Прощай, колоколушко! Прощай, сыночек, золото мое – серебро!.. О-о!
– Полно, старина, будет тебе плакатца-то!.. Ишь, словно с жаной цалуетця… – Старика оттащили от колокола и стали снимать новгородскую вековую святыню. Колокол, казалось, стонал, но так глухо, точно в самом деле умирал.
Старик как помешанный бегал то к тому, то к другому, ломая руки.
– Батюшки! Голубчики! Легче! Не ушибите вы ево, не уроните! Для Бога прошу – легче!.. Не так… не так, кормильцы!.. За ушко-то легче, не отломите! Ох, язычок-от не надо… не надо трогать… легче! Не зашибите… Бочком… бочком ево, золото мое червонное…
Встревоженный вознею на колокольне, ворон заметался и закаркал над самыми головами москвичей, задевая их крыльями.
– Кой черт! Откудова он взялся!.. Ах, аспид! – удивлялись москвичи.
– Чур… чур!.. Ах ты, дьявол!
Крик ворона, казалось, усилил отчаянье старика. Он всплеснул руками:
– Воронушко! Миленькой! Смотри… Смотри! Берут ево, берут колоколец наш… Господи! Что ж это будет…
С площади смотрели новгородцы и горько качали головами.
– Эх! Христа со креста сымают – и греха на них нетути… Жиды, сущии жиды!..
Когда колокол спускали с колокольни, он раза два прозвонил.
– Заговорил, заговорил колоколушко! – кричал старик, сбегая с помоста. – Прощаетца с Новгородом… О-ох!
Площадь уже была полна народом, но ее, для порядка, стеной окружали московские и татарские конники. Тут же, под колокольней, стояли уже сани-дровни, которые должны были везти колокол в московский стан.
– Заговорил, батюшка!.. Заплакал колоколец!.. Прощаетца с детушками!
Стоны и вопли новгородцев, смотревших, как тихо, качаясь и вздрагивая, спускалась вниз их древняя святыня, заглушили последние, «незаконные» удары колокола, глашатая утраченной ими воли.
– Прощай, прощай, наш вечной колокол! – раздавались голоса, – Прощай, родимый! Прощай, наша волюшка!
Опускаясь все ниже и ниже, колокол стал прямо на сани. Толпа бросилась было прощаться с ним, но конники всех отпирали от саней. Не отгоняли одного звонаря – так он был жалок. Даже один татарский конник, видя, как старик, голося и причитая, бегал вокруг саней и то соломки под бока колокола подсовывал, «чтоб ему помягче было», то вытирал его полой своего зипунишка, сжалился над стариной.
– Зачим, бачка, плакал? Он и на Москву зыванить будет – ай-ай хорошо!
Сани тронулись, сопровождаемые отрядом конников. На облучке саней сидел знакомый уже нам татарин Ахметка, тот самый, что в Русе рубил головы Димитрию Борецкому с товарищами, и правил лошадьми. Звонарь еле успевал за своим колоколом.
За санями же, по сторонам, шли толпы новгородцев. Многие из них также плакали, особенно бабы, а когда сани равнялись с чьим-либо домом, то все выбегали за ворота, снимали шапки, кланялись и крестились, точно бы мимо них провозили покойника.
Когда сани с колоколом, выехав из Словенского конца, проследовали через «великий мост» и въезжали в конец Людин, то на самом Побережье встретились с другими санями, пошевнями, тоже окруженными конниками и тоже следовавшими по направлению к загородному селу боярина Логинского, где теперь был стан великого князя.
В пошевнях, в богатой собольей шубе, закутанная черным платком, из-под которого кое-где выбивались прядочки седых волос, сидела старуха, по-видимому погруженная в глубокую думу. Морщины, такие резкие и отчетливые, бороздили ее некогда красивое лицо. Она, казалось, ничего не видела. Рядом с ее санями шел юноша, высокий и стройный, в богатой шубе и высокой боярской шапке, из-под которой выбивалась целая масса черных вьющихся кудрей. Он часто оглядывался назад, на Новгород, и, казалось, прощался с ним.
Это везли в московский стан Марфу-посадницу, и рядом с нею шел ее внучок, теперь уже совсем большой юноша, лет семнадцати-восемнадцати, и уже не Исачко, а Исаак Борецкий – последний из рода Борецких, посадников Господина Великого Новгорода.
Марфа смотрела совсем старухой.
Увидав колокол и плачущего за ним звонаря, она перекрестилась.
В это время, пробившись сквозь ряд конников, к Марфиным саням с плачем бросилась какая-то девушка. Голова ее не была прикрыта, и льняные волосы, совсем незаплетенные, трепались по ветру, окутывая и плечи ее, и миловидное личико.
– Матушка моя родимая! Мама моя милая! Возьми меня с собою!.. Для чево ты раньше не признала меня, не сказала мне, что я чадо твое! Матушка!.. Мне крестница все сказала и крест твой отдала мне. О, проклятая я! Сгубила Новгород! Я тебя сгубила, матушка!
Марфа вся задрожала, услышав эти крики девушки. Она приподнялась, протянула руки:
– Иди, иди ко мне, дитятко! У меня никого не осталось. Я мать твоя проклятая… Я боялась суда людского – и покинула тебя… А Бог наказал меня. Иди же ко мне, чадо мое милое!..
И она закутала шубою молодую девушку, крестя и целуя ее. Это была Горислава, мнимая внучка кудесницы.
Поезд не останавливался. Впереди ехала Марфа, а за нею следовал колокол. Старый звонарь уже не плакал – нечем было. Зато ворон, видя своего воспитателя в необычном месте и в необычной обстановке, отчаянно каркал, летая над поездом…
Державный Плотник
Часть I
1
В глубокой задумчивости царь Петр Алексеевич ходил по своему обширному рабочему покою, представлявшему собою, в одно и то же время, то кабинет астронома с глобусами Земли и звездного неба, с разной величины зрительными трубами, то мастерскую столяра или плотника и кораблестроителя, с массою топоров, долот, пил, рубанков, со всевозможными моделями судов, речных и морских, со множеством чертежей, планов и ландкарт, разложенных по столам.
Что-то нервное, скорее творческое, вдохновенное светилось в выразительных глазах молодого царя.
Была глубокая ночь. Но сон бежал от взволнованной души царственного гиганта. Он часто, подолгу, останавливался в раздумье перед разложенными ландкартами.
– Морей нет, – беззвучно шептал он, водя рукою по ландкартам. – Земли не измерить, не исходить… От Днестра и Буга до Лены, Колыми и Анадыри моя земля, вся моя!.. И у Александра Македонского, и у Цезаря, у Августа, у всего державного Рима не было столько земли, сколь оной подклонилось под мою пяту, а воды токмо нет, морей нет… Нечем дышать земле моей… Воздуху ей мало, свету мало… Так я же добуду ей воздуху, и свету, и воды, воды целые океаны!
Он с силою стукнул по столу так, что юный денщик его, Павлуша Ягужинский[80]80
Павел Иванович Ягужинский (1683–1736). Сын органиста лютеранской церкви, один из ближайших сподвижников Петра I, в конце жизни – генерал-прокурор Сената.
[Закрыть], приютившийся за одним из столов над какими-то бумагами, вздрогнул и с испугом посмотрел на своего державного хозяина.
Но Петр не заметил того. Ему вспомнилось все, что он видел во время своего первого путешествия по Европе. Это был какой-то волшебный сон… Корабли, счету нет кораблям, которые бороздят воды всех океанов, гордые, величественные корабли, обремененные сокровищами всего мира… А у него только неуклюжие струги, да кочи, да допотопные ушкуи…
– У махонькой Венецеи, кою всю мочно шапкой Мономаха прикрыть, и у той целые флотилии… Голландерскую землю мочно бы пядями всю вымерить, а на поди! Кораблям счету нет! – взволнованно шептал он, снова шагая по своему обширному покою.
Добыть моря, добыть!.. Не задыхаться же его великой земле без воздуху!.. На дыбу, духовно, поднять всю державу, весь свой народ, и добыть моря, чтоб протянуть державную руку к околдовавшей его Европе… Через Черное море, через Турскую землю – далеко, это не рука… А там, за Новгородом и Псковом, где его пращур, Александр Ярославич, шведскому вождю Биргеру «наложил печать на лице острым мечом своим», там, где он же на льду Чудского озера поразил наголову ливонских рыцарей в «Ледовом побоище», там ближе к Европе…
– Токмо б морей добыть! – повторил царь.
А корабли будут! Лесу на корабельное строение не занимать стать, всю Европу русским лесом завалить хватит… Корабельное строение уже кипит по всем рекам… Все корабельные «кумпанства» уж к топору поставлены, горит работа! На рубку баркалон[81]81
Б а р к а л о н ы – суда для Азовского флота, итальянского образца, строились с 1698 по 1700 г.
[Закрыть] в шестнадцать с лихвой сажен длины и четырех ширины ставят топор да пилу бояре да владыки казанский и вологодский… К баркалонам чугунных пушек льется от двадцати шести до сорока четырех на каждое судно. На барбарские[82]82
Б а р б а р с к и е с у д а (берберские) – турецкого образца, строившиеся в подвластных Турции североафриканских провинциях.
[Закрыть] суда ставят топор и пилу гостинные кумпанства. А там еще бомбардирский да галеры… А орудий хватит…
Вдруг царь как бы очнулся от всецело поработивших его государственных дум и взглянул на Ягужинского, которого, казалось, только теперь заметил, и был поражен его необыкновенной бледностью и выражением в его прекрасных черных глазах чего-то вроде немого ужаса.
– Что с тобой, Павел? – спросил он, останавливаясь перед юношей. – Ты болен? Дрожишь? Что с тобой?
– Государь!.. Я не смею, – бормотал юный денщик бледными губами.
– Чего не смеешь? Я к тебе всегда милостив.
– Не смею, государь… но крестное целованье… моя верность великому государю…
– Говори толком! Не вякай.
– Царь-государь!.. На твое государево здоровье содеян злой умысел… хульные слова изрыгают…
– Знаю… не впервой я, чать… От кого? Как узнал?
– Приходила ко мне, государь, попадья Степанида, в Китай-городе у Троицы, что на рву, попа Андрея жена, и отай сказывала, что пришед-де в дом певчего дьяка Федора Казанца, зять его, Федора, Патриаршей площади подьячий Афонька Алексеев с женою своей Феклою и сказали: живут-де они в Кисловке, у книгописца Гришки Талицкого, и слышат от него про тебя, великого государя, непристойные слова, чево и слышать невозможно.
Павлушка говорил торопливо, захлебываясь, нервно теребя пальцы левой руки правою.
– Ну?
– Да он же, государь, Гришка, – продолжал Ягужинский, – режет неведомо какие доски, а вырезав, хочет печатать, а напечатав, бросать в народ.
– Ну?
– Да он же, государь, Гришка, те свои воровские письма, да доски, да и тетрати[83]83
Так в то время писали и говорили.
[Закрыть] отдал товарищу своему Ивашке-иконнику.
– Ну? И?
– И та, государь, попадья Степанида сказывала мне, что оный Гришка Талицкий составил те воровские письма для тово: будто-де настало ныне последнее время и антихрист-де в мир пришел…
Ягужинский остановился, боясь продолжать.
– Досказывай! – мрачно проговорил царь.
– Антихристом, – запинался Павлушка, – он, государь, Гришка, в том своем письме ругаясь, писал тебя, великого государя…
– Так уж я и в антихристы попал, – нервно улыбнулся государь, – честь не малая.
– Да он же, государь, Гришка, также-де и иные многие статьи тебе, государю, воровством своим в укоризну писал: и народном-де от тебя, государя, отступиться велел-де и слушать-де тебя, государя, и всяких податей тебе платить не велел.
– Вот как! – глухо засмеялся Петр. – С сумой меня пустить по миру велит! Вот тебе и «корабли»… Ну?
– А велел-де, государь, тот Гришка взыскать, во место тебя, царем князя Михайлу Алегуковича Черкасского…
– Ого! Ну, ну!
– Через того-де князя хочет быть народу нечто учинить доброе.
– Так, так… Будем теперь в ножки кланяться Михайле Алегуковичу… Ну!
– Да он же, государь, вор Гришка, для возмущения к бунту с тех своих воровских писем единомышленникам своим и друзьям давал-де письма руки своей на столбцах, а иным в тетратях, и за то у них имал-де деньги.
Теперь Петр слушал молча, величаво-спокойно, и только нервные подергивания мускулов энергичного лица, оставшиеся у него еще с того времени, когда он совсем юношей, чуть не в одной сорочке и босой, ночью ускакал из Преображенского в Троицкую лавру от мятежных приспешников его властолюбивой сестрицы Софьи Алексеевны, которая давно сидела теперь в заточении тихих келий Новодевичьего монастыря.
– Все? – спросил он.
– Нет, государь. Попадья сказывала, что он же, Гришка, о «последнем времени» и о антихристе вырезал две доски, а на тех досках хотел-де печатать листы и для возмущения же к бунту и на твое государево убийство…
– Убийство!..
– Так, государь, та попадья сказывала…
– Ну?
– Он-де, государь, Гришка, писал оное для того: которые-де стрельцы разосланы по городам, и как-де государь пойдет с Москвы на войну, а они, стрельцы, собрався, будут в Москве, чтоб они-де выбрали в правительство боярина князя Михайлу Алегуковича Черкасского, для того-де, что он человек доброй и от него-де будет народу нечто доброе.
– Так… Дай бог, – иронически заметил Петр. – Все?
– Нету, государь! Оная попадья еще сказывала, будто-де тамбовский епискуп Игнатий, будучи в Москве, с Гришкой-де о последнем веце, и о исчислении лет, и о антихристе…
– Это обо мне-то?
– О тебе, государь, разговаривал и плакал, и Гришку целовал…
– Так уж и архиереи… Вон куда яд досягает!.. А сие что? – спросил Петр, указывая на лежавшие на столе тетради.
– Попадья то ж принесла.
Царь взял тетради.
– А! «О пришествии в мир антихриста и о летех от создания мира до скончания света», – прочитал он. – Так, так… А вот и «Врата»… Вижу, вижу… Это «врата» в Преображенский приказ, в застенок, на дыбу, – качал он головой. – Все?
– Все, государь.
Заметив, что его юный денщик от страху едва стоит на ногах, царь отрывисто сказал:
– Спасибо тебе, Павлуша, за верную службу. А теперь ступай спать… Я сам просмотрю сии тетрати… Да! Для чего твоя попадья к тебе заявилась с своим изветом, а не в Преображенский приказ, к князю-кесарю?[84]84
То есть к Ромодановскому Федору Юрьевичу (ок. 1640–1717), ведавшему делами по политическим преступлениям.
[Закрыть]
– Боялась, государь.
– Ну, ступай.