Текст книги "См. статью «Любовь»"
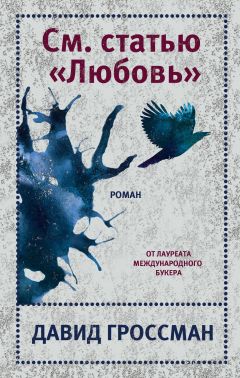
Автор книги: Давид Гроссман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава третья
Я не забыла, Бруно, и никогда не забуду того мгновения, когда ты вошел в меня. Эту свербящую боль, как от мучительной рваной раны, которую я ощутила в то мгновение, когда ты бросился с мола. Твое тело пылало жаром и попахивало чем-то непривычным – от него шел какой-то особенный душок, который вначале я приняла за признак сладострастного возбуждения, свойственного созданиям вроде тебя, и только позднее мне стало ясно, что это запах отчаяния, что в тебе имеется такая железа, вырабатывающая секрет отчаяния, но тогда у меня просто не было времени раздумывать и выяснять что и как, был только этот ужасный-ужасный удар, ожог, длинный разрыв, наверняка как во время родов, и я вся рванулась к тебе, мгновенно сжалась вокруг тебя, подтянулась к тебе со всех параллелей и меридианов и с бешеной злостью понеслась по самым бурным волнам, какие только сумела ухватить, из Малаккского пролива, потому что именно там я тогда уснула (просто легкая послеобеденная дрема, вообще-то я не люблю спать), самой короткой дорогой до мыса Доброй Надежды, но там усталые волны опали и ослабели подо мной, я подхватила новые, более свежие, подняла страшную бурю, в которой домчалась до Гвинейского залива, протиснулась в Гибралтар, но это, разумеется, была ошибка, ведь следовало повернуть направо только в следующем проливе, в Ла-Манше – вечно это случается со мной! – и пока сообразила, что к чему и что я натворила, и пока повернула обратно, обессилели и эти волны, с трудом удалось дотащиться обратно до Атлантики, и там они уже совершенно изнемогли и принялись скулить и умолять, чтобы я не сердилась на них, и просто не знаю, как я добралась до Бискайского залива, где наконец нашла то, что мне требовалось, – настоящие валы, семнадцатиметровой высоты, с лихими пенными гребнями – Боже, как я их люблю! Обожаю их запах, без малейшей примеси суши, – и тут я свила плеть из самых длинных мурен и принялась погонять ею волны, кричала: быстрей! быстрей! Мурены злобно шипели и извивались у меня в руке, сталкивались друг с другом своими прекрасными змеиными головами, и везде, где мы пролетали, воды вздымались и исторгали из себя фантастические создания, не покидающие обычно своего места в моих самых черных придонных безднах, волны с диким воем набрасывались на берег, затопляли и смывали целые колонии несчастных бакланов, вызывали жут-т-кие тораги в стаях голубых китов, между делом слизнули весь цвет с огромного роя красной моли – какое путешествие, Бруно, какое путешествие! Даже через миллион лет я еще не перестану удивляться и досадовать, как это я сразу не почувствовала, не догадалась, какая великая боль гнала тебя, какие ужасные страдания, а я, глупышка, промчалась десятки тысяч миль в диком приступе злобы только из-за того, что ты посмел разбудить меня, и, когда находилась уже в двух шагах от тебя, где-то возле острова Борнхольм, выслала вперед проворных моих разведчиков, маленьких славных побегунчиков, приписанных к Балтике, – милые мои волнушки, они скакали впереди меня, мигом отыскали и коснулись тебя и тотчас вернулись ко мне, запыхавшиеся и ужасно взволнованные, давящиеся множеством рыбьих трупов и обломками кораблей, которые нечаянно впопыхах потопили, прыгнули ко мне в карету и представили себя для облизывания, я попробовала и – тьфу! – плюнула огромной радугой-дугой, потому что мои маленькие слуги оказались горькими, как яд тетраодона, и теперь я уже действительно разозлилась, мчалась вперед, и плевалась пеной и рыбами, и выкрикивала самые ужасные проклятия на сотнях языков, которым выучилась у матросов, и чувствовала, как у меня в животе все бурлит, и клокочет, и переворачивается, пытаясь исторгнуть разом эту мерзость (так морской огурец выбрасывает наружу свою кишку и легкие вместе с поселившимися в них рыбками и крабиками), но в это мгновение, Бруно – в середине этого мгновения, – в моих глубинах, в самых нижних подвальных помещениях, всколыхнулась и начала двигаться огромная жабра полуокаменевшего создания, давно уже намертво приросшего к скале, только один глаз еще капельку поворачивался, и сердце еще пульсировало раз в сто лет. И – тпру-у-у! – я заставила мчавшиеся во всю прыть дикие необъезженные Бискайи застыть на месте, они вздыбились, вскинулись на задние лапы и злобно рычали, а я наклонилась поглядеть, кто это там пробудился внизу, потому что я как раз испытываю великое почтение ко всем этим древним созданиям, копошащимся в моих недрах, – в конце концов, мы начинали почти одновременно, и что с того, что я так преуспела с тех пор и продвинулась, это вовсе не значит, что я должна пренебрегать ими, верно? Хорошо, но этот старикашка, при всем моем к нему уважении, действительно оказался несколько медлителен, и прошло неизвестно сколько времени, прежде чем он продрался с великими сложностями и предосторожностями сквозь все пласты и бездны, и все побежали поглядеть на него, но тотчас отскакивали в сторонку и прыскали в кулак – вы, конечно, знакомы с этим типом верного слуги, который уже наполовину ослеп и оглох, и все такое прочее, но не помышляет оставить свою должность, и примерно через вечность с половиной он добрался наконец до поверхности, подполз ко мне и, разумеется, начал произносить все велеречивые приветствия, предусмотренные этикетом, однако я деликатно, но весьма решительно прервала его и потребовала, чтобы он тотчас объяснил, что – ко всем восточным демонам и ветрам! – привело его ко мне, он склонился, насколько позволяли ревматизм и остеохондроз, к моему уху и принялся поверять мне тайну, хранившуюся в его долгой памяти, и, дитя мое, как разинула ты тогда рот от удивления! Как начала в панике нагонять облака и туман! Правда, чтоб я так жила, как он был прав: миллионы и миллионы лет назад – но то же самое ощущение! Ну в точности! Этот разрыв по всей длине и удушье, и тогда я тоже бурлила и кипела от злости, и мчалась через половину земного шара, и нигде не могла найти объяснения тому, что со мной случилось, и только в самом конце, почти у самого берега, обнаружила ее. Маленькая нахалка, которая посмела разбудить меня и причинить мне такую же ужасную боль. Она была – как бы это сказать?.. Хорошо, я называю подобные создания «вопросами», потому что трудно назвать их иначе, и вообще стараюсь, насколько это возможно, поменьше обращать на них внимание. Она, эта малышка, была уже капельку постарше других. Как, допустим… Назовем ее Недоумение. Такая вот дурочка. В течение миллионов лет сложилась и сформировалась во мне и обрела даже наполовину прозрачное тело, так что по ошибке можно было принять ее за медузу, но нет, это была не медуза, ведь медузы кочуют стайками, а «вопросы» всегда одиноки, потому что никто у нас не любит этих задавак.
Она, воплощенное Недоумение, вообще не заметила, совершенно не почувствовала меня. Они ведь не догадываются о моем существовании, все эти, которые внутри меня, не знают, что я, и как я, и сколько всяких замечательных любопытных и забавных вещей мне известно, и какая я мудрая, и как я все помню – когда хочу помнить. Нет, они думают: безделица, так, одна только вода. Не более того. Ладно, какая разница!
На чем мы остановились? Да, я поглядела на нее и увидела, как она вся дрожит, трясется, горит огнем и делает ядовитой всю воду вокруг себя – от великого отчаяния. Ужасно было это видеть: как она извивается, корчится от боли, просто изнемогает от своего бессилия, взлетает на воздух и тут же шлепается в меня обратно. Мне было очень, очень жалко ее. Так это всегда со мной: вечно мне всех жалко. Только меня никто никогда не жалеет. Не важно. Тем временем она продолжала раздирать мою нежную голубую кожу и всякие ткани и мышцы, рвала тонкие прозрачные нервные узлы и нити и требовала, требовала ответа, а во мне не было никакого ответа, потому что – не забывайте! – все это происходило давным-давно, миллионы лет назад, а может, и вдвое против этого, и я была тогда совсем глупышка, правда-правда, наивная, как маленькая сирена, и, не долго думая, я вся сжалась, обвилась вокруг нее и с бешеным усилием, которое едва не разорвало меня на части, исторгла ее из себя – туда, к ней, к моей преуспевающей самодовольной сестрице, и там, представьте себе! – там она нашла ответы, чтоб вы были мне здоровы! Разумеется, не сразу нашла, может, через пятьдесят, а может, через сто тысяч лет, я не подсчитывала, она вообще не интересовала меня, но тем не менее иногда я просыпалась, и вспоминала ее, и приближалась к берегу посмотреть, как она справляется там снаружи, и видела, что она сильно изменилась, не то чтобы постарела, но как-то странно выглядит, приобрела какие-то новые формы, лишь отдаленно напоминающие те, что были мне известны, и это был для меня ужасный шок, когда я заметила, что она отращивает себе руки и ноги, и спустя еще вечность с половиной она уже несомненно превратилась в человека, в настоящее человеческое существо, и мне оставалось только кусать локти и проклинать себя за то, что из-за минутной слабости и собственной глупости я не попыталась еще капельку задержать ее в себе, подыскать ей какой-нибудь ответ, но кто же мог подумать!.. И вот теперь, когда мой старый слуга откланялся, перекувырнулся потихоньку в воде и с полнейшим безразличием погрузился обратно на свое место, я закусила губу и поклялась себе быть сильной, я сказала себе: будь мужественной, дитя мое, будь готова ко всему, потому что, судя по той боли, которую он тебе причинил, и едкости веществ, источаемых его железами, твоя сестра Прелесть возвращает тебе сейчас старый должок, и поскольку ты знакома с ней не со вчерашнего дня, то отлично понимаешь, что не по доброй воле она уступает тебе этого парня, а, как видно, исключительно потому, что уже не может удержать его при себе.
Я продолжала приближаться к нему, но, разумеется, с некоторой опаской, потому что приготовилась ко всему, и если уж моей сестричке не удалось с ним сладить, то это в самом деле крепкий орешек, и следует признаться, в особенности сейчас, после того, как я познакомилась с ним, что я не ошиблась. И вообще, вообще, вообще я не удивляюсь теперь тому, что она, бедняжка, вышвырнула его ко всем чертям, потому что ей, как известно, не под силу терпеть все эти выдумки и выкрутасы, ведь справиться с таким типом – это, я вам скажу, посложнее, чем усмирить вулкан или остановить снежный обвал, а она – и это, кстати, общеизвестно, я не открываю тут какой-то тайны и могу высказать ей это прямо в лицо, – она предпочитает постояльцев попроще. Она всегда, да, всегда стоит за порядок и логику, и каждая вещь у нее на своем месте. И я готова поклясться чем угодно, что она ни в коем случае не позволила бы большинству моих подданных жить у нее, по причине все той же логики и эстетики – вы должны послушать ее, как она об этом рассуждает, – можно подумать, что морской конек менее красив, чем лошадь, обитающая на суше, но правда на самом деле заключается в том, что, когда кому-то надоедает безалаберная и путаная жизнь у меня, он подымается и идет к ней, факт, что все уважаемые и культурные люди проживают у нее, а ко мне прибывают авантюристы, растратчики, пьяные матросы и безумные романтики, и такое разделение произошло абсолютно помимо нашей воли и без того, чтобы мы что-либо для этого предпринимали, и вот, представьте, вдруг такое непредвиденное ужасное недоразумение, можно сказать, несчастный случай, появляется одно человеческое создание – ничтожная, в сущности, букашка, крошечная запятая, – и начинает мучить ее и нещадно досаждать, как свежая язва в желудке. Тогда что мы делаем с ним, что? Правильно – быстренько переправляем его ко мне. Потому что мне ведь безразлично – так она оправдывается в душе (если у нее вообще имеется субстанция, именуемая душой), – и она говорит себе: моя обожаемая сестра вообще не ощутит его присутствия, а если и ощутит, то наверняка обрадуется, потому что этот тип буквально создан для нее, этот Бруно в точности соответствует ее романтическим грезам, потому что хоть она и родилась примерно четыре миллиона лет назад, но по натуре своей – все еще дитя, подросток, и я считаю, что это как раз прекрасно – так она говорит, моя драгоценная сестренка, – прекрасно, что она сумела до седых волос остаться такой наивной и трогательной, полной озорства и ребячества, жажды приключений… (Вы должны послушать, как она произносит это слово – «приключения»! Между прочим, от избытка очарования и благожелательности она в последнее время покрылась прыщиками лимонных плантаций в районе полуострова Индостан.)
И знаете, что я вам скажу? Она права! Права, права, права, ко всем восточным демонам и ветрам! Я в самом деле такова. И в тот вечер, когда я, можно сказать, бездыханная добралась от Малаккского пролива до берегов Данцига и впервые увидела, как этот маленький щуплый мужчина с силой бьет руками по воде (будто он какой-нибудь ламантин, этот морской дьявол, который хоть и весит целую тонну, но с легкостью раскидывает свои огромные крылья и взлетает над моей поверхностью, а потом с грохотом шлепается в меня обратно – так они рожают), бьет по воде, в отчаянии удирая от моей сестренки, и снова и снова погружается в меня, у меня что-то сдвинулось, чтоб я так жила, все вокруг начало покачиваться и плясать – я всегда в этих случаях совершенно теряю голову и не соображаю, что делаю, – цепь островов в Тихом океане лязгала и подпрыгивала, будто на нее посадили гигантского злобного пса, айсберги в Атлантике скрипели и наезжали друг на друга, и я сказала себе: не преувеличивай и не сходи с ума, ты ведь помнишь, чем заканчивались эти истории с другими: Одиссеем, и Марко Поло, и Фрэнсисом Дрейком, ведь в конце они покидают тебя и возвращаются туда, к ней, они нуждаются в тебе только в минуту запредельного отчаяния, а потом, после того как ты излечиваешь их, уходят от тебя, даже не сказав «спасибо», вообще не почувствовав, как ты хочешь их, не интересуясь, кто ты такая, и каково тебе, и что скрывается за всей этой массой воды…
А с другой стороны, сказала я себе: ко всем восточным ветрам и демонам! Какой смысл в моем существовании, если я пребываю в постоянной тревоге и напряжении, задыхаюсь между всеми этими континентами, проливами и берегами, не позволяю себе помечтать даже о самом невинном приключении, и вообще, если все, что я могу узнать об этом мире, это нелепые истории, что реки пересказывают мне своим отвратительным слащавым языком, или вздорные сплетни проносящихся надо мной дурно воспитанных крикливых чаек, или крохи лживых сведений, которые приносят глупые капли дождя, и что за радость жить, если не отведать немножко любви и сердечной боли, да, и боли тоже, боль бывает так мучительно сладка, так приятна, как тогда, в Красном – иначе Черном – море, когда я целую вечность с половиной сдерживала свои вздыбившиеся воды, пока все евреи не прошли по дну морскому, как посуху, и каждую минуту мне казалось, что я не выдержу этого, сойду с ума (ужасно трудно вот так застыть, окаменеть, не двинуться ни вправо, ни влево, стоять раскорякой, не смея шевельнуться), и я смотрела на него, на этого щупленького мужчину, сосредоточенно и неутомимо бьющего руками по воде, на его как бы треугольную голову, на это узкое и бледное тельце, и уже знала, что буду принадлежать ему, отдамся безраздельно, навсегда (то есть пока он этого захочет), буду его и только его, посвящу ему всю себя без остатка, без всяких оговорок, без оглядки, без раздумий, всю целиком, от поверхности до самых глубин, нисколечко не интересуясь, что же будет в конце – как он преспокойно уйдет к ней обратно, после того как опалил меня любовным огнем и разбил мою жизнь, позволил себе расчлениться во мне на части, на все спектры и расщепления, которые я – и только я – могла предложить ему, на все осколки света и искры цвета, на крути ряби и взрывы бушующих волн, и, приняв это решение, я мгновенно сделалась одновременно горячей и холодной и вся зарделась, покраснела до ушей, до Суэцкого и Эйлатского заливов, потому что так это со мной – ничего не умею скрыть, все по мне моментально видно, со стороны могло показаться, что я по ошибке перенесла все Красное море в Данциг, и еще успела подумать, что имеется ведь множество всяких дел и забот, которыми необходимо продолжать заниматься, но у кого теперь есть терпение на все эти вещи: следить за температурой на полюсе и на экваторе и за точным направлением отдельных потоков Гольфстрима, за распорядком движения айсбергов, всей этой немыслимой бюрократией приливов и отливов, которую я, по правде сказать, так никогда и не освоила, – но истина состояла в том, что все это сделалось мне абсолютно не важно, я знала лишь, что пойду за этим человеком, куда бы он ни повел, che sera sera – будь что будет, как говорят симпатичные итальяшки (я без ума от их Венеции, по-моему, это самое удачное творение моей сестры, настоящее озарение), и поверите вы или нет, но только тут я обратила внимание, что мой избранник не один, что он окружен тысячами лососей, которые, как видно, повинуясь какому-то таинственному инстинкту, движутся в свою реку, – должна признаться, все эти подробности никогда не задерживаются у меня в памяти, то есть когда-то знала, но забыла. Все это влетает у меня в одно ухо в Панаме и тотчас вылетает в другое в Босфоре, да и вообще, хотела бы я посмотреть на этого ученого зануду, который способен запомнить все эти отряды и подотряды рыб, и водорослей, и губок, и крабов, и кораллов, и морских чудовищ, и русалок, и у каждого своя история и свои причуды, у каждого свои беды и трагедии, но в данном случае я почувствовала: нельзя предаваться лени и оставаться в неведении, и послала своих смышленых ребятишек, быстроногих побегунчиков, моих прекрасно выдрессированных безотказных слуг, чтобы они окружили стаю, коснулись каждой рыбы и каждого плавника, как будто случайно дотронулись до них, и продолжали свой путь дальше к берегу, потому что… Как это объяснить?.. Так глупо на самом деле… Как говорится, имеется небольшая проблема медицинского характера, временная, разумеется, но из-за нее пока что – в сущности, всегда – я не могу понять того, что мои побегунчики рассказывают мне, без помощи моей сестрицы, поэтому они обязаны коснуться берега, или кораллового рифа, или острова, или вообще какого-нибудь твердого предмета, например судна, – просто небольшая ошибка в программе, я уверена, что со временем, в ближайшем будущем, все образуется и тогда уже я смогу сама… Но какая разница, главное, что умненькие мои побегунчики, шустренькие мои приятели, разгадали – не важно, где именно, в каком таком месте, – все эти сообщения, заключенные в рыбьей чешуе, в шероховатости плавников, в тканях и строении колец, обозначенных на коже, да ладно, что там – понять рыб гораздо проще, чем понять человеческое создание, и тотчас вернулись ко мне, милые мои волнушки, и я единым взмахом языка, единым лизком, прочла всю тяжкую и горькую историю этих лососей, которые рождаются в пресных реках Шотландии или Австралии (эти были как раз из реки Спей в Шотландии) и оттуда перебираются в меня, в мою соленую воду, а примерно через три года начинают свое путешествие в обратном направлении, собираются в огромные косяки и проделывают десятки тысяч миль со скоростью пятьдесят узлов, почти не останавливаясь на отдых, и рыбаки преследуют их, и стаи морских хищников, и под конец они возвращаются в устье той реки, в которой родились, и дальше им приходится плыть против течения, перескакивать через самые высокие водопады, напрягая все свои силы, упорно двигаться вверх, и имеются такие места, где человеческие создания устроили им специальные проходы и шлюзы, вроде обводных каналов, чтобы им не приходилось так мучиться, но нет, они обязаны прыгать, даже против самого сильного течения, пока в конце концов не достигнут того места, где появились на свет – ну непременно в точности, в точности того же самого места! – и там уже последние силы покидают их, они мечут икру и тут же умирают, только один или двое из всей стаи еще вернутся ко мне с молодым выводком, с теми, которые родились в реке, а все остальные…
Однако у меня не было времени раздумывать обо всех этих странностях и сочувствовать несчастным: он все еще был там. Плыл и щедро расплескивал вокруг свое отчаяние, так что у меня мурашки побежали по коже, и я тотчас опять отправила мои волны, на этот раз, чтобы разузнали о нем все что можно, а поскольку я ненавижу сидеть и ждать, то тем временем погрузилась в самые черные мои бездны, в те пласты, где у рыб глаза как блюдца, и кораллы светятся удивительным бледным светом, и дно устелено рыбами, уже окаменевшими, но еще живыми, и колышутся рощи окостеневших мертвых деревьев, и во все стороны тянутся бескрайние топи, пухлые долины рыхлого ила, и все время идет дождь из раскрошенных рыбьих трупов – мелево распада, – и нависают облака планктона из более высоких слоев, но вдруг почувствовала, что задыхаюсь в этом царстве тьмы, рванулась наверх, к тому мерцающему слою, который больше всего люблю, слою светотени, близкому к поверхности, но не слишком, к тому месту, где я выращиваю коралловые рифы, которые любого могут свести с ума… И между ними плавают рыбы, которых нужно увидеть, чтобы поверить в существование такой немыслимой красоты. Где еще вы найдете такое удивительное создание, как сине-зелено-красный кронохвостый петушок? Признайтесь честно: у нее, у моей сестрицы, есть что-нибудь похожее? Хоть отдаленно напоминающее моих императорских ангелов или серо-голубых акул, великолепное тело которых навело людей на мысль о создании сверхзвукового лайнера? Между прочим, почти черное тело молодого императорского ангела с возрастом необыкновенно хорошеет и украшается дивными фиолетово-желто-оранжевыми арабесками.
Ах, что там говорить! Вечность с половиной можно провести в этих приятных наблюдениях и размышлениях, но я нервничала, нетерпеливо барабанила в скалы всякими обломками и досаждала каждой рыбе, проплывавшей мимо, как какая-нибудь вредная пожилая тетушка, пока мои волнушки снова не вернулись ко мне. Но они не смогли рассказать мне о нем ничего, они трепыхались и дергались, вертелись и вздрагивали, как маленькие тюлени, и твердили наперебой: «Мы не по-о-няли, что там происходит, госпожа наша, это создание действительно о-о-очень странное, ты не по-о-оверишь, госпожа наша, какой у него противный вкус – такой гадкий-гадкий, как у рыбы-рогача, и он говорит разные слова, которых ни одна из нас не понима-а-а-ет, он такой горячий, весь горит, страх дотронуться, обжигает хуже, чем актиния…»
Я взбесилась и зарычала: «Немедленно возвращайтесь к нему! Неситесь, мчитесь к этому человеку и изучите его снаружи и изнутри, без всяких церемоний, без капли сочувствия и снисхождения, скрутите его, повалите, переверните, ощупайте, обнюхайте, оближите всего, попробуйте его выделения и желчь, исследуйте его слюну, скопируйте морщины вокруг глаз и поры на лице, его волосы – ну! Бегите уже, летите – убирайтесь отсюда!»
Да, это было замеча-а-а-тельное представление!.. Не так-то легко рассердить меня и вывести из себя, вы знаете, что мне трудно гневаться всерьез, такая уж я, но в эту минуту меня сжигало нетерпение, я была так взволнована, так досадовала на их медлительность и нерадивость и, честно признаться, немного побаивалась… И, как всегда в таком состоянии – ну, как бы это выразить?.. – чуть-чуть переборщила, вздула себя самыми громадными волнами, сделалась немыслимым фонтаном голубого кита, взмыла под небеса, взорвалась облаком черных, как ночь, чернил каракатицы, но тут, на счастье, после примерно вечности с половиной ко мне вернулись мои маленькие усталые и выжатые, как лимон, побегунчики и, сталкиваясь на лету друг с другом, закричали еще издали: «Все в порядке, госпожа наша! Теперь мы зна-а-а-ем о нем все! Все, что требуется, и это совсем не удиви-и-и-тельно, госпожа наша, что мы не сумели поначалу ра-а-а-скусить его, это вообще даже не подходит: думать про него на языке человеческих созданий, он как раз все время стара-а-а-ется сделать для себя особенные слова, только для себя одного, только чтобы он сам понимал, госпожа наша, но мы, конечно, вскоре, в ближа-а-айшем будущем, разгадаем все его тайны, вот, потому что все остальные вещи о нем мы уже более-менее знаем, мы даже знаем, что он один из тех, кого называют евреями: у него – хи-хи! – не хватает кусочка кожицы на одном месте, и он родился в Дрогобыче и много пишет, а теперь он бежа-а-ал откуда-то, и есть слова, которые он говорит на языке, который мы как раз понимаем, например он говорит: „У мелодии своя воля, свой упрямый ритм“; „в этой истории время уже неизменно“; „бездумный звездный комментарий на полях музыки“ и еще: „убил твоего еврея“ – красиво, правда? „Если так, то и я убью твоего еврея“. Ты видишь, госпожа наша, мы уже знаем о нем почти все и теперь опять возвращаемся туда, к нему, чтобы узнать еще больше, – лишь бы ты была довольна, госпожа на-а-ша…»
Довольна! А!.. Я была счастлива. Стояла уже ночь, я лежала на животе, как я люблю, как мла-а-а-денчик, как царственный отпрыск, подобного которому не сыщешь ни в каких галактиках и ни в каких солнечных системах, которого нужно разглядывать под особым углом зрения, в правильном ракурсе, чтобы понять, до чего же он вообще-то маленький и миленький, драгоценная такая жемчужинка! Лицо мое было обращено к горизонту, обрамленному космическими безднами, ветер с деликатностью и нежностью поглаживал мою спину и бедра, в небе сияли звезды, я совсем усыпила и пригладила волны, чтобы они не заслоняли лунного света и не умаляли его яркости. Я была прекрасна…
Он сделал себе свой собственный язык, мой человек. Как это великолепно! Он просто хотел спокойно поговорить сам с собой, и чтобы никто не подслушал и не понял. И даже чтобы он сам не мог после рассказать кому-нибудь другому – ведь у него не окажется для этого слов. Так возвышенно, так духовно, честное слово! И откуда только у него берутся эти идеи? Ведь я сама торчу тут уже миллионы лет с этими моими медицинскими проблемами – в сущности, незначительными, я уже упоминала, но все же… И никогда-никогда мне не приходило в голову изобрести для себя особый язык, только мой и больше ничей – ах, как это увлекательно!..
Да, я с самого начала была очарована им из-за всех этих немыслимых фантазий и размышлений, хотя, честно признаться, не очень-то понимала, зачем ему призывать на свою голову все эти беды и страдания, вместо того чтобы, скажем, немного меня порадовать, да, в данном случае я рассуждаю, как его мама Генриетта, о которой мне уже все известно, жаль, что нам не довелось встретиться, я уверена, мы с ней прекрасно поладили бы, потому что она тоже постоянно повторяла ему с горечью: «Бруно, у тебя мысли старого человека, алтер коп, а вовсе не ребенка, дай-то Бог, чтобы ты вышел из этого с миром, смотри, что случилось с твоим бедным отцом, Якубом».
А действительно, что с ним случилось? Мои побегунчики сообщают мне странные вещи. Таких историй я не слышала с тех пор, как впервые увидела человеческую лодку и в ней аргонавтов, которые придумывали всякие бесстыжие небылицы о своих неслыханных приключениях, лишь бы переврать друг друга по части всяких подвигов и побед. Если верить тому, что мне докладывают мои волнушки, отец Бруно тоже был из этой породы, таким неприкаянным странником, беглецом от обыденности, не в смысле обыкновенного скитальца или беженца, но… Где это у меня записано?
Его отец, почти выучившийся летать, выращивая у себя на чердаке экзотических птиц, павлинов и фазанов, глухарей и гигантских кондоров, которым место разве что в тропических странах, его отец, которого Бруно называл «неисправимым импровизатором, фехтмейстером воображения», воевавшим в одиночку со стихией скуки, этот могучий человек, умиравший неоднократно, но не полностью, с оговорками, всякий раз вновь восставал к жизни в тысяче одной, каждый раз новой форме, так что все в доме уже привыкли к его частым кончинам… Так пишет мой Бруно. Разбив свою смерть на части, умирая как бы в рассрочку, он добился того, что кластер его давно уже отсутствующего лица как бы распределился по комнате, в которой он жил, разветвился, создав в некоторых местах поразительные узлы сходства прямо-таки невероятной выразительности. Обои кое-где имитировали судорогу его тика, узоры их формировали болезненную анатомию его смеха…
Я помню наизусть каждое написанное им слово.
А под конец он превратился в громадного не то краба, не то паука, не то скорпиона. Заползал в комнату через щель под дверью и приводил всех в ужасное смятение, пока однажды не попался. В самом деле так: мама Бруно, которая, как видно, не могла больше этого выносить, поймала его на лестнице в тот момент, когда он прыгал со ступеньки на ступеньку, и некоторое время спустя, в каком-то секундном затмении разума, мгновенном ослеплении или по недосмотру – ужасно, но факт, – сварила… Да, сварила… Бруно утверждает, что это сделала именно она, добавляя, впрочем, что, возможно, она видела в этом единственный выход из его безнадежного положения. Как бы там ни было, он был подан на обед, водружен на стол на красивом блюде, увеличившийся и как бы распухший после варки. Понятно, что они не притронулись к нему, не дай Бог, такая культурная семья, мама велела отнести блюдо в гостиную, и оно стояло там на столе, покрытое плюшевой скатертью, по соседству с фотоальбомом и папиросницей в форме музыкальной шкатулки. Однако на этом дело не кончилось, он бежал и оттуда, да, представьте себе! – и оттуда тоже, потому что оба они, и Бруно, и его отец, всегда умудряются перейти предельные и допустимые границы, и даже тогда, когда, казалось бы, не осталось ни малейшего шанса, они все равно не отступают, так что, пролежав на блюде несколько недель, он исчез, только одна клешня застряла с краю в усохшем томатном соусе и желе, а сам он, вареный и, очевидно, уже не слишком свежий, теряя по дороге ноги, из последних сил потащился дальше, в безумные бездомные блуждания, всегда дальше, в точности как его упрямый сынок – сладкий мой… Вечно такой серьезный, рядом с ним я просто не могу не почувствовать себя вздорной и легкомысленной, но это его отчаяние, оно буквально убивает меня, лишает всякого желания жить, оставляет на мне черную, ржавую, полную скрежета борозду, как будто от тяжелого эсминца, но след эсминца я умею стереть, а след его отчаяния – нет… Я только пытаюсь накрыть его плотным слоем воды и сохранить, ведь я берегу все крохи любых свидетельств о нем – хотелось бы сказать: его внимания, но где оно, это внимание? – он даже не замечает меня, а я уже превратилась в самого главного его биографа – ибо что же еще остается мне делать?..









































