Текст книги "См. статью «Любовь»"
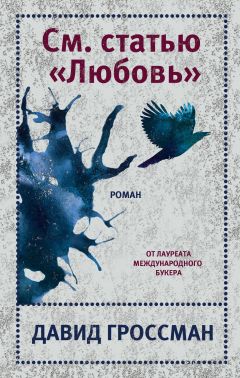
Автор книги: Давид Гроссман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– То есть!.. – воскликнула Аяла пылко, и красные точечки выступили на ее круглых щеках, – не совсем стихи, не в рифму или с четким ритмом, но обыкновенной речью двух людей, только это, и пусть будут естественные заминки, толика понимания и смущения, страдания и осторожности. Подумай, как мало!..
Но для этого требовалась в основном смелость, а у меня, разумеется…
Ну, молодец – теперь ты преуспела.
Уже в течение нескольких минут ты пытаешься определить мое точное местонахождение на молу. Я почувствовал, что ты рыщешь там, в темноте, но на мгновение вообразил, что это из-за моего рассказа, который в конце концов тронул твое сердце. Видел, как ты выплескиваешь на бедных обескураженных рыболовов справа и слева от меня полные лохани особо просоленной воды, хранящейся в твоих самых прохладных подвалах, слышал их чертыханья и проклятия – как они кричат друг другу: ну что такое! Что за говенное море сегодня! И не понимал, что на самом деле с тобой происходит, – пока не сообразил…
Но, пойми, твое оружие так смехотворно, так убого, когда ты пытаешься применить его против столба на суше! Я и так уже насквозь промок, поэтому мне нечего терять, и в знак моего великодушия – дабы продемонстрировать тебе широту моей натуры и сделать очевидной твою мелочность – я расскажу тебе сейчас о Бруно и, главным образом, о тебе самой. Ты ведь обожаешь это. Как маленькая девочка, ожидающая услышать свое имя в сказке, которую мама читает ей перед сном.
Я пропущу те главы, которые не касаются тебя и содержат составление писем и обращений, отправленных мною в Варшаву, все эти скучные унизительные хлопоты: просьбы, сбор рекомендаций, любезную протекцию моего издателя. Не стану зачитывать список маминых указаний – мама была чрезвычайно обеспокоена моим намереньем ехать в страну Там и снабдила меня двадцать одним пустым конвертом с ее адресом, чтобы я «каждый день подавал признаки жизни», и, кроме того, десятью пачками нейлоновых носков на продажу на черном рынке («На всякий случай, а вдруг у тебя кончатся деньги!»). Несмотря на мое сопротивление, с присущей ей хитростью все-таки умудрилась подсунуть потихоньку все десять пачек мне в чемодан. Печальное прощание с Руги («Дай Бог, чтобы ты нашел наконец то, что ищешь, и мы смогли начать жить»). Полет, чемодан, который «пропал» в польской таможне и через два дня нашелся (уже без нейлоновых носков). Встречу с ректором Варшавского университета Зигмундом Равницким, которому я адресовал свои просьбы о посещении Польши.
Вот об этой встрече расскажу тебе подробнее: она наверняка заинтересует тебя. А даже если не заинтересует – какая разница?
Профессор Равницкий, разумеется, пожелал выяснить причины столь «необычного» внимания к Бруно Шульцу. Я чистосердечно признался, что он представляется мне одним из истинных борцов или, точнее, автором возможного способа борьбы с тем, что творилось.
– Вам известно, конечно, – заметил Равницкий, – что Шульц не успел принять участия в борьбе. Он оказался едва ли не случайной жертвой – был убит безоружным в сорок втором году на улице гетто. Вообще никогда не держал в руках винтовки.
– Я знаю.
Он откинулся в кресле, глубоко вздохнул и внимательно посмотрел на меня. Потом попросил моего разрешения пригласить профессора Витольда Тирлока, декана кафедры иврита, «который проявил большой интерес к вашей необычной просьбе».
Битых два часа я беседовал с двумя польскими учеными, которые не переставали изумляться и вопрошать себя, действительно ли я заслуживаю серьезного отношения с их стороны. Я видел растерянность и сомнение на их лицах. Они спрашивали, почему бы мне, например, не посидеть в Варшаве, в богатой университетской библиотеке, не ознакомиться здесь (в спокойной комфортной обстановке) со всеми материалами и исследованиями, касающимися Бруно. Я отвечал им, что знаком со всем, что о нем написано. Тирлок, говоривший на хорошем современном иврите, задумчиво потирал щеку и с откровенным недоумением поглядывал на своего коллегу. Потом попросил разрешения – если я не усмотрю в этом некой неделикатности с его стороны – задать мне несколько вопросов… В частности, о городе Дрогобыче, в котором Бруно прожил всю жизнь и с которым он сам, то есть Тирлок, прекрасно знаком. Это, разумеется, не экзамен, упаси Бог, но просто ему хотелось быть уверенным… Развеять некоторые сомнения…
– Вперед, Витольд! – воскликнул ректор нетерпеливо. – Господин Нойман наверняка и сам понимает: мы обязаны убедиться, что помогаем действительно нужному человеку.
Я заявил, что готов к любому вопросу.
Со смущенной улыбкой профессор Тирлок принялся расспрашивать меня о различных кварталах Дрогобыча и населявших его евреях. Потом распространил свою любознательность на соляные копи и нефтяные промыслы в окрестностях города. Я отвечал быстро, без запинки, мне показалось, что он немного ошарашен беглостью моей речи и решил – чтобы произвести хорошее впечатление – слегка помедлить. Улыбнулся мне покровительственно и поинтересовался именами руководителей еврейской общины за последние сто лет. Нужно отдать ему должное: он был прекрасно осведомлен обо всем. Он знал даже, что госпожа Идл Кикниш, казненная по кровавому навету и пришпилившая подол своего платья булавками к ногам, чтобы ноги не обнажились, когда ее будут тащить по улицам города, привязанной к лошади, – это та самая женщина, о которой писал Ицхак Лейбуш Перец в своем рассказе «Три подарка». Он подался вперед и спросил меня о кафе, имевшихся в городе во времена Бруно. Это был неожиданный вопрос, который разозлил меня: что за связь между кафе и моей просьбой? Тем не менее я сумел припомнить «Шенхалф кафе хойз», являвшееся также неофициальной биржей нефтяных акций, и кафе «Шехтерофф», куда молодежь ходила потанцевать под звуки радио. Закончив, я увидел, что на лбу у него выступила испарина. Я тоже испытывал досадное напряжение, не только из-за дурацкого экзамена, но и оттого, что вдруг осознал, насколько все это живо во мне.
Он не сдавался. Я думаю, у него была какая-то тайная цель. Он спросил, знаю ли я, кто командовал немецкими частями, захватившими Дрогобыч. Я ответил, что это можно найти в любой книге, посвященной войне, но знает ли он, что самыми жестокими убийцами из Венского отдела были Ярош и Кобарзик? Что собаку Йозефа Петера, которую его сын имел обыкновение натравливать – разумеется, на евреев, – звали Рауф? Что эсэсовец Феликс Ландау, работодатель и хозяин Бруно в гетто, участвовал перед этим в убийстве австрийского канцлера Дольфуса? Что на Кобальской проживали следующие еврейские семьи: Фройлехман, Тартаков…
– Хватит, хватит! – воскликнули они одновременно, сокрушенные моей эрудицией, и уставились на меня уже знакомыми растерянными взглядами.
Да, это всегда так: стоит мне заговорить об этих вещах и я уже не могу остановиться. Я делаю это не из гордыни или заносчивости и вовсе не потому, что хочу произвести впечатление. Это пунктуальность человека, составляющего опись небольшого, но очень дорогого для него имущества. Они еще раз глянули на меня и потихоньку вздохнули. Перевели дыхание. Таким же взглядом смотрела на меня Рут, когда я рассказал ей о лотерейных билетах, вернее, о корешках использованных лотерейных билетов, которые приклеил себе на ладони (поскольку на них имелись номера, почти такие же, как у дедушки Аншела, и у папы, и у тети Итки, и у нашей соседки Бейлы), занимаясь преследованием Нацистского зверя (в чулане под собственным домом). Она побледнела, вперила в меня взгляд, исполненный ужаса, как будто до того никогда не была по-настоящему знакома со мной, и объявила тихим, но непреклонным голосом, что «никогда, никогда в жизни не желает больше слышать об этом». Я обещал впредь не касаться этого эпизода.
Отдышавшись, ученые мужи пробормотали:
– Извините, господин Нойман, но наше положение обязывает… Все это достаточно сложно и неожиданно… Мы, конечно, постараемся помочь вам, насколько удастся… Куда бы вы хотели поехать?
Я вытащил карту и показал им:
– Мой Бруно выехал поездом из Дрогобыча в Данциг. Расположенный вот тут, на берегу моря.
Ректор возмутился:
– В то время евреям было запрещено ездить в поездах!
– Я помню этот приказ. Он был отдан десятого сентября сорок первого года и развешан по городу. Но Бруно поехал на поезде.
– Я бы не поручился за соответствие вашего материала фактам, господин Нойман.
– Со всем моим почтением к вам, господин профессор, это уже не вопрос соответствия фактам. Бруно обязан был выехать из Дрогобыча.
– Разумеется… – промямлил он.
Оба они пальцами проследили железнодорожную линию на карте.
– Подыщите мне, пожалуйста, небольшую деревушку в окрестностях Данцига, в которой я смог бы пожить пару недель. Я не хочу останавливаться в самом Данциге.
– Гданьске, – поправил он. – Сегодня он называется Гданьск.
– Извините. Деревня, разумеется, должна стоять на берегу моря.
Профессор Тирлок поднял на меня глаза:
– Бруно Шульц – один из самых прекрасных наших писателей, и мы будем чрезвычайно обязаны вам, если вы отнесетесь к нему с подобающим почтением и как того требует историческая справедливость.
– Я пойду за ним туда, куда он поведет меня.
– Вы мистик, господин Нойман?
– Нет, как раз наоборот. Одна женщина полагает необходимым, чтобы я чуть больше проникся… Нет, я не мистик. Надеюсь, что нет.
– Вот, – сказал профессор Равницкий, – вы можете поселиться в Нарвии. Но, честно говоря, я бы не советовал. Убогое место. Малюсенькая рыбачья деревушка. В августе она служит местом отдыха горожан, но сейчас еще не сезон: холодно, купаться невозможно…
– Замечательно, пусть будет Нарвия.
(Я несколько раз прокрутил во рту непривычное название, стараясь приладиться к нему. Если так, значит, встреча произойдет там.)
– Как вам угодно. Не говорите потом, что мы не предупреждали вас. По-моему, ужасное место. Что ж, я подготовлю необходимые бумаги. Чтобы вы смогли провести там две недели. Документы прибудут послезавтра. Тем временем можете поработать в нашей обширной библиотеке.
– Спасибо. Извините, если я повел себя несколько бестактно. Я просто…
– Мы понимаем, господин Нойман. И желаем вам удачи. Возможно, она потребуется вам в большей степени, чем вы предполагаете.
Профессор Тирлок добавил на иврите:
– Берегите себя. Будьте очень осторожны.
Я улыбнулся ему, подкупленный его заботой обо мне и приятным произношением, но не перестал нервничать.
Я приближаюсь! Еще капельку терпения.
Не два, а четыре дня пропали в ожидании необходимого разрешения. Я бродил по Варшаве. В полном одиночестве слонялся по большому молчаливому городу. Ощущение было такое, словно кто-то отключил звук на киноленте. А может, и вообще остановил ее. Длинная очередь недвижно застыла перед магазином, в витрине которого был выставлен одинокий помидор. В каком-то кафе я поинтересовался «французским» печеньем, которое папа порой вспоминал с ностальгической тоской. Я счел себя обязанным попробовать его – в память об отце. Не могу сказать, что оно мне понравилось. Стены домов украшали изображения клоунов в смешных колпаках и разноцветных бабочек – то были, как выяснилось, символы «Солидарности». Я удостоился волнующей встречи с Юлианом Стрыйковским, еврейским польским писателем, прекрасно владевшим ивритом и занимавшимся исследованием истории еврейского местечка, – да, я понимаю: это не относится к делу. Извини. Когда бумаги наконец прибыли, я сел в поезд и отправился в Данциг. Однообразный ландшафт, бескрайние серые поля, деревушки моего Мотла, липовые и березовые рощи, деревья с тонкими голыми стволами, коровники и круглые тока – и все время острое ощущение, что он сам спешит мне вослед из Дрогобыча, оказавшегося теперь под властью Советов, чтобы мы смогли встретиться там, в Нарвии. То же чувство, которое охватывало меня, когда я выписывал в свою тетрадь цитаты: как будто он упорно пробивается ко мне с другой стороны листа. Два шахтера, прокладывающие тоннель с двух сторон горы.
Может, даже нечто более сильное и значительное.
Вопреки здравому смыслу, я знал, что прав. Бруно не был застрелен. Он исчез. Я говорю «исчез» не в обычном убогом и косном значении этого слова, а так, словно это мы с Бруно произнесли «исчез». Имея в виду того, кто в результате продуманного решения усилием воли пересек предельно допустимые границы бытия, переправил себя в магнитное поле иного измере… Гляди-ка, ты вторишь мне, старательно декламируешь вместе со мной заученный отрывок, как маленькая девочка, которая дополняет концы прочитываемых при ней знакомых строф. Я слышу твой шепот. Ты даже опережаешь меня, торопишься пролепетать раньше, чем я успеваю сказать: «Человек, дезертировавший в ту форму существования, которая в высокой степени зависит от догадливости окружающих и в каком-то смысле просто не может обойтись без их доброй воли. Пассажир чрезмерно легкого веса…»
Расхлябанный автобус дотащил меня до рыбачьей деревни Нарвия, где я снял комнатушку в избе вдовы Домбровской. Щеку вдовы украшали три больших родимых пятна, покрытых редкими волосиками. Она уступила мне свою спальню и кровать, над которой висело, очевидно вырезанное из какого-то иллюстрированного журнала, изображение Богоматери с младенцем на руках. На противоположной стене помещалась фотография покойного господина Домбровского в мундире почтальона и с пышными усами. Уже в день прибытия я влез после обеда в свои серые плавки и уселся на пустом песчаном берегу под порывами пронизывающего ветра в брошенный дачниками слегка разодранный шезлонг. Для середины июля день был действительно слишком холодным. Я чувствовал себя ужасно одиноким и с напряжением ждал какого-то знака.
Постепенно это созревало во мне. Днем я сидел в шезлонге и ждал, смотрел на рыбаков, утром спускавшихся к воде, а под вечер возвращавшихся в маленькую гавань и хриплыми голосами вызывавших домашних, чтобы общими усилиями с помощью примитивного рычага поднять и вытащить на берег лодки, а затем на длинном деревянном столе поделить улов; только после этого я возвращался к своей вдове и съедал ужин, который она ежедневно, точно так же, как любая другая хозяйка в этой деревне, приготовляла из камбалы (у нас ее называют рыбой пророка Моисея), а потом садился и писал, то есть не столько писал, сколько вычеркивал. Я уже привел Бруно в Данциг: тайно переправил его сюда в поезде под самым носом полицейских, охранников и литературных критиков. Теперь мне оставалось только терпеливо ждать. Вытряхнуть из себя себя, полностью отрешиться от всего личного и стать исключительно пишущей рукой для него. А может, и сверх того: кто знает, чего он потребует в качестве платы за вызволение из небытия его утраченной рукописи, его «Мессии»? Без малейших колебаний согласился я на редукцию своих качеств, умалился, сократился до необходимого минимума и лишь прислушивался. По соседству, в Гданьске проходили митинги и демонстрации «Солидарности», у нас в деревне случались частые перебои в подаче электричества. Иногда мне приходилось писать при свете нещадно коптившей керосиновой лампы. Не всякий день на столе был хлеб. Я не написал ни единой строчки ни Рут, ни Аяле, ни маме. Все ее конверты втуне пропадали в чемодане. Впервые с тех пор, как начался наш краткий роман с Аялой, я почувствовал, что действительно влюблен. Правда, не знал в точности в кого. В любом случае я был готов к большой настоящей любви. Возможно, именно благодаря этому дела шли так прекрасно…
Вот мы и приближаемся. Ты уже нетерпеливо скачешь вокруг меня. Волнуешься. Слушай: на четвертое утро моего пребывания в Нарвии я впервые вошел в воду. Волны были низкими, гладкими, упругими и с нежностью подхватили меня, как будто ты уже знала. Сюжет, который я записывал, требовал, чтобы я зашел в воду и дожидался там. С тех пор как я впервые прочел книгу Бруно Шульца и начал переписывать цитаты из нее в свою тетрадь, я стал придавать особую важность каждому слову, которое выводит моя рука. Непрерывно ждал какого-то важного известия, которое отыщет меня, – и непременно там, в море.
Но в моем рассказе море представлялось чем-то вроде старика-великана, одновременно и добродушного, и хитроватого, и сварливого, эдакого Нептуна с окладистой бородой, с которой ручьями стекает вода. Я долго не мог понять, почему мне не удается почувствовать его присутствия, целый день терпеливо болтался, как щепка, в волнах, спина моя покраснела, сделалась как обваренная, и вот в пять часов вечера мне стало ясно, что то, что я принимал за старика, на самом деле женщина. Душа женщины в теле воды. Огромный синий моллюск, большую часть времени дремлющий из-за невозможности насытить могучие энергетические аккумуляторы своей плоти, и вокруг сопливого медузьего естества, вокруг ее крошечной душонки, плавают тысячи распяленных на волнах одеяний: зеленых, и синих, и белых кружевных панталон и платьев, а она спит, удобно устроившись в одной из тысячи лунных впадин океана, лицо ее, как огромный подсолнух, обращено к солнцу, а желеобразное нежное тело продолжает инстинктивно колебаться и сжиматься в такт движению волн, ритмично подрагивать, сюрреалистические сновидения порождают в ее глубинах кошмарные гротескные создания. Следует опасаться ее, не обольщаться ее спокойствием и видимой тяжеловесностью, потому что в душе своей, укрытой под многими наслоениями приличий и жеманства, она, в общем-то, продажная девка, наглая и бесстыжая, чтобы не сказать – до предела примитивная в своих инстинктах и переменчивых вожделениях, модный испорченный продукт, не слишком продвинувшийся в своем развитии с древних геологических эпох, от природы не умна и не обременена чрезмерными знаниями, как можно было бы надеяться, памятуя ее почтенный возраст и многолетний опыт и долгие скитания по свету, но, как заведено у определенных женщин – одну из них я встретил несколько лет назад и достаточно хорошо узнал, – насобачилась с великой хитростью латать прорехи и недостатки своего образования обрывками информации и тысячью забавных анекдотов, дешевых пикантных историй, которые позволяют ей завладеть вниманием и сердцем слушателя, и помимо всего этого она вооружена острым ядовитым язычком и еще более острым нюхом хищницы, и все это с одной-единственной целью: захватить в плен определенные создания достаточно бесхарактерные, – да, поверь, передо мной тебе уже не удастся ломать эту комедию. Я раскусил тебя, я вижу тебя насквозь, до последней расщелины в твоих черных глубинах, и сдается мне, я преуспел там, где потерпели поражение многие до меня, не отважившиеся, подобно мне, ухватить жар-птицу за хвост (не вынужденные к тому обстоятельствами) и открыть в тебе то (разумеется, ты в жизни не признаешься в этом), что не подлежало обнародованию, пришпилить мгновенно к моим листам один великолепный тюльпан из бесконечного калейдоскопа форм и цветов, блистательных переливов призрачного голубоватого света, мерцания неведомых пространств, главное очарование которых состоит в том, что они никогда не сохраняются достаточно долго, чтобы запомнить их, засушить и запротоколировать…
Эти слова, и еще многие другие, я шептал тебе – в тебя – у берегов деревушки Нарвия. Губы мои были погружены в воду, тело пылало. Я рассказывал тебе о нем, но и о себе. О своей семье, о том, что сотворил с ней Зверь. Говорил о страхе. О несчастном моем дедушке, которого я оказался неспособен вернуть к жизни, даже на бумаге. О том, что не сумею понять собственной жизни, пока не узнаю той жизни-нежизни, которой они жили Там. Признался тебе, что Бруно для меня намек, подсказка – приглашение и предупреждение. Цитировал по памяти куски его сочинений…
– Слушай, ты там… – пробормотала ты вдруг ворчливо, голосом глухим и недовольным, но, в сущности, просительным.
Я поднял голову и ничего не увидел. Берег был пустым и бесцветным, только мой одинокий шезлонг нарушал однообразие, порванная его ткань билась на ветру. Однако какая-то тягучая тепловатая вязкость окутала меня на мгновение. Облепила и исчезла. И снова вернулась.
– Ты говоришь в точности… – продолжала ты хмуро и неуверенно, – как кто-то, кого я однажды знала…
Я едва не взорвался от радости, но продолжал как ни в чем не бывало покачиваться на волнах.
– Кого ты имеешь в виду?
Ты с подозрением изучала меня. На мгновение вздернула голубой экран между мной и берегом, скоренько лизнула меня, вернее, бесстыдно облизала всего, все мое усталое тело, с отвратительным чмоканьем пожевала губами, словно удивляясь странному вкусу, убрала экран и глянула через плечо на берег:
– Уж не надеешься ли ты услышать об этом от меня здесь?
– Так, может, в доме? – спросил я почтительно и, пожалуй, даже отчасти заискивающе.
– Х-ха! – Плеснула волной мне в ноздри – полная лохань воды всегда под рукой!
Так я впервые удостоился услышать этот твой презрительный издевательский всхрап. С тех пор он сделался обычной реакцией на мое появление. Я полагаю, ты никогда не откажешься от него. Даже погрузившись в глубокий сон и наслаждаясь сладкими сновидениями, ты не забываешь приветствовать меня этим мерзким звуком. Каждую неделю, когда я прибываю на тель-авивскую набережную, купальщики и рыбаки испуганно вздрагивают, услышав его. Они, разумеется, ничего не знают.
– Я возьму тебя туда, подальше от берега, – произнесла ты наконец и указала взлохматившимися пенными спинками своих волн на горизонт.
– И вернешь?
– Чтоб я так жила!
– А то мне приходилось слышать такие истории: люди уходили в глубь тебя и не возвращались.
– Ты боишься?
– Прекрасно – ты тоже говоришь, как кто-то, кого я знал.
– Помолчи уже наконец, помолчи! Ты всегда так много болтаешь? Ну, что – идешь? – Ловко ухватила меня и опять принялась изучать на вкус. Прорычала с разочарованием и злостью: – Не может быть. Совершенно не похоже! Полная противоположность! Как-никак нам все-таки известны некоторые вещи, которых никто другой… А, ладно, сейчас проверим.
Мгновенно откинулась назад, ушла в себя и исчезла со свистом и шипением. Оставила меня с ощущением поражения и разочарования.
Но лишь на мгновение.
Тотчас нахлынула новая могучая волна, замерла с сердитым рычанием и, брызжа пеной, шлепнулась к моим ногам. Я взлетел на нее, оседлал, ухватил за мягкие упругие уши – и мы поскакали.









































