Текст книги "См. статью «Любовь»"
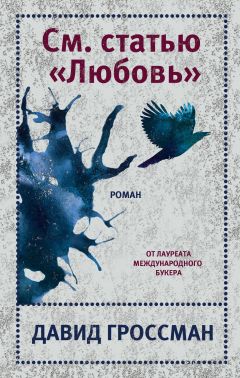
Автор книги: Давид Гроссман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава пятая
Ну? Уже вечность с половиной – чтобы я так жила! – он плывет себе со своими несчастными лососями. Не могу видеть это нелепое безостановочное движение, они растут, а он сжимается и съеживается, между ними имеются уже такие, что будут покрупнее его, моего человека, который не желает отчаиваться, который выдержал все бури Северного моря и нападение барракуд, и чего я вообще не понимаю, так это зачем они пристали к берегу против Бергена, и этот ужа-а-асный месяц, во время которого исландские рыбаки, эти бесстыжие грабители, выдрали, можно сказать, у меня из рук половину косяка, а ему хоть бы что, он плывет себе с горящим взором и этой своей горькой усмешкой, которую не могут стереть никакие волны, подбородок его день ото дня становится все более острым, и весь он уже кожа да кости, ей-богу, и ни единого волоска не осталось на голове, даже кожа набухла и сделалась как губка от обилия воды, иногда, когда я смотрю на него при свете луны, мне кажется, что он уже в самом деле превратился в рыбу.
Но беда в том, что он не прекращает думать, и эти мысли изводят его и изводят меня, потому что я ничем не могу помочь ему, мне абсолютно ясно: то, что он ищет, находится не во мне (но, по крайней мере, и не в ней!). Этого нет ни в одном месте, разве только в нем самом, в Бруно, и дай Бог, чтобы у него достало сил отыскать это, я, разумеется, стараюсь помочь ему, насколько это возможно, но что, в самом деле, я, такая маленькая и слабенькая, могу поделать, я подхватываю его, и облизываю всего, с головы до ног, и шепчу ему, что я не как она – я не слепая, и не глухая, и не тупая как пробка, – я вся язык, и глаза, и уши, я читаю в тебе, Бруно, любое движение твоей души и все понимаю, я умею разгадать тебя до конца, ведь нет ни одной мысли, которая промелькнула бы в твоей голове, и нет ни одного человека, который бы встретился на твоем пути, и нет такого воспоминания, такой тоски, и печали, и упоения красотой, которые не оставили бы в тебе знака, где-нибудь в потаенном уголке твоего нежного сладкого тельца, нужно только уметь читать, а читать, Бруно, можно только здесь, у меня, только во мне, это не моя выдумка, я тут ничего не изобрела, не приведи Бог, ты ведь знаешь, насколько я скромна и стыдлива, просто несколько лет назад я тихонько спала себе где-то возле Австралии, под боком одного корабля, помнится, он назывался «Бигль», и вдруг почувствовала, что месяц исчез, и тотчас проснулась, открыла глаза и увидела, как огромное человеческое лицо склоняется над бортом корабля и заслоняет все небо, и этот человек смотрит на меня с такой любовью, что у меня просто сердце растаяло, потом говорили, что берег Новой Зеландии в ту ночь смыло целиком (в Японии они называют эти всплески моих чувств цунами), и этот человек сказал другому человеку, который стоял возле него, – лица того, второго, я не видела, – он сказал ему: ты видишь, Питер, в этой толще заключена самая суть вещей. Здесь под нами великие инкубаторы истории и всей Вселенной. Ни у кого никогда не достанет времени разгадать все загадки океана. А Питер засмеялся и сказал: это луна на тебя действует, Чарлз, и милый мальчик улыбнулся так таинственно и сказал: я не поэт, Питер, я только естествоиспытатель, и как естествоиспытатель я говорю тебе: на суше мы можем найти жизнь на глубине метра или двух, и над ней – на высоте всего лишь нескольких десятков футов – самое большее, но в море, Питер! Здесь кроются бездны гораздо более глубокие, чем мы можем предположить! Да, знаешь ли ты, Питер, что, если бы мы взяли ту гору, которая расположена на границе между Непалом и Индией и названа в честь нашего доброго знакомого Джорджа Эвереста, гору, которая считается самой высокой в мире, если бы мы взяли ее и опустили в море, допустим, во впадину возле Гуама, вода покрыла бы ее целиком и над ней еще оставались бы две мили глубины? Извини меня, Бруно, что я позволяю себе немножко похвастаться и погордиться, но это только ради того, чтобы объяснить тебе, насколько глубоко я умею проникать в суть вещей. И даже в сущность одного человека. Во всем мире ты не сыщешь такой специалистки разгадывать загадки и улавливать еле заметные знаки, которые в любое мгновение жизни оседают в твоем теле, все твои мысли и желания, ведь каждое событие и каждое движение души обязано оставить где-то малюсенькую зарубку, или пятнышко, или складочку, взгляни на лица стариков, этих человеческих созданий, многие годы бредущих по жизни, у них внутри уже просто не хватает места, где можно было бы спрятать все эти меты, поэтому все отпечатывается на лице, взгляни даже на своих новых товарищей, на лососей: каждый прожитый год и все события их жизни, все несчастья и все удачи, прочерчивают новые и новые круги на их плавниках – в точности как на стволах деревьев: малое кольцо для месяцев, проведенных в реке, большое – для тех, что протекли во мне, и не исключено, что у Лепарика имеется уже вторая серия колец, отмечающая второе в его жизни путешествие, и извини меня, что я вообще в это вмешиваюсь – действительно, кто я и что я, чтобы всюду совать свой нос, – но мне было так больно услышать, что ты никогда не смеялся настоящим нормальным человеческим смехом, безудержным таким младенческим смехом, кроме одного-единственного раза, когда твой отец Якуб положил тебя к себе на колени и отшлепал по попке, но это был, разумеется, совершенно иной смех, и после этого вообще уже не было смеха, чего, но моему разумению, немного жаль, я как раз ужасно, ужасно люблю смеяться, и вот мы можем теперь посмеяться вместе, поскольку что же нам остается делать, кроме этого, но ты, даже когда я щекочу у тебя та-а-ам, остаешься серьезным и мрачным, и я – ты будешь смеяться – от этого немного обижа-а-а-юсь, Бруно.
Прошу прощения, что так утомил вас. Не мог удержаться от соблазна представить вам образчик этого выспренного, манерного и мелочного пустословия, которому я постоянно подвергался в Нарвии. Эти тысячу раз пережеванные мыслишки! Эта хитрющая дура! Огромная жидкая аморфная скотина! Какими дешевыми уловками пыталась она заморочить мне голову и отвлечь мое внимание от действительно важных для меня вещей, я ведь знал, что она хранит в себе все, даже утраченную рукопись «Мессии», но мне подбрасывает жалкие крохи, рассохшиеся скорлупки раковых шеек, пустые ракушки, оскопленные цитаты из его книг, которые я и так знаю наизусть. А, что там говорить!.. Невежественная попечительница, охраняющая залог, о ценности которого имеет самое превратное представление. Какой же безответственностью было со стороны Бруно доверить именно ей это сокровище, отдать бесценный клад именно в ее руки!
Я кипел от гнева и погибал от отчаяния, потому что самое позднее через неделю должен был вернуться домой, а до сих пор не обнаружил ничего сколько-нибудь важного. Целыми днями торчал в ней, в ее ледяной воде, терял драгоценные часы и излагал ей – к огромному ее удовольствию – все, что знал о нем. Я дрожал от холода, кожа моя шелушилась, как лепестки цветов-альбиносов на обоях в комнате отца Бруно, а она и не подумала хоть чем-нибудь вознаградить мои страдания. Я видел, что она испытывает какое-то животное наслаждение от того, что так ловко водит меня за нос – выуживает из меня нужные ей сведенья, а сама не спешит даже намеком обнаружить то, что волнует меня. Вечера я проводил в обществе вдовы Домбровской, которая не покладая рук латала постельное и прочее белье и бросала на меня косые завистливые взгляды. Я исписывал многие листы, сидя за старенькой швейной машинкой, которая служила мне письменным столом, и тут же рвал их. Как ни досадно, приходилось признать, что я не способен написать ни слова без ее помощи и подсказки. Самым унизительным было именно то, что я завишу от нее.
Поэтому назавтра я не сунул в нее даже пальца на протяжении всего дня. Разгуливал по берегу, склонялся над прекрасными нарциссами, даже забавлялся идеей основать здесь, в Нарвии, морской музей, располагающий богатейшим собранием перламутровых ракушек, и назначить себя его директором. Заняться этим делом профессионально. Потом потащился по берегу в сторону маяка, забрался по крутым ступеням на верхний этаж. Не хочу хвастать и задаваться, но в деревне мне сказали, что лишь немногие туристы способны выдержать это испытание: преодолевая страх и головокружение, охватывающие тебя в тех местах, где часть стены обрушилась в море, продолжать подниматься по повисшим над водой ступеням. Потом я обнаружил, что стоит сделать еще последнее усилие и перебраться с верхнего этажа на узенькую площадку, на которой установлен прожектор. Проползти еще несколько метров по растрескавшейся лестнице, по всей видимости уже совершенно лишенной какой-либо опоры. К моему огорчению, день клонился к вечеру, и мне пришлось отказаться от продолжения этой увлекательной прогулки.
Я вернулся на берег и еще час или два, до самых сумерек, в полном одиночестве, под порывами свежего восточного ветра, окончательно закоченевший, сидел в своем шезлонге и клокотал от злости, смотрел прямо в нее и проклинал свою злосчастную судьбу, которая свела меня с ней.
Вдова тоже откровенно негодовала. Она была уверена, что я либо сумасшедший, либо американский шпион, либо то и другое вместе. Вся деревня была необычайно возбуждена и с подозрением относилась к моему присутствию, как выяснилось, из-за демонстраций, проходивших в соседнем городе. Мою хозяйку сердило и то, что я допоздна жгу свет (и заодно, разумеется, подаю сигналы американским бомбардировщикам). Не исключено также, что она видела накануне, как я бросаю в море цветы.
Следует признать, это была дурацкая затея. Я пытался быть любезным, подмазаться, снискать ее расположение, по дешевке подкупить ее. Не что-нибудь серьезное, всего лишь крохотный букетик фиалок, который мне продал какой-то деревенский мальчик. Ведь в ней, в ее глубинах, нет цветов, по крайней мере таких, которые издают аромат. Одна женщина, которую я знал, любила фиалки. И вчера вечером на берегу… Это доставило мне странное удовольствие. Возможно, потому, что я вдруг очень затосковал по ней. Я бросал в море цветок за цветком… Такая вот женщина… Глупенькая… Нет, как раз умная… Непредсказуемая такая, переменчивая, странная, завуалированная… Любит – не любит… Ведь я приехал сюда для того, чтобы забыть ее! Разумеется, не только ради этого, но и для этого тоже. У меня имелось абсолютно твердое и хорошо продуманное решение по этому вопросу, а я, как известно, всегда исполняю свои решения, и мое освобождение от нее я готовил как настоящую военную операцию, отвел определенный отрезок времени для неизбежной депрессии, и еще несколько месяцев для преодоления отчаяния, которое, я знал, обязательно придет вслед за депрессией, потом – недели выздоровления, восстановления, прилив новых сил!.. Все было так замечательно распланировано, но отчего-то не сработало. Такая женщина… Ведь она разрушила, в самом деле разрушила, мою жизнь и жизнь моего ангела, моей Рути, пробудила во мне эту проклятую неутолимую жажду, и я не знаю теперь, что с этим делать, я отвратителен сам себе, мне тошно подумать о моей прежней жизни, о моем убогом писательстве… Заявила, что я предатель. Иди, пиши для робких и боязливых! – сказала мне перед тем, как вышвырнуть меня вон, и еще этот прощальный дар, эта книга, это потрясение, сладкая дрожь при приближении развязки… Неумолимая, требовательная, жестокая – ушла от меня, чтобы быть с другим!.. И после него еще с одним. С такими, которые не осторожничают, которые раздираемы жаждой жертвенности. Иначе и они будут изгнаны. Она не оставляет нам выбора… Но ведь я притащился сюда, чтобы забыть!
Я, как видно, задремал. Прикрыл глаза, чтобы не видеть этого бесцветного песка, этих унылых волн, которые она злокозненно гонит в мою сторону. Задремал и снова видел во сне Аялу. Наше первое свидание после того, как уже расстались. Я весьма настаивал, можно сказать, требовал, чтобы она согласилась встретиться, чтобы я мог рассказать ей, что со мной сделала эта книга. Она слушала молча, вся собрание идеальных округлостей под гладкой смуглой кожей, черные волосы туго натянуты надо лбом и собраны на макушке в маленький сексапильный хвостик. Это был один из тех редких случаев, когда она не издевалась надо мной и не отпускала колких презрительных замечаний. У меня тотчас возникла надежда, что, может, это дает мне какой-то шанс, и я начал с воодушевлением излагать отчет о своих впечатлениях. Всегда почему-то выходило так, что я рассказывал ей больше, чем предполагал сказать, и всегда чувствовал, что подвергаюсь испытанию. Интерес ее к моим словам очень быстро потух и иссяк, она вздохнула, поднялась и принесла ацетон и ярко-красный лак. Принялась подравнивать и красить ногти на своих толстеньких прелестных ножках. Как бы между прочим поинтересовалась здоровьем Рут и заметила, хмыкнув, что Рут «в самом деле праведница», если согласилась принять меня обратно после всего, что я ей сделал (как будто сама она не имела к этому никакого отношения!). Еще сильнее наклонилась, разглядывая какой-то ноготок, и мне открылись ее груди. Я сглотнул и взял с себя клятву, что не унижусь перед ней никакими мольбами. И разумеется… Она холодно отказала мне и посоветовала не унижать себя неисполнимыми мольбами. Я прибегнул к хитрости, сделал вид, что пошутил, и снова принялся говорить о Бруно. И действительно, сумел вновь завладеть ее вниманием. Более того: заставил ее нежные, припухлые, исполненные таинственной духовности веки постепенно опуститься и прикрыть зрачки. До чего же я люблю видеть ее такой! Она выглядела даже более загадочной и далекой, чем обычно. Спросила, как продвигаются процедуры Рут, я ответил, что все еще имеются проблемы, попутно сообщив, что я отказываюсь проверяться. «Но давай не будем об этом, – произнес я угрюмо, – я хочу рассказать тебе о Бруно».
Она вскинула ресницы и ухмыльнулась своей самой мерзкой улыбкой. Я понял, что ее не тронуло ничто из всего, что я рассказал о Бруно, и теперь следует ожидать обычного презрительного отзыва о моей внешности и одежде (опять Рут выбирает тебе рубахи!), насмешек над моей прической и небрежного прикосновения пальцев, расстегивающих верхнюю пуговицу на моей рубашке: «Мне уже делается душно только от того, что я вижу тебя в разгар лета так вот застегнутым!» Короче – сейчас мне будут внушать, что я урод, ничтожество, недоразумение, мерзкая цеплючая блоха. Но ничего такого не произошло, вместо этого она сказала только, что уверена – уверена! – что в глубине души я презираю (!) Рут за то, что та не способна родить. Разумеется, это была злобная выдумка и клевета. Я объяснил, что действительно верю, что каждый из нас в определенной мере несет ответственность за свою ущербность, что по нашей собственной вине мы не находим в себе сил отменить приговор судьбы и я лично рассматриваю себя как пример человека, который усилием воли сумел высвободиться из совершенно чуждой ему биографии и благодаря неутомимому активному поиску нащупать ту, которая подготовлена его личной историей, воспитанием и даже – что ж тут такого? – его характером, да, а в отношении того, что она сказала по поводу Рут, так ведь известно немало научно удостоверенных случаев, когда совокупность твердого характера и воли к жизни позволяла больному превозмочь смертельный недуг, и это, разумеется, может быть справедливо, даже когда речь идет о бесплодии, но сказать, что я презираю Рут, – это просто глупость и подлость.
Аяла терпеливо выслушала эту тираду, а потом промолвила нежным, медовым голоском, в котором проскальзывала даже нотка простодушия: «Любая слабость и ущербность означают страдание; а страдание требует участия; а участие означает открытость, преодоление барьеров. Ты – маэстро, Шмулик. Виртуоз отчуждения и непричастности. Иногда, – сказала она, – ты пугаешь меня. Потому что такие трусы, как ты, способны на все, когда чувствуют, что их ловкое мастерство оставаться в стороне подвергается опасности».
Я вдруг понял, что должен сделать, чтобы удостоиться ее. Добиться ее единым поразительным и гениальным ходом! Ни минуты не раздумывая, я объявил ей, что собираюсь отправиться по следам Бруно. Она снова снисходительно усмехнулась и вежливо пожелала успеха. Поскольку она не поверила мне, мое решение сделалось твердым как сталь. Она продолжала красить свои очаровательные кругленькие ноготки и как бы мимоходом заметила, что ее удивляет, как я безошибочно выбрал для себя два крайних возрастных состояния:
– То ты чересчур стар, то слишком инфантилен. По-моему, это просто неосознанная хитрость – ты бежишь таким образом от необходимости соответствовать своему истинному возрасту.
Я обиделся и сказал:
– Когда-то ты любила во мне и это.
– О да! – согласилась она. – Ты даже не представляешь, до какой степени.
– Тебе не мешали ни моя старческая мудрость, ни ребяческая наивность.
– Совершенно верно, – подтвердила она. – Потому что я верила в них. И в тебя тоже.
Веки ее легонько вздрагивали. В ней было противоречие, которое я так никогда и не сумел объяснить: несмотря на все это утомительное пустословие, на беспрестанный шум, сопровождавший каждый ее шаг, на откровенный эгоизм и цветастые облака таинственности, которыми она обожала окружать себя, общение с ней оставляло ощущение точного и глубокого проникновения в суть вещей. Тронутого к тому же неподдельным отчаяньем. Ее вечное ехидство и злорадство были лишь маской. О, женщины!.. В тот вечер она рассказала мне о Вальтере Виньямине. Виньямин был евреем, а также немецким философом и писателем. Всю свою жизнь он был влюблен в картину Пауля Клее «Новые ангелы». Он обожал ее и преклонялся перед ней. Он писал о ней. Он нуждался в ней. Это была странная система отношений между человеком и художественным произведением. Ему удалось приобрести картину, и с тех пор она сопровождала его повсюду, во всех его скитаниях. Созданный им журнал Виньямин назвал «Новые ангелы».
– Между прочим, – сказала Аяла, – некоторое время назад я видела эту картину в одной лондонской галерее и, ей-богу, не поняла, что он в ней нашел. Видно, каждому из нас соответствует особый таинственный ключик, которым можно отомкнуть только душу одного, именно этого человека. Как это прекрасно, правда?
Я не понял, зачем она рассказывает мне об этом. Аяла – неутомимая собирательница абсурдных анекдотов, всевозможных обрывков никчемной информации и самых невероятных выдумок и сплетен. Весь ее интеллектуальный багаж ограничивается лоскутками сведений о знаменитостях, таинственных происшествиях и непостижимых потусторонних явлениях. Лоскут на лоскуте, заплата на заплате. Она, разумеется, отродясь не держала в руках «Критики чистого разума», зато умеет рассказать вам с тонкой заговорщической гримаской, что Кант всегда носил под брюками женские подвязки, и благодаря соблазнительной нотке интимности в ее голосе слушатель вообразит, что с той же легкостью и непринужденностью она может изложить и основные положения теории великого философа.
Я проснулся в панике, был уже девятый час вечера. Я проспал в шезлонге целый час. Вспомнив свой сон, я поразился, насколько точно он воспроизводил то, что имело место в действительности. Издеваясь надо мной, Аяла говорила, что даже сны мои скучны и упорядоченны, как портфель чиновника. Приходится согласиться, что это действительно так, за исключением тех случаев, когда меня мучают кошмары, о которых я ни при каких обстоятельствах не стану рассказывать ни ей, ни кому-либо другому. Из-за них я становлюсь отвратителен самому себе. Я поднялся из шезлонга раздраженный и совершенно разбитый и тут же в смятении отскочил назад: вчерашний букет фиалок лежал на песчаном холмике у моих ног… На берегу отпечатались следы маленьких ног. Влажные следы одной маленькой и весьма проворной волны…
Я решительно сбросил с себя полотенце, солнечные очки и пластиковый козырек для носа и бегом устремился прямо в нее. Я клокотал от гнева, но в то же время – мне самому трудно объяснить это – меня не покидало странное ощущение, что и она спешит мне навстречу, что вот-вот состоится радостное примирение, раскроются объятья, посыплются извинения, может, даже заверения в обоюдной симпатии – в самое неожиданное и непредсказуемое мгновение, как всегда, в сущности… Ее заигрывания со мной!.. Ее игры в меня… Она, видите ли, жаждет меня и тотчас готова прогнать. Я с силой рванулся к ней, шлепнулся животом на воду и принялся колотить по ней обеими руками. И тотчас услышал: не будь младенцем, Нойман, если хочешь знать, у меня имеются собственные цветы, целые леса, целые заросли цветов неописуемой красоты, плантации кораллов, россыпи изумительных самоцветов, горы ракушек всех размеров, расцветок и оттенков, так что глупо было с твоей стороны думать, что таким примитивным жестом ты сможешь поразить мое воображение, подлизаться и что-то выудить из меня. – Вся эта отповедь была произнесена низким грубым голосом, однако за ней последовало продолжение: – Но если тебе так уж хочется, я разрешаю сделать мне другой подарок, не исключено, что он как раз придется мне по душе, растрогает меня, кто знает… И не будь такой жадиной, подумай, пожалуйста, во мне о нем, ведь ты знаешь, что мне одной это немного сложно… Небольшая проблема со здоровьем, временная… Ради меня подумай о нем, можешь даже присочинить что-нибудь, придумай какую-нибудь историю, которой на самом деле не было, главное, думай про него, попытайся догадаться, что бы такое он мог сказать, наш милый Бруно… Ради меня, дорогой, ради нас обоих, попробуй, мой сладкий…
Хорошо. Я расскажу тебе. Ты еще пожалеешь, что просила меня об этом.
Теперь слушай.
Ты говорила о смехе, которого не оказалось в нем, а я расскажу тебе о страхе. Об одиночестве, на которое его обрекли характер и талант. О страхе перед человеческими отношениями, перед любовью и дружбой, о мучительных бесплодных колебаниях. И о другом страхе – перед безднами, пролегающими между двумя мгновениями, перед открытиями, которые совершались на бумаге после того, как его перо прикасалось к ней. Расскажу, как подымались из глубин пласты древней, первозданной истины, этой расплавленной кипящей магмы, как выкачивались и протаскивались через все защитные слои осторожности и благоразумия к его волшебному магнетическому перу, и он останавливался, читал и пугался, потому что всего этого, только что написанного, не было в нем за мгновение перед тем, и он догадывался, что сам становится тем самым слабым звеном, проводником безумных соблазнов, перед которыми люди не могут устоять, при виде которых сердце разрывается от тоски и вожделения, и тогда мой Бруно вставал, и принимался ходить по комнате, и усмехался с раздражением и отчаяньем, и говорил, что к нему уже пристало это великое безумие, он уже утратил способность провести границу между своей жизнью и собственными вымыслами, и не будет ли более логичным предположить, что сквозь такого человека, как он, сквозь такого недоленгу, отщепенца и неудачника, проникнут в мир именно абстрактные сущности глобальных роковых ошибок и издевательской, гротескной путаницы…
Но он отлично знал, к чему все это ведет и чем кончается, и страшился своей судьбы, а потому время от времени его неодолимо тянуло пуститься на обман и совершать мошеннические махинации: так или иначе объединяться с людьми, писать взволнованные письма (настолько взволнованные, что он сам начинал верить в их искренность), изображать притворную раскованность и даже обращаться к некоторым избранным на «ты» (обратиться к ним так письменно он почти никогда не отваживался: может, потому, что не позволял себе лгать на бумаге). Известно, что однажды он согласился сделать доклад перед достаточно многолюдным собранием, иногда даже позволял затащить себя на дружеские вечеринки и с ужасным смущением улыбался приятелям, которые пытались подпоить его, и действительно пил, не смея разочаровать их, и, когда его приветливо хлопали по узкому плечу, выдавливал из себя слабое подобие улыбки и изображал на своей ироничной физиономии подлинное внимание, когда ему вежливо объясняли: чтобы познать подлинное отчаяние («Подлинное отчаяние!» – кричали ему в уши и многозначительно прикладывали руку к грудной клетке в том месте, где полагается быть сердцу, что в данном случае было абсолютно излишним, поскольку он и так помнил, где у него сердце), чтобы «действительно писать, как настоящий сочинитель», не мешает, конечно, отчасти покончить с собой и отчасти сойти с ума, но в повседневной жизни, пан Шульц, нужно уметь выйти из состояния одиночества и почувствовать звучание общечеловеческой мелодии, всемирную печаль, а не быть таким неисправимым отшельником и аскетом. И Бруно, ты слышишь, всеми силами пытался позволить им убедить себя, чистосердечно пытался и вправду удостоиться случайных мгновений того прекрасного отчаяния, о котором они так много рассуждали, отчаяния, так плотно заселенного и порядком истрепавшегося от слишком частого употребления: пытался вскарабкаться на его светлые вершины из той тьмы, в которую был погружен, – лишь бы ускользнуть от холодного угриного страха, влажным тугим шарфом захлестывающего его шею в те мгновения, когда он смотрит на только что написанные слова или когда думает о том, что ему готовит будущее. Но мой Бруно не был способен – из-за характерной ущербности его натуры и прямоты характера – на частичное самоубийство, самоубийство с ограниченной ответственностью, и частичное безумие и не умел разбавлять свое одиночество в одиночестве других людей, поскольку прекрасно понимал: никто из них не предоставит ему убежища от уготованных судьбой опасностей и от страданий, на которые он обречен. Бруно знал, что существует путь, на который он обязан вступить: плыть с самим собой, покорно сидеть на своем стуле и отдаваться на милость острой проницательности своих описаний, на произвол двух лучей прожектора, обязанных скреститься на его лбу, желания и отчаяния, – и выжечь на нем каинову печать, обрекающую на бесконечные странствия; он знал также, что только когда он сидит в одиночестве в своей убогой комнате, возле простого деревянного стола, и пишет в обыкновенной ученической тетради, только тогда он может почувствовать, как постепенно напрягается все его тело, зажатое в клещах этой инквизиции, непревзойденной по своей жестокости и дарящей немыслимые наслаждения, как расплющиваются его кости и плоть, вытягиваются и истончаются его жилы – до того, что каждая жилочка, каждое подокно его мускулов полностью утрачивают свою материальность, окончательно упраздняются в измерении пространства и сновидений, и только тогда, когда он превращается в прозрачную вибрирующую мембрану, ему удается снова почувствовать удары большого барабана, содрогание тугой кожи, натянутой на громадный каркас, лихорадочное и отчаянное биение диких языков и омертвевших грамматик, умолкнувших оттого, что уже не осталось в мире ни одного человека, который умел бы понять их и воспользоваться ими, и перо Бруно как бешеное скачет по строкам или набрасывает поспешные эскизы, которые проецирует этот таинственный мир на плоскость его души и тела, чтобы сделать их ощутимыми и видимыми глазом, и так извергаются из Бруно его рассказы, элегии и мечты о райском саде, из которого мы были изгнаны сюда, в закостеневший, застывший и завершенный мир; в мир потрепанный, подержанный и давно переставший быть занимательным; в мир точных наук, канонизированных языков и выдрессированного, расчлененного на часы и минуты времени, – погляди на него, склонившегося над столом, губы его искусаны, подбородок остер, он пишет с остервенением, с размахом, со страстью, в полном беспамятстве – точно так же, как писал тебе о своем дерзком путешествии. Посмотри на него, когда он встречает и отражает своим пером опытного фехтовальщика удары расплывчатых призраков, туманных диких видений, еще не обретших четкой формы, еще не воплотившихся до конца, когда он берет клятву с гениальных эпох вернуться и предстать перед нашими глазами пусть хоть на единое краткое мгновение, и все это время он должен быть предельно осторожен и следить за тем, чтобы его перо не прокололо тонкую мембрану и все изобилие еще не высказанных слов, не запечатленных образов не хлынуло внутрь, не смешалось и не погибло, да, погибло, потому что этот мир не подготовлен к тому, что мерцает по ту сторону – что клокочет в экстерриториальных владениях Бруно: тут жизнь сгустилась и застыла в телах людей, как лава, которая вырвалась из жерла вулкана и тотчас окаменела на его склонах. И только в конце пути, только когда он оказался в тебе, только тогда отважился и рассек препоны и уже слабеющей кистью сумел написать свое последнее провидческое полотно, свой утраченный роман, своего «Мессию», и если уж мы случайно – нет, в самом деле, абсолютно случайно – коснулись этой темы, упомянули его великое творение, может, мне стоит теперь замолчать, чтобы позволить тебе поговорить о нем… Только незначительный намек, два-три слова, не более того…
– Не выдумывай. Я расскажу тебе о тораге Горока.
– Горока? Кто это – Горок? Я не желаю знать никакого Горока! Я хочу услышать о гениальной эпохе! О «Мессии»! Сию минуту, немедленно!
– Хватит, замолчи. – И после паузы: – Ты так ограничен, так замурован, ей-богу. Беспредельно глуп… Рассказал мне сейчас такие грустные, но такие верные вещи. Я не перестаю спрашивать себя, как тебе удается так глубоко понять его. Я ненавижу тебя за то, что ты можешь так разгадать его. Я знаю, как ты это делаешь: смотришь на себя и говоришь прямо противоположное. Ты…
– Достаточно.
– Нет, не достаточно! Я все скажу, потому что и ты говоришь, совершенно не считаясь со мной и не щадя меня. Все ты должен выложить! Все ты должен знать! Ты причиняешь мне смертельную боль. Злодей и праведник в одном лице. И я скажу тебе одну вещь: когда он был во мне и я ласкала и облизывала его, я обнаружила, что он совершенно истерзан, разорван на части. Множество посторонних созданий, Нойман, посторонних, преступных, злодейских, мельчайших созданий сновали в нем, как рыбы в каютах затонувшего корабля.
– Но он сделал это? Я знаю – он сумел! В конце концов – сумел!
– Чтобы я так жила! Почему из всех людей, которые любят Бруно, я должна была встретить именно тебя?! Веди себя спокойно! Ты хочешь слышать о его достижениях? Я расскажу тебе о достижениях. Лежи спокойно, не ерзай все время и не дрыгайся! По стилю твоего плаванья, дорогой, я могу заключить, что и танцевать ты не умеешь, я права? Готова поклясться!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































