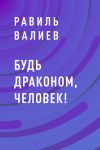Текст книги "Будь ножом моим"

Автор книги: Давид Гроссман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Мириам, ночью я бегал вокруг тебя.
Все. Семь раз проехал вокруг твоего дома, по окружной дороге.
Как ты умудряешься сводить меня с ума (сейчас услышишь – как)!
Сигарета. Голова как улей. Машина воняет. Дым арабесками липнет к лобовому стеклу. Только подумать, как я близок к кухне, на которой ты мне пишешь, к чуть подрагивающему свету неоновой лампы, к деревянной сове, на которой ты записываешь все свои «необходимые дела» и тут же забываешь. Даже к твоей гекконше Брурии, которая ровно в полночь принимается за дело.
Я здесь. Всему миру крепко спится, и маньяку, и убийце – и всю ночь один лишь я бегаю вокруг тебя. Боюсь рассказать, что еще я сделал. Скажи, ты уже что-то почувствовала? Ворочаешься во сне, не понимая, что за страсти тебя вдруг обуревают? Это я, это мое помешательство так действует на тебя, обдавая пеной своих волн. Сегодня ночью я совершил чисто религиозный ритуал, обежав вокруг тебя семь раз, как вокруг Иерихона – как ты не слышала моих хрипов? До того я уже много лет не бегал, со времен армейских учений. Это тощее тело с атрофированными конечностями уже давно осознало, что с тобой ему не вкусить райских услад, но я хотел, чтобы оно страдало. Послушай, я бегал вокруг тебя, видел твой дом со всех четырех сторон, и ржавые ворота, и велосипед у большого дерева во дворе, и террасу под сенью бугенвиллеи. У вас очень маленький домик – Мириам, он похож на полузаброшенную хижину, облицованную камнем, двор почти пуст, и одно окно разбито. Все сильно отличается от твоего описания, и вдруг я задумался: отчего ты сказала, что ваша маленькая семья, наверное, уже не вырастет?
А один раз в окне даже загорелся свет, и у меня душа ушла в пятки от страха и надежды, что это ты. Я молился, чтобы это ты стояла там в окне, всматриваясь в темноту: кто это там, боже праведный, кто там бегает? Я не могу поверить, я, наверное, сплю! И ты сразу поймешь, ты увидишь меня всего: и дон жуана, и чужака, и канатоходца, и ту потерянную душу, которая строчит тебе эти строки. Ты пристально посмотришь на меня и скажешь: иди сюда, лягушонок, идите все сюда!
Хорошо, что ты не вышла, ты бы в обморок упала, увидев меня в этом безумном состоянии. Ты бы подумала, что я – простой извращенец, обычный жалкий извращенец, который покорно платит дань бюрократии своих гормонов. Ты бы вызвала полицию или, еще хуже, крикнула мужу, который разделал бы меня на месте – он троих таких, как я, слопает на завтрак, не подавившись.
Ты, верно, не можешь разобрать мой почерк – еще более нервный, чем обычно. Кстати, я спросил маму, ты была права, – они действительно насильно переучили меня писать правой рукой вместо левой. Как ты догадалась? Откуда ты знаешь меня лучше, чем я сам! Смотри, как я сижу в машине и дрожу, зная, что никогда ни с кем не решался на подобное, и ума не приложу, что еще предпринять, дабы ты поверила: я предложил тебе то, чего никогда не предлагал никому, ни единой душе. Я с первой минуты знал, что от тебя мне нужна не просто беглая зарисовка из жизни – с тобой мне нужна история! Может, ты знаешь, как в научной литературе называется отчетливое жгучее желание, такая странная патология, когда ты готов рассказать свою историю только одному конкретному человеку – и больше никому. Я так сильно ощущаю это по отношению к тебе! Благодаря тебе вдруг активировался один конкретный отдел моего мозга, за левым ухом. Он растягивается и приоткрывается, когда я думаю «Мириам» – именно в нем зарождались мои детские видения и сны. Большую часть своего детства я провел там, под толщей льда, куда много лет потом не возвращался, да и дорогу позабыл. Как ты выразилась? Точно, это место попало в «измельчитель памяти». Но одно я помнил твердо: посторонним туда вход воспрещен, и не дай бог, кто-то узнает, что во мне есть такое место. Не забывай, что я человек, рожденный родителями, и до восемнадцати лет жил в семье. То была семья как принцип, семья-концлагерь —
Я отвлекся. Совсем не об этом собирался рассказать.
Мне холодно. На дворе июль, а все равно холодно. Пока я бегал, вся моя кожа одеревенела от холода.
Кстати, это совершенно не походило на танец в лесу на горе Кармель. Там все было залито светом и теплом, а здесь я чувствовал, что ныряю в бесконечную тьму, что кожа не способна удержать внутри все, что бурлит под ней, что этой ночью я пересекаю свою собственную границу. Я знаю, о чем ты сейчас подумала: границу тьмы. Верно. Наконец это чувство обретает словесную форму – уже хорошо, – но посмотри, как оно дробит меня на части. Вот с Майей совсем не так. Тогда зачем же мне это?
Особенно явно это ощущалось на трех последних кругах, когда я вдруг понял, что мне нужно делать и зачем я на самом деле оказался здесь этой ночью. И не подумай, что во мне не заговорило сомнение, – еще как заговорило, но быстро смолкло. И я сказал себе: черт возьми, чего ты вообще стоишь, если не сделаешь этого ради нее? Ты же решил отдать ей все, что зародится в тебе от связи с ней. Я пытался возражать, спасти себя: а что, если какой-нибудь случайный прохожий увидит меня, вызовет полицию, и она меня арестует? И я засмеялся над собой: всю жизнь я заключенный, так чего сейчас начинать бояться? Так я сидел в машине, снимая с себя одежду – одну вещь за другой, и обувь с носками, – и так я вдруг превратился в другого человека. Это произошло за несколько секунд. Какая тонкая грань: только что ты был одет, а в следующий миг обнажилась твоя плоть, все животное, и даже глубже: как будто кожа слезла с тебя вместе с одеждой, с эпидермисом и со всем, что под ним. Я вышел из машины и почувствовал, что ночь сразу же потянулась ко мне со всех концов долины, как к своей жертве, к новому виду добычи, которую даже разделывать не нужно. Ночь с силой обвила меня, грубо облапав все тело. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного: безумный страх, перемешавшийся с наслаждением и немного со стыдом. Ибо ночь, как маньяк, проникала в каждую дырку, откусывая от меня куски и исчезая с ними в темноте. Вдруг откуда ни возьмись появились собаки – три гигантских пса, как из какой-нибудь шотландской народной песни, – и меня чуть удар не хватил. Это были, как мне кажется, собаки из породы поводырей для слепых – они стояли и лаяли на меня злым, упрекающим лаем. И я устыдился их, не как человек, представь себе – устыдился, как зверь, как собака ниже их рангом. Ты в состоянии это постигнуть? Можно вообще кому-то рассказывать о таком? Но, когда я побежал, они сразу умолкли, нет: хуже того, они попятились от меня, тихо скуля, и растворились во тьме. Я остался в одиночестве, один на один с собой – компания не из приятных. Я был одинок, как никогда в жизни. И знаешь, что я сделал? Я сунул нос себе под мышку и обнаружил там запах моих писем к тебе. И, решив, что мне, в сущности, нужно совершить эту ошибку, что она мне предначертана, – побежал.
Вот, рассказываю тебе все как есть: я бежал медленно, чтобы любой желающий мог меня схватить, ибо нутром чувствовал, что я неуловим, что, даже если и поймают мое тело, я останусь свободным. Так я пробежал вокруг тебя три полных круга. Выяснилось, что когда бежишь голышом, больше всего мерзнут шея и поясница, а еще область за ушами и под коленками. И в течение всей этой пробежки я думал: вот я перед тобой, Мириам, вот я перед тобой. Может, ты слышала что-то во сне – это кричала моя нагота, это тело мое выло, в ужасе от того, что я с ним вытворяю! Выйдя из дома, ты бы увидела, как я волоку его за собой, как моя внезапно освободившаяся душа впервые тащит его за собой, проводит его под твоими окнами, чтобы продемонстрировать тебе, как нелепо, ненужно и бессмысленно оно смотрится в нашей с тобой истории. Тело – мой самый неходовой товар, такой второсортный, что я не хочу осквернять им тебя.
С самых первых шагов без одежды я почувствовал, что все, свершилось: наконец-то я свободен, и я весь стал моей воспарившей душой, ее свободной, светлой и тонкой материей. Она вернулась. И вдруг я увидел, как оно, мое тело, бежит за мной – неприятное, неуклюжее и чужое, – бежит, спотыкаясь, задыхаясь от злости, и время от времени подскакивает, пытаясь схватить меня и вернуть на место. Но даже для своего тела я был неуловим в ту ночь. И с каждым шагом мне становилось все понятней, кто я и кто оно. Оно было всего лишь рабом, потом – обезьяной, потом – горсткой земли, не более, бледным, бесформенным сгустком золы, который вдруг встал на две ноги и заревел. Я выставил его на посмешище под твоим окном, принес его в жертву – вот что я сделал. Жертву за все те разы, когда я лгал им – своим телом, – жертву за скверну, которой иногда заражаю и тебя тоже, за эту мутную волну, то и дело накрывающую нас с головой. У меня в горле вздулся волдырь с горечью – не знаю почему, но он лопается, когда ты добра ко мне. Вот бы не было больше писем вроде того. Хотя точно пока не могу обещать. Еще когда я писал, знал, что это нехорошее письмо, что оно покоробит тебя в самых нежных местах. Хорошо, что ты не открыла его, что у тебя включается такое шестое чувство по отношению ко мне. Но знай и то, что я написал его, нарочно желая сделать тебе больно, поцарапать, вываляться в грязи перед тобой, доказать тебе – в этом-то все и дело, Мириам, вот он, горький, гадкий корень всех бед – доказать тебе, скажем, что я все еще свободен от тебя. Да, что я еще могу в один присест стать тем, кем был до тебя, что я еще не разбавлен твоей добродетелью, и немного отомстить тебе за мои же собственные измены.
И еще – из-за этой безумной инверсии: я постоянно чувствую, что ты верна мне крепче, чем я сам.
Начинает светать. Я уже рядом со своим домом (не беспокойся – одетый). Сижу в машине и пишу. Никак не могу остановиться. Сейчас я войду в дом и приготовлю для всех роскошный завтрак: омлет, кукурузные хлопья и салат, который нарежу из остатков своей совести. Ты и не представляешь, что мне пришлось выдумать, чтобы целую ночь провести вне дома.
Подумать только, я это сделал —
Надеюсь, тебе не кажется, что я торжествую или горжусь тем, что осмелился это сделать. Я вообще не понимаю, что чувствую. Только то, что в эту минуту мне лучше ничего не знать. Не думать о том, что я бежал в таком виде. Что это я был тем пятном, мерцающим в ночи.
Яир
Еще минутку. Вчера, перед тем как уйти, я укладывал Идо и читал ему книгу «Дитя-невидимка». Не знаю, слыхала ли ты о ней. Я читал ему о том, как один из героев, Муми-тролль, прячется в большую шляпу, которая меняет его облик до неузнаваемости. Все друзья, которые с ним играли, в страхе разбегаются, и тут в комнату входит Муми-мама. Она смотрит на него и спрашивает: кто это? Он взглядом умоляет ее догадаться. Ведь если она его не признает, как дальше жить? Тогда она внимательно смотрит на это существо, совсем непохожее на ее любимого сына, и тихо произносит: это мой Муми-тролль. И в тот же миг происходит чудо, его внешность опять меняется, чужеродная оболочка облезает, и он вновь становится собой.
Теперь все и правда в твоих руках.
16.7
Мириам.
Вначале я не понял, что читаю. Я, само собой, искал какую-то реакцию на свою ночную пробежку (искал главным образом восклицательные знаки после слов «довольно», «сумасшедший», «пошел прочь»), а тем временем глаза мои уже окосели от петель, пуговиц, крючков, вышивок, подолов и прочих принадлежностей женского культа, часть из которых – даже по названиям – мне незнакома (что такое органза? Что такое волан?). Но я тут же покорно стал повторять за тобой: кашемировая безрукавка, сиреневая блузка с колокольчиками, белая кофта с деревянными квадратными пуговицами…
Ты, конечно же, можешь себе представить, что я твердил себе, пока читал – не может быть, чтобы женщина так поступила, ни одна из знакомых мне женщин не могла бы такого сделать. Тебе ведь это известно, да?
Повседневные платья и платья праздничные, те, что прячут тебя, и те, что обнажают (я просто дразню свое воображение, пережевывая лакомую жвачку), классическое с открытой спиной, и femme fatale, сиреневое с круглым воротником (вообще, я понял, что сиреневый – твой цвет), на ощупь будто шелк, но не шелковое, очень воздушное. Оно облегает только в груди, а в остальных местах почти не касается твоего тела (не мешай, тут надо сосредоточиться!). Еще одно сиреневое, с вырезом-лодочкой от плеча до плеча, струящееся на попу и бедра…
Читаю и смеюсь, ведь для меня одежда – самый верный способ спрятаться, а для тебя, чувствую, – еще один живой слой твоего естества. Хоть ты и не можешь сдержать жалобных ноток (слегка фальшивых, как мне кажется). Кажется, ты еще привержена некоторым условностям – все эти немного напыщенные вздохи по поводу бедер, поиски одного совершенного платья, которое подчеркнет грудь и скроет таз (сударыня, вы не понимаете, на что жалуетесь. По моей – весьма строгой – оценке у тебя чудесная попка, два мягких, светящихся полумесяца. Сделай одолжение, доверься в этом вопросе профессионалу).
Можно еще немного побаловаться?
В какой-то момент была у меня мысль, что ты насмехаешься надо мной – я всегда допускаю такую вероятность, – но я не повелся, снова поддавшись волшебству этой каталогизации. Кто открыл тебе, что я бессилен перед чарами бюрократии? В бессознательном состоянии, глупо улыбаясь, я завернулся в кокон из шелковых нитей, обволакивающих твою кожу. Шелк, хлопок, шерсть, кружево, вышивка, атлас и муслин, или то, которое сшили тебе к выпускному вечеру – с блестящим подолом, расшитым нитками мулине. (Как ты помнишь такие вещи? Я не помню, во что был одет вчера!) И, повторяю, это невозможно – это противоречит всем правилам. Ни одна нормальная женщина не раскрыла бы вот так, на зачаточном этапе нашей связи, все свои маленькие тайны. Не продемонстрировала бы мне с такой комичной деловитостью свои бюстгальтеры (подари мне в следующей жизни два последних, с кружевом). Они, кстати, порадовали меня именно своей простотой, слегка старомодной среди соблазнов сегодняшнего рынка. О, моя девочка с лицом пятидесятых годов, ничто тебя не спасет.
Больше всего мне понравилась улыбка, с которой ты это писала, – заметила? Нам с тобой она в новинку – эта улыбка женщины, занятой своим женским ремеслом, очень личным и интимным. И хотя само действо не особо ее занимает, она уже предчувствует наслаждение, которое она и ее мужчина испытают при встрече благодаря этим маленьким приготовлениям. Своего рода личный очистительный ритуал.
И вдруг меня осенило —
Ты писала все это совершенно голая.
Яир.
Вот я перед тобой, – сказала ты мне.
Да.
Знаешь, иногда я медленно соображаю. Читая твое письмо в первый раз, я решил, что ты предлагаешь мне свою одежду, чтобы прикрыть мою наготу, но подобная мысль совсем с тобою не вяжется, наоборот. Потом мне показалось, что это – оригинальная попытка соблазнения, странная, немного смешная, малость нелепая. Словесный стриптиз. Но даже если письмо и начиналось с этого, постепенно мелодия твоего голоса менялась.
Вот нагота, говоришь ты (или это мое прочтение), нагота, непохожая на нож и непохожая на рану. Нагота открытая и ранимая, немного пристыженная и взволнованная. Такая же, как твоя. Несовершенная нагота, нагота женщины моего возраста. Посмотри, – говоришь ты, – моя нагота слегка не уверена в себе, идет на мелкие ухищрения, чтобы загримировать недостатки. Но готова разом отказаться от всех уловок ради того, кто решит взглянуть на нее добрыми глазами.
Вот нагота, которая пользуется одеждой (ты считаешь?), блузками, платьями, бюстгальтерами, ремнями, точно как люди пользуются словами, их словами. Но ты – приди, потрогай, почувствуй. Эта нагота может и исцелить.
Мириам, по двадцать раз на дню я повторяю себе: «Она искренне и наивно хочет тебе помочь». И по-моему, это просто чудо, потому что в глубине души я все еще не понимаю, что ты во мне нашла, и почти не верю, что эта наша связь – это про меня. Расскажи мне как-нибудь, что я могу тебе дать? И что даю? И что во мне так тебя возбуждает? Бывает, что я беззвучно кричу на себя: помоги же ей хотя бы помочь тебе, предстань перед ней как ты есть. Без всех этих твоих игр и гильотин. Чего ты все еще опасаешься? Почитай, что она пишет, это же так очевидно…
Более того, стоит мне подумать о той области моего мозга, когда рядом нет тебя, твоих читающих глаз – она тут же исчезает, остывает, ссыхается. То же самое произошло, когда ты вернула мое письмо, не распечатав и не прочитав. Я одеревенел. Решил про себя – все, вот тебе и конец. Не так давно ты писала, что, если кто-то отвергает твое сильное чувство, он словно уничтожает, стирает тебя целиком и полностью. Тогда это показалось мне несколько высокопарным преувеличением. Но, когда ты вернула мне письмо и я решил, что ты больше не желаешь меня, отвергая мое чувство к тебе, я тут же со всей ясностью осознал суть этого твоего «стирания»: несколько часов подряд я прямо-таки бегал по своей черепной коробке, не находя ни той области, ни дороги к ней. Я понимал, что она вот-вот снова перестанет подавать сигнал, и боялся, что, если ты не останешься в ней со мною, в одиночку я никогда не смогу найти дорогу.
Знаю, что бормочу несвязное, но уверен – ты меня понимаешь. Кто, если не ты? Ты как-то упомянула о мрачных годах – годах твоего первого брака, когда на душе у тебя стояли сибирские холода. Не знаю, что именно произошло, но ты чувствовала, как сам факт твоего существования обедняет скрытую в тебе «залежь драгоценной породы» – потому что она совершенно никому не нужна, и никто в мире даже не знает, что можно попросить ее у тебя… Три или четыре таких предложения ты написала, а потом вдруг выдумала мне название, название для минерала, которым я являюсь. И стоило тебе дотронуться до него, как этот минерал стремительно начал менять свой цвет, температуру, плотность, молекулярное строение, сделавшись из низкого благородным. Что еще тут добавить.
Ты пишешь – если бы не уверенность в том, что я в конце концов осмелюсь полностью открыться тебе, ты бы давно со мной порвала. Знаю, но в глубине души опасаюсь, что твой план не увенчается успехом. Я отчаянно хочу тебе помочь, но не могу. Пойми, я лишен возможности тебе помочь – по закону, по моему идиотскому кодексу. Что-то бессильное есть в той чистой белой точке в самом центре бытия, там лежит какой-то мертвец. Мне же, беспомощному свидетелю, остается лишь наблюдать за твоими героическими попытками воскресить его, молясь, чтобы ты не опустила руки.
17.7
Всего лишь записка на столике в кафе. Главным образом мне доставляет удовольствие отправить тебе что-нибудь из Тель-Авива. У меня сегодня было здесь кое-какое дельце, на севере, в районе театра Бейт-Лесин. Я закончил рано и, вместо того, чтобы сразу вернуться домой, погулял немного, думая, как здорово было бы, очутись ты здесь со мной.
Ничего особо дерзкого… Просто прогуляться с тобой за руку, посидеть в кафе. Я даже заказал две чашки черного кофе.
Хорошо побыть с тобой вот так, не спеша. Иногда ты жалуешься, что я слишком тороплю тебя, будто нам с тобой нужно как можно быстрее достигнуть какой-то цели («твой курок всегда взведен, всегда в боевой готовности»).
Яблочный пирог? Со взбитыми сливками, и к дьяволу диету? Ладно, одна тарелка и две вилки. Официантка улыбается, люди смотрят – ну и пусть. Ты кладешь свою руку на мою, и мы болтаем о том о сем. Ты приподнимаешь подол платья, демонстрируя мне под столом туфли, и спрашиваешь: не купить ли еще пару таких же, спортивных, но ярко-оранжевых. «Хочу разориться на туфли», – говоришь ты. А я пожираю глазами твои длинные белые ноги и отвечаю: «Почему бы и нет, тебе пойдет, разрешишь мне за них заплатить?» Ты улыбаешься мне и спрашиваешь, по-прежнему ли меня раздражают твои очки. И я крайне внимательно разглядываю их, минутку —
(Сердце мое сгорает дотла, когда я вижу, какая западня поджидает меня на твоем лице – между этими очками и губами. И все-таки они слишком большие и строгие…) Ты позволяешь мне нести чушь, поглаживая мою руку. Я прошу тебя, а ты отвечаешь «нет», я снова прошу, а ты отвечаешь, что ты уже дважды рассказывала. «Рассказывала что?» – лукаво улыбаюсь я. Ты вздыхаешь и в третий раз пересказываешь историю о том, как тебе удалось разыскать китаянку, с которой ты познакомилась много лет назад в университете, и как она помогла тебе найти адрес той газеты в Шанхае. Я гляжу на тебя и ловлю с твоих красивых губ каждое слово. Как же мне не пришла в голову эта идея. Я сам должен был это придумать.
«Разве не прекрасно, – объясняешь ты, – что только мы вдвоем из целого миллиарда израильтян будем получать раз в неделю эту газету». И я беззвучно, одними губами, цитирую тебя: «ведь утверждение о «четырех миллиардах китайцев» тоже требует доскональной проверки». И мы оба смеемся над нашими китайскими версиями, над Мири-ам и Я-иром.
Послушай: только что тут в кафе маленькая девочка попросила отца, чтобы он озвучил ей свой самый низкий голос. Он издал что-то вроде: «Бэ-э-э» – громко, как бык. И тут же со всех сторон тихонько послышались похожие голоса мужчин, решивших опробовать свои голоса…
Ну и я туда же, как ты можешь догадаться.
– Ты, верно, знаешь, как называются эти деревья с красными цветами?
– Скажи, в честь кого назван театр Бейт-Лесин?
– Сперва ты расскажи, как вы с Анной в юности играли на пианино.
– Но ведь об этом я тоже уже рассказывала.
– Ну, что тебе стоит повторить.
– Я и правда вдруг позабыла, рассказывала ли я уже о поездках в Хайфу, в нотный магазин Байера на улице Герцля, в Бейт а-Кранот?
(Рассказывала, но я молчу.)
– Но ведь я точно писала тебе о великолепном сборнике нот, который там купила. С «Экспромтом» Шопена и «Военным маршем» Шуберта. Только не помню, что я играла – саму мелодию или аккомпанемент. Но хватит, довольно, все это я уже рассказывала!
– Да, но ни разу не рассказывала в Тель-Авиве, в этом сиреневом платье (с плотно облегающей и прозрачной верхней частью и – держи меня – воланом внизу!) А еще мне так нравится слышать, как ты произносишь «мусика»[17]17
В иврите существует два варианта произношения слов, заимствованных из греческого, например: «мусика» и «музика», «фисика» и «физика».
[Закрыть], я-то до тебя всегда говорил «музика».
– Правда? А я и не обращала внимания.
– Ты, наверное, говоришь «Парис» или «фисика»
(У меня все записано!)
– Ой, Яир, ты и не представляешь, я сейчас говорю что-то очень «фисическое»…
Или вдруг случайно мимо пройдет Анна в одной из своих умопомрачительных соломенных шляпок, и мы пригласим ее посидеть с нами. Она сядет, с трудом доставая ногами до пола, бесцеремонно переводя взгляд с тебя на меня, и все поймет. Без единого слова ей станет понятно все, что нужно. Я почувствую, что меня принимают в какую-то маленькую ложу для самых избранных. И, возможно, я даже не побоюсь сделать ее соучастницей нашей тайны, потому что на Анну, как ты постоянно повторяешь, можно положиться (только все равно пока что ничего ей не рассказывай).
Я завидую, что у тебя такая подруга. Закадычная подруга.
Я? У меня? Такой друг, как у тебя – Анна? Если бы. Скажем, есть всякие исполняющие обязанности – из армии, с работы. Из всех них, вместе взятых, может, и можно собрать что-то наподобие.
Когда-то был друг. Был. А жаль.
(Какое солнце, Мириам, какое дивное солнце. Я зажмуриваюсь, сидя к нему лицом, и пытаюсь увидеть тебя.)
19.7
Письмо все еще не пришло. По дороге домой я снова заглянул в почтовый ящик – письма не было. Не знаю, что со мной сегодня. С утра бегал без остановки. Как будто какая-то часть меня, какой-то орган бродит сам по себе по свету, и мне неизвестно, что с ним творится.
На дворе ночь, а я бодрствую. Вот уже несколько недель я наслаждаюсь легкой бессонницей. Майя купила мне снотворное, я выбрасываю его в унитаз и уверяю, что на меня ничего не действует. Хочу спать. Хочу не спать. Как ты однажды сказала: ночь – это время наших с тобой встреч.
(Меня, кстати, спрашивают, почему мне не спится по ночам. И что же я все время пишу. Я придумал объяснение, которое не слишком далеко от истины. Говорю, что пытаюсь впервые в жизни написать рассказ.)
Позавчера в тель-авивском кафе в сиянии солнца у меня вдруг оформилась одна темная, сырая мысль, которая уже давно зрела во мне: что я своего рода «черный близнец». То есть (ты понимаешь? нужно пояснить?) который еще в материнской утробе убил своего брата-близнеца. Я знаю, что тебя подобная мысль не рассмешит. Она, как тень, всегда сопровождает меня, с самого раннего детства – что я по сути обречен с самого начала, безнадежно покалечился в утробе, борясь со своим братом-близнецом. Кем он был? Не знаю. Зачем мне понадобилось его убивать? Не знаю. Даже сама эта мысль всегда остается в зачаточном состоянии. Он был лишь крохотным светлым тельцем, мне мерещится, как он окутан не то желтоватым, не то золотистым свечением – такая внутриутробная, но, вместе с тем, овеянная небесным сиянием материя. То есть от него струился тихий, искристый, постоянный поток света. А я его убил.
Сейчас, написав это, я впал в тоску.
Порой мне жаль, что мы с тобой не встретились как-нибудь по-другому, попроще. Начали бы с какого-нибудь неистового флирта и лишь потом, постепенно открывали все остальное. Только представь.
Вот бы мы сейчас оказались в каком-то обычном месте. Не важно где, в каком-нибудь заурядном местечке, где люди встречаются просто так: на улице, в офисе, в городском саду – где захочешь, где ты вздохнешь полной грудью. Только бы быть, без единого слова. Даже если это будет всего лишь овощной магазин, как ты однажды дразнила меня.
Знаешь, что я иногда проделываю? Тру кулаками глазные яблоки, пока не появятся искры. Ты рассказывала, что так успокаивала себя в детстве, в твоей яме Иосифа. Добывала свет в самой себе. Я сейчас не чувствую себя брошенным, вовсе нет. Но чувствую, что мне чего-то недостает.
Вот и магазин. Видишь? Овощной киоск, как в старые времена… Картонные и деревянные ящики. Старинные весы с черными чугунными гирями.
А вот и ты – здорово, что ты здесь. Стоишь ко мне спиной. Немного склонила голову, и передо мной обнажилась твоя белая шея с длинным и нежным переплетом позвонков. Ты стоишь возле ящика с картошкой. Предельно просто, верно? Держишь что-то в ладонях. Что это? Очень большая картофелина, немного в земле – и ты завороженно глядишь на нее. Что сейчас произойдет? Без понятия. Что выйдет из-под моего пера.
Я прохожу у тебя за спиной, раз, затем еще раз. Приближаюсь и отдаляюсь. Снова приближаюсь. Меня тянет к тебе. Не возьму в толк, чего ты так расчувствовалась из-за картофелины.
И вот ты остановилась посередине этой маленькой лавочки, не замечая других покупателей, не слыша автобусов, которые проносятся по улице, испражняясь черным дымом. В полном одиночестве, глубоко погружена в себя. Что там у тебя внутри? Пожалуйста, возьми и меня с собой, спрячь и меня там. Я остался снаружи и завидую бататам. Нагло заглядываю в твои ладони и вижу, что эта картофелина напоминает человеческую физиономию. А сейчас что произойдет? Без понятия. Просто дрейфую к тебе.
Ты замечаешь мой взгляд и смущенно улыбаешься своей горькой улыбкой. Она есть и в твоих словах, всегда. Как будто всякий раз ей нужно заново прокладывать себе дорогу сквозь боль.
Ты улыбаешься, виновато пожимая плечами, будто тебя поймали на месте преступления, забывая, что вне тебя все преступно. Ты указываешь рукой на ящик с картошкой, будто предлагая и мне выбрать себе одну. Я наклоняюсь и оказываюсь перед грудой странных рожиц, уродливых, перекошенных, которые вдруг ни с того ни с сего разбивают мне сердце.
Внезапно с меня начинает облезать грязная чешуя. Толстые засохшие наросты. Как я оскотинился, Мириам, как перепачкался.
Мы оба молчим. До сих пор не сказали друг другу ни слова. Вокруг нас толпятся люди. Мы загораживаем проход, и они возмущаются. Неважно, имеем право. По сути, ты еще в самом начале объявила – происходящее между нами имеет право на существование. Как ты меня тронула, сказав, что позволяешь себе быть совершенно свободной в своих чувствах ко мне.
Ты глядишь на меня. Удивляешься, что я не тороплюсь выбрать себе картофелину. Я стою, поглядывая на тебя. И тут ты, будто уловив в моем взгляде то, чего сам я не замечаю, протягиваешь ко мне обе руки, передавая свою картофелину. Я слегка дотрагиваюсь до нее, не более. Она уже согрета твоим теплом. От нее исходит человеческое тепло, и я заставляю себя вглядеться в эту физиономию монголоидного ангела со слишком широкими рябыми щеками. Глаза у него очень черные. Спят глубоким слепым сном. Это приводит меня в уныние.
Почему ты выбрала ее? И почему отдаешь мне? Я хочу проснуться – но не расставаться с тобой. А если проснусь, то уже не буду с тобой. Я тут же смотрю на твою ладонь. Я вижу.
Странно, Мириам, но вот что я настрочил тебе. Непонятно, откуда это взялось и почему мне вдруг так тяжко на душе. Будто получил плохие вести. Это вообще ни с чем не вяжется. Думаю, что мне так хотелось рассмешить тебя – а смотри, чем все закончилось.
Не уверен, что мне нравится этот закон сообщающихся сосудов.
Как насчет переписки?
24.7
Моя дорогая!
Хотел только сказать тебе, что я сижу здесь, в полной тишине, перед твоим письмом, и слушаю тебя. И что ты ни в коем случае мне не в тягость. Ты мне не обуза, и уж конечно не затрудняешь моего пищеварения.
Я уже в тебе, Мириам, наконец-то я в твоей истории.
Ты с первой минуты меня переспорила: факты биографии и повседневные мелочи – это и есть твоя жизнь, а не какое-то «столпотворение».
Не перестаю размышлять о твоих словах – о том, что ты всю жизнь стараешься превратить то, что я называю «потным столпотворением», в нечто большее. Ведь если хоть на минуту ты прекратишь эту борьбу, то сама тут же смешаешься с толпой.
Как тебе только это удается.
Есть у меня стойкое чувство, что тебе сейчас тоже не спится. Может, твои собаки нервно расхаживают вокруг тебя. Спрашивают себя: почему она не спит в столь поздний час? Порядочной женщине положено в такое время спать. А не метаться посреди ночи между верандой и кухней.
Ты действительно нюхала их шерсть, пытаясь отыскать следы моего запаха? Я уже сказал тебе, что чуть не откинул копыта из-за них.
Не обращай на меня внимания. Мямлю что-то невнятное, засыпая на твоем плече, в полузабытьи. После этих безумных дней я имею право на бессвязный лепет.
Закрываю глаза и вижу женщину. Она сидит за столом и пишет. Ночь. В ее кухне слегка потрескивает неоновая лампа. Она выключает ее и зажигает маленькую настольную. Ее лицо погружается в лучи света. Я вижу лишь четкую линию челюсти, живой хрупкий рот, ее томящийся рот, и, конечно, непокорные волосы, которые она безуспешно пытается укротить резинками, расческами и заколками. На столе лежит письмо. Время от времени она поглядывает на него и снова продолжает писать, быстро и взволнованно. Волнение облизывает своим пламенем все вокруг нее, вздымается в воздух. Очевидно, на мгновение женщина поддается страху, пытается отшутиться, спасти свою душу: «Скажи на милость, где ты видел в наше время женщину, у которой есть время стоять в овощной лавке, изучая картошку?!»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?