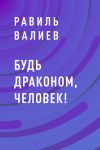Текст книги "Будь ножом моим"

Автор книги: Давид Гроссман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Но губы ее начинают дрожать. Она пишет что-то и со всей силы зачеркивает (так беспощадно она еще не черкала ни в одном из писем), встает, садится, объявляет, что ей необходимо выйти на улицу и немного пройтись, – и остается. Пытается вызвать на подмогу еще несколько отрядов своей напускной злости, чтобы оторваться от листа бумаги. И в конце концов ей удается раздуть в себе праведный гнев: «Намотай себе на ус. Чрезвычайно важно, чтобы ты уяснил кое-что о женщинах в овощной лавке: по крайней мере эта женщина, выходя за покупками, всегда несет с собой в сумке большую каплю злости».
И, пока она пишет, слезы катятся у нее из глаз, орошая бумагу. Она строчит мне свою повесть на пятнадцати страницах почти без остановки. И лишь закончив, она снова может вздохнуть и даже немного посмеяться, обведя пятно от одной слезинки в кружок: «Смотри, как в романе девятнадцатого века…»
Эй, Мириам,
Помнишь, как в самом начале этого письма, совершенно изнуренная мною, ты спросила: «Ты всегда такой? Как пламенный меч обращающийся? Даже в обычной жизни? Со всеми?» Спросила, как я могу так жить в семье, и живет ли Майя в таком же ритме. Или, может, мне для равновесия как раз таки нужен полный антипод.
Сейчас я хотел бы спросить у тебя то же самое. Ты всегда такая? И как эта бушующая стихия умещается в вашем малюсеньком доме? Каким образом ты до сих пор умудрялась ее сдерживать?
Я думаю о женщине, которую видел в тот вечер в школьном дворе, о той, чей образ вот уже четыре месяца будоражит мое воображение, и мне остается лишь посмеяться над собой и над собственной глупостью.
Пока мне больше нечего добавить. Знай только, что я получил письмо, и чувствую то, о чем ты мне рассказывала, а я не верил – счастье и грусть вперемешку. И именно в том месте, где ты обещала. Ты спросила, что я вижу в тебе теперь, когда мне все известно. Понадобится десять писем, чтобы описать все, что я вижу. Видимо, я постепенно напишу их, но сейчас, без шестнадцати минут два, я вижу только ту, что после долгой ночи, проведенной над письмом, прислонилась своим лбом к моему. С безмерной усталостью, накопившейся, очевидно, за долгие годы, посмотрела мне в глаза и сказала, что этой картофелиной я метко угодил в то место ее души, где она совершенно лишается дара речи.
Мне тоже пора бы помолчать. Спокойной ночи.
Яир.
25.7
И я все время повторяю себе – какое счастье, что я никого о тебе не расспрашивал!
Потому что когда ты вначале попросила, чтобы все истории о тебе я узнавал только от тебя самой, чтобы ни одна из них не превратилась в «сплетни» о тебе – я, по правде говоря, рассмеялся про себя (ну какие грязные истории могут найтись у нее, ей-богу).
И я до сих пор настаиваю, что очень доволен, сумев убедить тебя не встречаться плоть к плоти и прах к праху. Не сомневаюсь, что если бы мы встретились, то не смогли бы так близко узнать друг друга. Ведь я должен был бы тут же тебя соблазнить, познать моим примитивным, корыстным методом. Представь только, чего бы мы лишились и чего бы никогда не узнали.
И дело не в фактах. Эти факты, бытовые и прозаические, я узнал бы и в том случае, если бы между нами разгорелся быстротечный, но бурный роман. Ты бы точно рассказала мне. Ведь это неотъемлемая часть бюрократии разврата – я в любом случае должен был бы о них узнать. Но тогда я не познал бы той печали, которую испытываю сейчас, за которую, как за соломинку, хватаюсь уже несколько дней (с какой-то непонятной мне тоской).
И не только печали. Все, что связано с тобой, каждое ощущение, которое ты вызываешь во мне, – все это льнет ко мне сейчас днем и ночью, новое и свежее, прижимается ко мне всем своим лицом и обеими грудями.
Когда я рассказал тебе, что пытался придумать для нас с Идо собственный язык, ты ответила, что тебе бы хотелось выдумать название для каждой крупицы земли, каждой капли в море и каждого отблеска свечи. Ты так нравилась мне в ту минуту – может, потому что я впервые увидел, как ты способна отдаться своему воображению. Ведь в середине предложения ты начала грезить о мире, в котором люди только и будут, что придумывать названия животным, цветам и камням, и это занятие – называние – превратится в первооснову человеческой природы. Ты взяла меня за руку и повела за собой в твой сад – от стебелька травы к горстке земли, от капли воды к божьей коровке, всем им ты придумывала смешные имена. Но тогда я не понял, что ты хотела мне этим сказать (да что я тогда вообще понимал? Как мало я тебя понимал). И только теперь, когда я кое-что знаю о тех годах, когда ты умоляла, чтобы каждое дерево называлось просто «деревом», а каждый цветок – просто «цветком», о тех годах, когда «чувствовать» означало для тебя «жить не по средствам», я начинаю понимать – может, ты хотела сказать мне, что наконец-то потихоньку выздоравливаешь.
И я не знаю, какое отношение имею к этому я, внес ли я хоть какой-то вклад в это выздоровление. Но меня приводит в трепет одна мысль о том, что я нахожусь рядом, когда это происходит с тобой. Ибо мне кажется, что уже очень, очень давно ни с кем не происходило ничего столь же замечательного, когда я был рядом.
Я.
А главное-то я и забыл: именем всех, кем ты меня заклинаешь (с торжественной серьезностью, которая, по-моему, присутствует только при заключении договоров между государствами или в детских клятвах), именем того, что ты действительно купила себе ярко-оранжевые спортивные туфли (!), и именем сборника «Лань, я отошлю тебя» Амира Гильбоа[18]18
Амир Гильбоа – израильский писатель, поэт и переводчик. Писал на иврите и идише. (Прим. ред.)
[Закрыть], который ты приобрела себе в подарок от меня, а главное, именем того, что ты пошла и заказала себе новые очки – я клянусь беречь тебя, как друг.
26.7
Я думал, что в иврите —
Нет, это слишком официально.
Сегодня утром в гараже – может, потому, что ты так часто употребляешь это слово «имаут»[19]19
Имаут (ивр.) в переводе на русский означает «материнство».
[Закрыть] – мне в голову пришла мысль, что оно звучит как и-махут – «несуществующий». Мне кажется, найдется немало матерей, которые чувствуют, что ребенок опустошает их, выпивает изнутри. Но между тобой и Йохаем —
Эй… Я в первый раз написал это имя. Оно растекается у меня во рту и в голове, как будто я только что попробовал мед (но есть в нем и горчинка, да).
Я отчетливо видел его. И тебя с ним. Это просто чудо, что он, так же, как и ты, полон радости жизни. И где бы он ни появился, люди влюбляются в него.
Читая твои рассказы о нем, я ощущаю у себя в теле твое материнство, словно горячий источник, который бьет из меня ему навстречу. Молочный, журчащий. И как ты обнимаешь, окутываешь его бескрайней любовью. Честное слово, я с лупой искал и не смог отыскать в тебе ни капли горечи или озлобленности на него – за то, что с ним произошло.
Как-то, когда мы резались в пинг-понг наших торопливых соитий, ты спросила: правда ли человек может вновь и вновь начинать новую жизнь, попросту откликаясь на призыв другого человека? Позавчера, читая твое письмо, я понял, что ты имела в виду.
Не просто «понял», что-то в глубине моего тела дрогнуло, забилось в такт тебе (и я, конечно, тут же припомнил слова Анны о том, как во время беременности ее сердце забилось в утробе).
Жду твоего письма.
Яир
30.7
Да, именно это я и написал. Извини, не подумал (но, если начну объяснять, это может ранить тебя еще сильнее).
Прежде всего – ты права, у тебя есть все основания задуматься, отчего именно эта фраза вырвалась у меня как нечто само собой разумеющееся. Как своего рода закон природы – «озлобленность на него».
Может, оттого, что я легко могу представить себе родителей, которые даже в гораздо менее экстремальных ситуациях сердятся на своего ребенка. Ведь на кого же им еще злиться, кого винить (нет, я даже не берусь их осуждать).
Ты пишешь, что больнее всего тебе видеть ребенка, который даже не знает, чего лишен, у которого никогда не будет своей семьи, который не полюбит, не сможет выразить своих чувств. Но я, я-то знаю, что у меня в каком-нибудь уголке души затаилась бы и злость на него.
А может, нет? Может, есть во мне и благородное начало, которое проявляется только в трудный час? Боюсь, что нет. Или все-таки? Не знаю. Да и как знать. Ты сама говорила, что не представляла, насколько тяжело будет это все – его отчужденность, беспросветность, – и сколько сил, о которых ты даже не предполагала, найдется в тебе.
Я раню тебя своими словами и, очевидно, позорюсь перед тобой. Громоотвод… Но у нас же договор, правильно? Все. А иначе – какой смысл? И, может, я, наконец, что-то пойму и смогу вздохнуть там, тем самым легким…
Ранее я проделал небольшой опыт с твоим письмом: переписал его, заменив личные местоимения с женских на мужские. Понимаешь – примерил на себя твою историю и попытался рассказать тебе о своем сыне, Йохае.
Уже через полторы страницы я был на пределе. Из-за его приступов гнева. Это меня сломало. Когда он становится чужим и зловещим, когда в одночасье в него вселяется безумный и дикий бесенок, способный разнести вдребезги все, что есть в доме. Я знаю, что не смог бы выдержать этого психоза. Не вынес бы. Когда к нему невозможно приблизиться, когда он – слепая сила. И ведь нужно обладать физической силой, чтобы обнять и остановить его, когда он в таком состоянии, правда? Где ты прячешь все эти твои мускулы?
Если бы мог, я купил бы тебе большой дом – огромный дом, который вместил бы всю твою душу. Я наполнил бы его всеми твоими маленькими, большими и ненасытными мечтами, коврами, картинами, книгами, миниатюрными и громадными безделушками со всего света. Привез бы тебе статуэтки птиц, большие кувшины из синего хевронского стекла, огромные банки для огурцов, зеркала в красивых рамах, китайские светильники и филигрань. И сделал бы в доме много окон, распахнутых навстречу свету. Без сеток и решеток, с витражами всех цветов.
Потому что страшно представить тебя в этом пустом доме.
Я начинаю потихоньку отматывать назад все, что ты рассказала. С самого первого письма. Мне потребуется время, чтобы осмыслить всю эту историю. Видишь ли, я читал тебя слишком быстро, слишком лихорадочно и скрытно. Боюсь, что слишком многое упустил по пути. Думаю о твоих недвусмысленных намеках, которые даже не замечал по вине столь присущей мне черствости, торопливости и равнодушия. О том, например, что «реальность» просочилась в каждую твою клетку и у тебя почти не осталось возможности укрыться от нее даже в своих грезах, даже в сновидениях —
Ни грез, ни сновидений. Если ты и позволяла себе забыться, то лишь в искусстве – в рисовании, пении, музыке, само собой. Но и тогда «реальность» не замедляла явиться, протыкая тебя насквозь. Словно раба при попытке бегства (с украденным огнем в руках?). Так что же тебе осталось, скажи мне, где ты обрела убежище?
Яир.
А он уже сосчитал до трех?
Чизкейк с изюмом на каждый счет «два», массаж спины – на «три»?
(Когда ты вновь и вновь лижешь ему запястье, пока он не успокоится – как ты узнала, что это его успокаивает? Такие вещи тоже открывают естественным путем?)
Привет твоей мрачной троице лабрадоров. Привет пальме. Жасмину. Бугенвиллее. Большому кипарису, к которому прислоняет свой велосипед Амос, твой муж. Привет всем именам собственным.
1.8
Собственно, я встречал Йохая. Теперь припоминаю. Это было примерно год назад, я поехал с Идо и его детским садом на экскурсию в кибуц Цоба. Когда мы в курятнике проходили между рядами, курица как раз снесла яйцо без скорлупы, и одна работница – не знаю почему – взяла и положила его в мою руку. Почему-то именно в мою.
Не знаю, держала ли ты когда-либо в руках такое голое яйцо. Оно было еще горячим, мягким, и под покрывающей его пленочкой шло оживленное движение. Я не смел пошевелиться. Стоял, вытянув руку, и чувствовал, будто некая тайна жизни скрыта в моей полусжатой ладони. И не догадывался, что это – намек на Йохая. Меня постоянно что-то снедает изнутри. Я не написал тебе о том, что испытал, когда на прошлой неделе до меня вдруг дошел подлинный смысл твоего письма – того, в котором ты впервые описала свой неугомонный, переполненный дом. Дом, который сейчас в один миг перечеркнула.
Хоть я и не храню писем, но тот дом отлично помню. Не поверишь, как часто я видел тебя в нем, ходил по нему вместе с тобой. Для меня это были не просто слова (мне вдруг показалось, что чего-то важного ты не поняла) – почти у каждого из твоих слов было тело, цвет, запах и звук. Я очень серьезно отношусь к твоим словам – может, ты думала, что для меня это просто забава? Игра в шарады?
Но ведь это и правда непростая штука – когда со стены возле библиотеки вдруг исчезает рисунок женщины с коровой кисти Авраама Офека. Ведь с той самой минуты, как ты о нем рассказала, он проник в мою жизнь (да, именно это я имею в виду). Я отыскал его в книге и окунулся в него с головой, растворился в нем целиком и полностью – и не сдавался, пока не понял, из-за чего ты повесила его напротив «Печали» Джозефа Хирша. Я не большой знаток живописи, но эти две эти работы явно перекликаются между собой. И, кажется, я начал улавливать обрывки их разговора – а сейчас они обе вдруг исчезли. Исчезло и маленькое красное кольцо Кандинского, и «Открытое окно» Матисса, которым ты так восхищалась, и, как я догадываюсь, фотографии в коридоре – ведь они тоже покрыты хрупким стеклом, – лицо Вирджинии Вулф[20]20
Вирджиния Вулф – британский критик и писательница.
[Закрыть], например. А что стало с дворником Стиглица, с тем, что подметает улицу под дождем (его я тоже нашел недавно в каталоге парижской выставки), или с фотографией половины бороды Мана Рэя… Все это тебе привиделось? И пианино, на котором ты играешь каждый вечер, тоже?
По крайней мере, в кухне ты оставила разрисованную плитку.
Послушай, может, в твоих глазах я выгляжу нелепо – это ты живешь в суровой безводной пустыне твоего дома, а я жалуюсь, что ты забрала у меня слова, которыми прежде одарила. В конечном счете, это всего лишь слова, а я вымогаю их, как попрошайка.
Но есть тут одно обстоятельство.
Я думаю о симфонии красок, которая присутствовала в твоем письме. Ты, много лет не осмеливавшаяся рисовать, и уж конечно не в цвете, описала мне все в красках, о которых до тебя я и понятия не имел. Ты писала об индиго, охре, изумрудно-синем. Сами по себе слова эти были невероятно пестрыми, ты рассказывала о шелковых занавесках и об ангорской шерсти и черным по белому написала об «астраханской шерсти» (!) – так вот, когда ты это написала, я подумал, что ты просто играешь со мной, описывая дворец своей мечты. Но я не могу устоять перед женщиной, которая может произнести словосочетание «астраханская шерсть». Я и понятия не имею, как эта шерсть выглядит, но ты не представляешь, какую бурю произвело во мне это словосочетание… И не только оно, почти каждая твоя фраза уносила меня в небольшое путешествие, где я изучал, трогал, вдыхал аромат. Можешь смеяться, но таким дурацким, примитивным способом я пытался прикоснуться к восторгу и страсти, которые ты излучала. Принял их за возбуждение и даже порадовался, что у нас с тобою одно искалеченное воображение на двоих…
Но я думаю, что меня удручает нечто совершенно иное – нечто между мной и тобой.
Я ощутил укол горечи и даже разочарования, поняв, что ты способна на лицемерие.
Понимаешь? Меня поразила ловкость, с которой ты жонглировала реальностью и выдумкой… Удивительно, что ты обладаешь огромной силой самоубеждения (которая, собственно говоря, соткана из той же материи, что и ложь).
Разумеется, я не чувствую себя обманутым (мне кажется абсурдным, что ты попросила прощения). Ты не сделала ничего крамольного, наоборот. Это была история, которую ты хотела рассказать мне тогда и в которую ты, видимо, очень хотела поверить сама, увидеть, как она ляжет на бумагу, оживет в словах; а еще – тебе, наверное, нравилось, что она живет в моих мыслях. Что ей нашлось место в мире. И я поверил – ведь так предполагала первая статья нашей конституции, помнишь?
Иногда ты причиняешь мне боль – она словно муки взросления, но только в суставах души. Странная вещь: из каждого письма я узнаю о тебе что-то новое, неожиданное. Но при этом расстаюсь с чем-то другим, с тем, что я думал или воображал о тебе. А бывают дни, когда я чувствую, что все еще очень далек от того, чтобы узнать тебя так, как мне хотелось бы. Уже август.
Яир
И все же мне важно, чтобы ты знала: то, что ты описала в том переполненном письме, осталось жить во мне. Не знаю как, но пианино, книжные стеллажи, закрывающие все стены, пузатый кувшин, огромный мобиль, который ты привезла из Венеции… Стоит мне только закрыть глаза, я тут вижу то, что там есть и чего нет.
Кстати, ты привезла статуэтки птиц из Калахари или только любовалась ими там, но не купила? И вообще – ты была в Калахари? В смысле, ты правда отправилась туда с Анной двадцать лет назад, в вашу первую заграничную поездку (серьезно, еще до Моны Лизы, Эйфелевой башни и Биг-Бена?), посмотреть, как растет «большая вельвичия», о которой прежде ты читала лишь в «Энциклопедии для юношества»…
А Анна вообще существует?
5.8
Без предисловий, только одна срочная просьба: продолжай, сейчас же, без промедлений и жалости —
Ты не представляешь, что сделала, когда написала ему. Перепрыгнув через меня, напрямую обратилась к нему. Еще никто никогда не разговаривал с ним так. И дело не только в том, что ты написала, а в том – как. Ведь этот ребенок знал материнскую заботу и даже нежность, их у него было предостаточно, иногда чересчур много. Но как редко ему доставалось это невиданное наслаждение – быть понятым.
А как мне полегчало, мне – словно тяжелой броне, которая вдруг обнаружила, что внутри ее все-таки еще обитает маленький рыцарь.
Послушай, ты правильно все разглядела: маленький и очень худой мальчик. Немного кислая мина на лице. Всегда напряженный и нервный, как старикашка, беспокойный и жутко возбужденный. Как будто все время должен что-то кому-то доказывать, постоянно борясь за жизнь, не меньше. Как ты узнала? Как вообще человек может узнать другого человека? «Партизан, – написала ты, – засевший в доме, в семье». Да-да! Даже то страшное, что ты написала о его одиночестве, не таком, какое обычно бывает у детей, – каждое слово точно легло на давно назначенное ему место. Не обычное одиночество ребенка, а такое, которое, наверно, чувствует тяжелобольной человек – больной постыдной болезнью (как ты не побоялась назвать вещи своими именами!). Да, верно, ребенок, который не позволяет себе расслабиться, поддаться иллюзии доверия, поверить, что где-то существует возможность довериться другому человеку целиком и полностью…
Ты словно вложила записку с моим истинным именем в Голема, которым я стал ныне. Я был податливой, проницаемой емкостью, маленькой волынкой, на которой играл весь мир. Только написав эти слова, я тут же почувствовал острую необходимость раскроить чью-нибудь физиономию. Мир обдавал меня своими волнами, отступал и словно накатывал, и снова отступал. Вот мое ощущение детства – волнообразное, мягкое, бесконечное и одновременно неистовое движение. Ты когда-нибудь чувствовала в себе такое мощное движение? Может быть, во время беременности или когда рожала. А я всегда был таким, всегда точно землетрясение я был.
Сейчас я смеюсь (у меня выходит смех гиены): как ужасно, что все это закончилось, и как ужасно, что я способен радоваться тому, что это закончилось… Ведь жизнь теперь переносится гораздо легче. Теперь куда проще двигаться вперед, от минуты к минуте, и со временем забывается даже страх наступить в щель между плитами пола. Там больше нет пропасти, кишащей крокодилами.
Ты понимаешь, верно? Ты знаешь, как разобрать это нечленораздельное бормотание. Это ты назвала его «ребенком с нитью накаливания» и точно угадала: было видно, как сквозь прозрачную кожу пылает красный свет. Тебе ведь наверняка хорошо известно, может, даже по собственному опыту, как сильно угнетает этот «странный мятежный свет», когда он исходит от маленького ребенка.
Да, он дразнит, сводит с ума, возбуждает всякие кровожадные порывы дунуть на него как следует, загасив раз и навсегда. Не так, как ты, совсем не как в твоих последних строчках: ты-то дуешь на него бережно, в надежде увидеть, что произойдет, если однажды позволить ему разгореться.
Только не останавливайся сейчас, продолжай делать искусственное дыхание!
Яир
6.8
Посмотри на этот снимок. Я потратил целый день, чтобы отыскать его (из-за одной детали в твоем письме). Я сделал его в Лондоне пять лет назад, и к нему прилагается история: я ездил туда на неделю по работе и однажды вечером, возвращаясь в отель, увидел маленького вороненка, который выглядел очень больным. Он стоял на тротуаре внутри полустертого рисунка мелом, который, должно быть, остался от какой-то детской игры. Клюв его то и дело открывался и закрывался, как будто он разговаривал. И не просто разговаривал (ты бы его видела!) – он не то доказывал что-то, горько и обиженно, не то уличал кого-то в преступлении перед лицом незримых властей…
Может, другого прохожего это могло бы и позабавить, а я вышел из людского потока, облокотился на стену в стороне и уставился на него, не в силах продолжать идти. Я устал, и голова моя немного кружилась от голода – но я не мог от него отойти. Подумал, что нужно купить хлеба и накормить его, но побоялся, что на меня косо посмотрят. Отойдя на несколько шагов, я почувствовал, что он взывает ко мне, прямо-таки клюет меня в спину, – и вернулся, и встал перед ним. Подумал, что смотреть на него опасно – что он незаметно засосет меня внутрь, поймает в свою ловушку, и я пропаду в нем с концами. Не знаю, как долго это продолжалось. Возможно, всего несколько минут. Он стоял посреди тротуара под ногами у прохожих, печальный, с перьями, торчащими во все стороны от холода, жалобно склонив голову набок – увидела картинку? Люди равнодушно обходили его своими учтивыми английскими походками. Большинство из них даже не смотрели на него, а я стоял у стены, со странным смирением осознавая, что еще чуть-чуть, и я упаду, осяду на землю, да так и останусь сидеть.
Забыл сказать, что я возвращался тогда с важной встречи, закрыл крупную сделку на кругленькую сумму – человек мира, бум-бум. На мне был модный костюм, но я знал, что он меня не спасет – ничто меня больше не спасет, ведь сейчас меня одолевает гораздо более могучая сила, которая так под стать мне, черному близнецу. В последний миг, на последнем издыхании (сейчас я не преувеличиваю), я сунул руку в сумку, достал свою камеру и сфотографировал его. Чисто инстинктивный порыв, которому я до сих пор не нахожу объяснения и который, как видно, спас меня – уж не знаю, каким образом. Будто электрический разряд угодил ровно в то место, где эта моя коварная сущность тут же быстренько нащупала трещину, сквозь которую она может улизнуть прочь.
У меня нет копии этого снимка. Он – твой.
8.8
Хочешь посмеяться? Вчера, когда я закончил (наверное, в пятый раз) читать то твое письмо и пошел закрывать на ночь входную дверь, мне вдруг почудилось, что в кустах во дворе стоит не то человек, не то какой-то предмет. Что-то маленькое и очень светлое даже в темноте. Я тут же перепугался, что это Идо. Что он тут делает в то время, когда должен спать? На мгновение я пришел в полное замешательство, а затем вдруг почувствовал себя фасолевым стручком, который кто-то раскрывает по всей длине, потянув за усик. Потому что понял, что это он. Догадываешься – кто? Малыш, которого ты нарисовала в своем воображении. Мальчик с нитью накаливания —
Ребенок, который однажды – об этом я тебе не рассказывал, так что присаживайся, устраивайся поудобнее. Ребенок, который лет в восемь попытался убить себя в сарае, покончить с собой, как говорится, с помощью принадлежащего его отцу тонкого ремня широкого назначения. А поскольку никто не объяснил ему, как именно люди умирают, он крепко затянул ремень вокруг грудной клетки – ха-ха – и улегся на пол в ожидании смертного часа. А все из-за того, что увидел, как один сосед, некто Суркис из его квартала, стоит в одной майке, с волосатой спиной и сигаретой во рту и топит в ведре двух котят. Вот так запросто – опускает их в ведро и свободным от сигареты уголком рта ведет беседу с отцом мальчика, пока на воде лопаются пузырьки. Пролежав на полу сарая очень долго, целую вечность, и видя, что не умирает, он встал, вернулся в дом и сел ужинать с родителями и сестрой, молчаливо и обессиленно. Он слышал их разговор, выполнял все действия, предписанные восьмилетним мальчикам, и догадывался, смутно, но все же догадывался, что даже если бы он умер – они бы об этом вряд ли узнали.
И тот же мальчик в десять лет прочитал «Грека Зорбу», потому что была у него одна любимая учительница, которая рассказывала об этой книге с таким упоительным восторгом, что аж слезинки блестели у нее в глазах. А он никогда прежде не видел таких слез – ни у детей, ни, тем более, у взрослых. То были слезы похоти. Этого слова он не знал, да и не решился бы его употребить, если бы ты первой его не написала; дома у него не было книг, книги собирают пыль, книги – это грязь, для книг существует школьная библиотека. И он украл деньги из отцовского кошелька, из священного кошелька, и впервые в жизни отправился в книжный и купил книгу. Прочитал и мало что понял, в сущности, ничего – лишь то, что это было невыносимо красиво, что жизнь просто ревела в этой книге и звала его по имени. В сильнейшем возбуждении он проглотил всю книгу – в буквальном смысле – примерно за год и закончил точно к своему одиннадцатому дню рождения. Сделал себе такой маленький тайный подарок.
Звучит не слишком аппетитно, да? В строжайшем секрете, ценой ужасных болей в животе, с которыми не справлялись никакие лекарства и рыбий жир, он, прочитав страницу, резал ее на мелкие кусочки равного размера, тщательно разжевывал и глотал – по странице в день, с трехчасовым перерывом между порциями. Идеальная, педантичная бюрократия. Помнишь эту книгу в издании «Ам Овед»? Со скидкой для профсоюзов гражданского персонала Армии обороны Израиля? С обложкой немного горчичного цвета? С красным обрезом? С горьковатым привкусом? Триста с лишним листов бумаги без мякоти сжевал он таким образом в течение года от своего плотоядного влечения к словам. Но у него, Мириам (всегда будь с ним настороже!), у него уже тогда было более одной причины для каждого поступка. Уже тогда к каждой возвышенной идее был приделан крысиный хвост: а может, он ел «Зорбу» еще и для того, чтобы местные органы безопасности, копаясь в его ящике, не обнаружили бы там, на дне, новую книгу, наличию которой он не смог бы дать удовлетворительного объяснения? Скажем, книгу без штампа школьной библиотеки?
То есть я, конечно же, попробовал его подделать (все-таки я не полный идиот): на чистой странице в конце книги я изобразил большой штамп, от которого за версту разило жалкой подделкой. Я вырвал эту страницу, но не смог выбросить в мусорное ведро, и уж конечно не в унитаз – разве можно выбросить в унитаз страницу из «Зорбы»?! И без лишних размышлений я отправил ее в рот и принялся жевать (помню как сейчас: странный, неприятный и пыльный вкус. Вкус страниц-работяг). Я попробовал написать на книге посвящение, будто получил ее в подарок от друга, но не сумел подделать чужой почерк и эту страницу тоже проглотил.
И так, случайно, зародилась у меня сия гастро-поэтическая мысль…
(Я только что попробовал прочитать это твоими глазами…)
Сколько усилий я вложил в эту маскировку, и как я боялся, читая книгу, что они обнаружат мой обман и кражу из кошелька! Было совершенно нелепо предполагать, что они станут во всем этом копаться – но само осознание, что это в принципе возможно, что такое их поведение входит в семейный репертуар —
Я не собираюсь рассказывать тебе о своих родителях – ни в коем случае. Ты тоже почти ничего не говорила о своих, что вполне справедливо: какое нам до них дело, мы давно уже свободны от них, по крайней мере, я (ну правда, сколько лет можно тянуть эти войны?). И, кроме того, рассказывать почти нечего. Мои родители – самая заурядная пара, какую ты только можешь себе представить. И они даже довольно милые. Они – реальность в самом подлинном проявлении. Господин Коричневый Ремень и госпожа Резиновые Перчатки. У них нет никаких секретов, и все их дела и мысли прозрачны до костей. И вообще, для меня они уже не актуальны. Я тебе говорил, что отец уже два года пребывает в растительном состоянии, лежит в каком-то парнике для ему подобных в Раанане, а мама беззаветно ухаживает за ним. Доставляет ему на автобусах кастрюли с провиантом и проводит с ним по восемь часов в день в полном молчании. Но при этом непрерывно моет, драит, бреет, стрижет, массирует, холит и лелеет – она просто расцвела там (а может, и он тоже, не знаю, я полтора года его не видел – какой смысл).
А на этой неделе она сообщила мне с застенчивой и заговорщической улыбкой, что решила отрастить ему усы.
И ты, конечно же, спросишь, почему я не встал перед ними и не закричал им в лицо, что заслуживаю иметь свой собственный экземпляр «Зорбы», что эта книга нужна мне, как, например, воздух, как лекарство. Нет, с какой стати мне чего-то с них требовать? Я – украдкой, наматывая широкие круги, удаляясь и приближаясь, и с каким-то новым наслаждением, которое я начал открывать для себя в ту пору – дадим ему остроумное название «жажда кривизны» (словно название для чая, сделанного из миндального экстракта моей желчи). Послушай: я имею в виду ту блаженную боль, терпкую и сладостную, которая трепещет глубоко у тебя внутри, опутывает тебя и все, чем ты являешься. Ты обвиваешься ею, как кишкой, в которой гноится открытая язва. Язва сосет тебя изнутри, то и дело причиняя тебе боль и унижение, – они тебе давно знакомы, ты знаешь, где они гнездятся и как раз за разом призывать их к себе. Они – твое скудное, но очень личное имущество, к которому ты возвращаешься вновь и вновь. Что еще? Вкус дома, запах дома. И вот оно, снова оно, покалывает, в любую минуту готовое к действию. Почувствуй, познакомься с ним: это я, мое тело и душа, которые заново узнают друг друга. Я могу расслышать, как они шепчут свой тайный пароль (срсрсрср…). Тебе, наверное, стоит надеть толстые перчатки, когда ты берешь в руки эту мою писанину?
Как легко заразиться этой мерзостью, как легко заразили меня! Тебе знаком ритуал полного отлучения, который кроется в пожелании «Пусть твои дети будут похожи на тебя»? Конечно же, знаком. Как ты выразилась, эти особые взгляды, презрительно искривленные рты, молчание, стирающее тебя в порошок, – много ли надо, чтобы навсегда изувечить человека…
Оказывается, ты знаешь, по крайней мере не хуже меня: «Мириам (она произносила твое имя с ударением на первом слоге?), Мириам, только не будь тем, что о тебе рассказывают»…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?