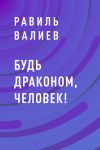Текст книги "Будь ножом моим"

Автор книги: Давид Гроссман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глупо объяснять (и все же я не могу остановиться), всегда одно и то же: где-то невероятно близко вызревает некий плод, умоляя вызволить его. Он задохнется, если не вырвется на волю. И, хотя мне совершенно неведомо, что это за сущность, я с предельной ясностью ощущаю, что ей просто необходимо пробить брешь, я отчетливо слышу ее задыхающийся крик. Ты спросила, какую музыку я слушаю дома, а какую на работе, и, главное, какую музыку я слушаю, когда пишу тебе. Спросила так, будто очевидно, что я все делаю под музыку. Мне жаль тебя разочаровывать – я не слишком музыкален, по-моему, у меня дисмузия (и все же я пошел и купил «Детский уголок» Дебюсси, раз за разом переслушиваю его в машине, и, конечно, Монтеверди в исполнении Эммы Кёркби – так что, может быть, когда-нибудь я пойму, что ты имела в виду). Но этот крик я слышу всегда и понимаю его мгновенно, не слухом, а животом, пульсом, утробой. И ты тоже слышишь его – ведь раньше ты слышала меня. Отчего же вдруг сейчас перестала?
Ладно, что толку. Будь по-твоему. Только знай – я прекрасно осознаю, что со мной сейчас происходит и что ты обо мне думаешь. Ведь это моя вечная пытка, Мириам, меня всегда двое: первый стоит с желтоватым лицом, скрестив на груди руки, а второй вдруг отделяется от первого и падает – все падает и падает, и спорит с желтым по пути к своей погибели, крича ему: «Позволь мне жить! Позволь чувствовать! Позволь ошибаться!»
Но, конечно же, я, без всякого сомнения, еще и тот, первый. Что поделать? Сквозь сжатые губы он с отвращением цедит второму, что конец известен – ты, как обычно, еще приползешь ко мне на коленях. Он сухо сплевывает (у него часто пересыхает во рту). А осленок в это время продолжает кричать, что ему наплевать, ведь, быть может, однажды он добьется своего – естественно, случайно, по недосмотру, ведь, согласно императорскому указу, подобные благодеяния происходят исключительно по чьей-то оплошности – и он наконец-то поразит цель. Нет – дотянется до цели, дотронется, нащупает чужую душу, прикоснется душой к душе, плотью к плоти, и один-единственный раз у одной из четырех миллиардов китайских душ в мире (в этом контексте все вдруг немного похожи на китайцев) на его глазах треснет скорлупа, и она явит миру свой плод…
И так он падает и кричит своим тонким надтреснутым голосочком, который всю жизнь продолжает ломаться, как у подростка.
Но тут на этот крик сбегается (а как же иначе!) с десяток мудрых, благоразумных, взвешенных и рассудительных мужей, и они, посовещавшись, требуют проверить, не бежим ли мы впереди паровоза. Может, это всего лишь еще одна вздорная идея (говорят они мне сухими губами), одна из тех, которые расцветают под покровом ночи и тают при свете дня. То есть еще один убогий грифон, который родится недоношенным уродцем…
А я – ты должна была видеть меня в тот момент. Собственно говоря, ты и увидела, наверное, – это тебя и оттолкнуло. Я-то знаю, как выгляжу в такие мгновения – будто прошу у них пощады, ни больше ни меньше. К чему лукавить, Мириам, в глубине души я знаю, что, будь на то их воля, они бы вообще не одобрили мое существование («Не отвечает норме», – рассудили бы). А я все бегаю между ними, почти в истерике, умоляя их увидеть то, что вижу я. Пусть хоть один из них увидит это так же, как я. Ведь если хотя бы еще кто-то увидит то же, что и я – одного достаточно, больше и не надо, – оно вдруг найдет искупление, обретет право на жизнь. И что-то во мне тогда тоже получит «одобрение», но пойди им это объясни.
И тут я уже не в силах сдерживаться (я описываю тебе весь процесс). Наступает момент, когда я посылаю все к чертям, думая, например, чего буду стоить, если не отправлю тебе это письмо. Моя душа струится к тебе, я парю точно так же, как воспарял к тебе раньше. Вот, даже сейчас – это я лечу, все еще лечу к тебе, к той, что согласится поверить вместе со мной. Посмотри, посмейся: это я, слабый предохранитель цепи, любой цепи, любой связи, прикосновения, напряжения, каждого возможного моего трения или соединения с ними, с другими людьми – а сейчас и с тобой. И, видя, как все рушится и низвергается между нами, я снова прошу тебя поверить в нас. Может, мы случайно нащупаем золотую жилу – ведь уже почти нащупали – у нас было несколько светлых моментов, и я привык к тебе, к твоей докучливой судейской прямоте (и к тому, как смешно ты путаешься в словах, когда волнуешься). И где еще я отыщу взрослую женщину, которая будет по-ребячески воображать первое соитие Адама с Евой, смакуя, как они естественным образом обнаружили способ получения удовольствия – и какое это счастье и радость открывать что-то естественным путем…
Видишь, я все помню. Может, я и уничтожаю следы твоего существования в интересах «конфиденциальности» и так далее, но меня страшит то, как явственно ты пребываешь во мне, – что мне теперь делать с этим твоим присутствием, которое не жалует моего?!
Вот я перед тобой: я – осленок. Я – брешь в заборе. Я – трещина, сквозь которую в дом прокрадывается ошибка, предательство, да и просто желчь. И так было с детства, с тех пор, как я себя помню, я – дыра. Как это не по-мужски, кому еще мог бы я такое сказать. Но поверь, что, по крайней мере, в минуту взлета, в полете, я – самый что ни на есть настоящий, тот, кем мне предначертано быть, и удивительно, как эта минута наполнена счастьем, и вообще – это насыщенная минута, в ней – всё. Вот бы только я мог всю жизнь провести в одной такой минуте!
Но тут, конечно, наступает отрезвляющий удар о землю. Вокруг много пыли и оглушительная тишина. И я, протрезвев от всего, чем я был только что, осторожно оглядываюсь и начинаю коченеть от холода, окутывающего меня изнутри и снаружи, холода, знакомого только клоунам и дуракам. Так что это правда – пару раз в жизни мне случилось почувствовать себя живым ростком, блестящей идеей, но по большей части – я не более, чем просто плевок. Из-за одной такой идеи, например, я и застрял на этом этапе своей жизни, – этакий Гейне в своей «матрасной могиле», – погребенный под завалами из сорока тысяч книг, брошюр и журналов. У меня была идея, понимаешь? Великая идея…
Вот и все. Иногда ты выходишь из такого маневра элегантно, как Нахшон[11]11
Нахшон бен Аминадав – глава колена Иегуды в период Исхода евреев из Египта. Когда еврейский народ оказался перед Красным морем, Нахшон первым вошел в него. В этот момент произошло чудо и море расступилось.
[Закрыть], и удостаиваешься упоминания в Танахе. Но чаще выясняется, что бассейн под тобой был пуст. И всегда, даже если у тебя получилось, ты почему-то ужасно одинок, когда возвращаешься к остальным, которые смотрят на тебя неодобрительно, будто отхаркивая взглядом. Мой отец, бывало, говорил: все тело просится по малой нужде, но тебе известно, что именно нужно из него вылить.
Так я чувствую себя сейчас, и это убивает меня – ибо мне не вынести такого взгляда твоих глаз. Ведь из-за совершенно другого твоего взгляда я решился броситься вниз головой, пропади все пропадом, и Not less than everything[12]12
Цитата из поэмы Т. С. Элиота «Стоящее всего на свете». Входит в цикл четырех поэм «Четыре квартета».
[Закрыть], согласно постулату Т. С. Элиота, – а теперь я грызу себя за то, что не был более осторожен.
Я же мог написать тебе вкрадчивое хитроумное письмо, завуалировав свои намерения. Мог бы соблазнить тебя, флиртуя неспешно и беззаботно, и совершенно определенно мог бы встретиться телом к телу – по всем правилам любовных игр, принятых во взрослом обществе. Когда я вспоминаю, что написал тебе, что рассказал о своей семье или что наплел себе самому о своей семье из-за тебя, когда вспоминаю ту ужасную фразу о трех людях, живущих вместе, – мне хочется себя кастрировать и вырвать свой язык!
7.6
Все, хватит. Ночь невыносима (и мысль о том, что ты можешь даже не догадываться о том, через что я прохожу!). Я еще не рассказывал тебе, как это началось. То есть рассказал я уже немало, кажется, раз тридцать повторил одно и то же – но, по большому счету, только о тебе, о том, что я в тебе увидел; и я не в силах с тобой расстаться, пока не узнаешь, что происходило со мной в те минуты.
Так вот, всего пара слов, и покончим с этим. Однажды вечером, месяца два тому назад, я увидел тебя. Ты стояла в довольно большой толпе людей, сомкнувшейся вокруг тебя и, главным образом, вокруг твоего мужа – целый оркестр уважаемых педагогов и воспитателей. И все вздыхали, как трудно преуспеть в воспитании и сколько времени должно пройти, прежде чем пожнешь первые плоды своих трудов. И, разумеется, кто-то упомянул Хони Ха-Меагеля[13]13
Хони Ха-Меагель – еврейский законоучитель и чудотворец, живший в I в. до н. э.
[Закрыть] и старца, посадившего рожковое дерево для своих внуков, а твой «мужчина» (мне кажется, он определенно считает себя твоим хозяином) рассказывал о каком-то сложном генетическом эксперименте, которым он занимается уже десять лет. Не воспроизведу подробностей, потому что, если честно, не слишком прислушивался – передай ему мои извинения. Печальная правда заключается в том, что его рассказ был длинным и скучным, в нем было много фактов – по-моему, что-то о плодовитости кроликов и об инстинкте возвращения зародышей обратно в матку в случае необходимости (?). Не в этом суть, все равно все его слушали – он завораживает своей уверенностью, своей особой манерой речи, неторопливой и авторитетной. Такой человек знает, что, как только он откроет рот, все умолкнут и будут его слушать. Кроме того, он мастерски орудует выражениями лица взрослого самца, у которого по любому поводу имеется полноценное мнение – с такими-то вытянутыми щеками, развитыми челюстями и густыми бровями… Тебе крупно повезло, Мириам, ты ухватила самого лучшего самца в стаде, – Дарвин машет тебе из могилы, – и вы, разумеется, очень подходите друг другу, вместе с ним возвышаясь над толпой. А я тогда был все еще свободен, в смысле – волен ошибаться.
Твой муж вдруг рассмеялся. Я помню, как изумился громкому, раскатистому мужскому смеху, вырвавшемуся у него, и как сжался, будто он застукал меня за каким-то неприглядным занятием. Я даже не знаю, над чем или над кем он смеялся, но все засмеялись вместе с ним, – может быть, только ради того, чтобы вместе с ним немного понежиться в лучах его авторитета. А я случайно взглянул на тебя – возможно потому, что ты была там единственной женщиной, и я пытался получить от тебя понимание или защиту, – и увидел, что ты не смеешься. Наоборот, тебя зазнобило, и ты обняла себя руками. Быть может, его смех, наверняка любимый тобою, пробудил какое-то тягостное воспоминание или просто напугал тебя – так же, как и меня.
Так или иначе, они продолжали говорить, упиваясь беседой, – они на это горазды, – но тебя там уже не было. И самое удивительное – я увидел, как ты ускользнула от них, не двигаясь с места, исчезла, воспользовавшись их минутным невниманием. И я даже разглядел куда. Что-то на дне твоих глаз открылось и закрылось, потайная дверца моргнула один раз – и только тело твое осталось стоять, грустное и покинутое тобой (никогда больше не смогу я рассказать тебе о масле и меде твоего светлого, мягкого тела). Ты слегка наклонила голову и обняла себя, словно укачивая себя-девочку, себя-младенца. Кожа у тебя на лбу вдруг пошла рябью и удивленными морщинками, как у девочки, которая слушает длинную, запутанную и печальную историю. Да, волны взыграли на твоем лице, и я, еще не понимая этого, почувствовал, как мое сердце устремилось тебе навстречу в ослином танце. Была, как видно, пробоина в том месте, где у меня не хватает ребра. Все перевернулось вверх дном, и я тоже.
(Не волнуйся, я ухожу из твоей жизни, это последние конвульсии…)
Я сейчас вспомнил, как сразу после этого тебя штурмовала большая толпа учеников, помнишь?
Странно, как до сих пор мне удавалось подавлять это воспоминание: они прямо-таки похитили тебя из общества взрослых, чтобы сделать совместный снимок, почти унесли тебя на руках. И еще был момент, когда ты прошла мимо меня, и я видел, что ты все еще витаешь в своих грезах, но уже силишься улыбаться, – это была совсем другая улыбка, публичная и восковая. Гляди, как я об этом позабыл.
А может, и не забыл. Может, потрясенный тем, что мне удалось подглядеть за работой твоего внутреннего механизма, я уже знал, что ты поймешь?
Ведь то была минута твоего «позора». Еще ничего не понимая, я приметил его. Улыбка-судорога, улыбка предвыборной кампании была у тебя в ту минуту… О чем я вообще? Ты? Предвыборная кампания? Да-да, конечно, в таких вещах я не ошибаюсь. Так, значит, и ты туда же, да? Переизбираться снова и снова, завораживать – да, ловить изумление посторонних взглядов (сейчас я еще больше жалею, что у нашей истории не будет продолжения).
А ученики, – не знаю, заметила ли ты, возможно, ты еще не совсем пришла в себя, – подрастающее стадо рослых и неуклюжих дылд с тщательно выбритыми черепушками, каждый из которых сражался за честь быть к тебе ближе всех, прикоснуться к тебе, впитать твой взгляд или улыбку и крикнуть что-то ужасно важное, что именно в эту минуту волновало сердце. Было довольно забавно наблюдать —
«Забавно» – неподходящее слово. Зимородка жалко. Ведь даже у того, кто стоял совсем в стороне, возник в ту минуту странный, резкий порыв, – стыдно сейчас вспоминать, – дикий порыв разинуть клюв в безумии нестерпимого, внезапно нахлынувшего голода: «Я, я, моя учительница, меня, меня…»
Хватит, довольно. С каждым словом я лишь больше себя унижаю: пожалуйста, возьми лист бумаги и напиши пару слов, даже одного будет достаточно – «да» или «нет». Сейчас я не выдержу длинного письма от тебя. Напиши: «Сожалею, я старалась привыкнуть к тебе, очень старалась, но не смогла смириться с твоей озабоченностью и любовью к иллюзиям».
Что ж, хорошо. Договорились. По крайней мере, мы знаем, что происходит. Я, очевидно, еще некоторое время буду выкрикивать в сердцах, наедине с собой, твое имя. В конце концов рана зарубцуется. Может, схожу еще раз в Рамат-Рахель или в другое место за городом, – место, где нет людей и которое все-таки немного наше, – и крикну изо всех сил: Мириам, Мириам, Мири-ам!
Яир
Не переживай. Еще день, два. Постепенно сотрутся буквы, и с тобой останется только мой извечный крик: «И-а! И-а!»
10.6
Вышло так, что письмо твое пришло, когда я уже вконец обессилел. Я открыл ящик лишь по привычке, как открывал десятки раз за последнюю неделю, – и там был белый конверт. Я стоял, смотрел на него и ничего не чувствовал. Только усталость. Может, еще испуг. Ведь я вроде свыкся с мыслью, что все кончено и покрылось вечным льдом – откуда же у меня силы на муки разморозки.
…Я, разумеется, прочитал. Один раз, другой, третий. До сих пор не понимаю, как я мог так быстро расклеиться за одну лишь неделю. Понимаешь, я чувствовал, что ты исчезла по меньшей мере на месяц?
Будто только и ждал повода поглумиться над собой.
Сегодня мне нечего добавить. Я рад, что ты вернулась, что мы вернулись, что ты и не собиралась исчезать. Наоборот.
И все же я злюсь, что тебе и в голову не пришло, как я буду страдать. Как плохо ты еще меня знаешь. Могла бы хотя бы отправить записку перед отъездом. Или открытку с центральной станции в Рош-Пине. Это отняло бы у тебя минут десять, не больше, а меня избавило бы от многих страшных часов.
С другой стороны, постепенно ко мне приходит понимание, что ты и правда не стала бы так меня мучить, будь у тебя выбор.
Ну вот, на такой оптимистичной ноте можно закончить сие тоскливое письмо – по всей видимости, выбора у тебя и правда не было.
10–11.6
Это все еще не ответ, точнее, совсем не тот ответ, который ты заслуживаешь за то, что написала. Смысл твоего письма после каждого нового прочтения становится для меня все более понятен. А главное, – ты же знаешь – за то, что, нить за нитью, ты выпутала меня из моих собственных силков. Да так, что я не почувствовал ни капли смущения за «арию желудочного сока», которую исполнил тебе.
(Тебя так просто отпускают с работы? За две недели до конца года?
А что об этом говорят дома?
Не мое дело.)
Всякий раз меня заново озадачивает это противоречие в тебе: с одной стороны – серьезность, здравомыслие, степенная материнская уверенность, с другой – легкость движений, смятение, внезапные порывы, неожиданные даже для тебя самой! Так и вижу, как ты шагаешь из стороны в сторону по дубовой роще над Кинеретом[14]14
Кинерет – озеро на севере Израиля, рядом с городом Тверия (Тиберия). В религиозных текстах озеро более известно как Галилейское море и Тивериадское озеро.
[Закрыть], выпрямившись, с суровым лицом, изо всех сил обнимая себя в поисках покоя, которого ты лишилась, и отталкивая меня с новой силой…
Это? Это просто улыбка. Вспомнил, как в первых письмах ты повторяла раз за разом, что тебе с трудом верится, будто один короткий взгляд вызвал во мне такую бурю («Может, у меня вообще нет второй половины лица, может, ты вырезал себе картинку женщины из ночи?»). И постепенно ты начала объяснять себе, что, в сущности, это всегда именно так начинается, со взгляда на чужого человека. А теперь ты пишешь там на камне, что только «узкому и приземленному» взгляду мы можем показаться посторонними.
До этого, проснувшись (сейчас половина четвертого), я сидел в гостиной в темноте, с ногами в кресле, думая о нас и о том, что с нами происходит на середине жизни, радуясь возможности побыть одному дома в полном безмолвии. Я позвал тебя побыть со мной, и ты пришла. Обычно я стараюсь не думать о тебе здесь, следуя закону разделения властей. Сомневаюсь, стоит ли рассказывать тебе о тех минутах, когда я о вспоминаю о тебе всегда, абсолютно всегда – это случается, когда принимаю душ или (что поделать!) справляю нужду. Да, когда я вижу его.
Так вот, я пытался выяснить, способен ли я вообще быть громоотводом для кого-то. Помню, тебя очень волновала эта тема, но мне трудно дать тебе ясный ответ. По-настоящему честный ответ. Никто никогда не просил меня о таком. Но никто и не спрашивал, как ты – напрямик, остро и недвусмысленно. И никто не нуждался в ответе так, как ты.
Наверно, обычно ответ всегда тут же отражается на моем лице.
Помнишь, я писал тебе, что, как только увидел тебя, испытал в первый раз сильное, отчетливое желание ощутить в себе другого человека? Может, это и есть косвенный ответ на твой вопрос? И я спросил себя, испытываю ли я до сих пор это желание. И ответ был – да, еще и намного сильнее, чем прежде. Гораздо сильнее.
Скажи, как мне не страшно такого желать, как вообще можно впустить в себя другого человека? На полном серьезе, Мириам, сегодня ночью я вдруг осознал, какая же до дрожи пронзительная щедрость и милосердие заключаются в том, что человек позволяет другому проникать пусть даже только в свое тело! Мне вдруг показалось почти безумным это, до страшного естественное, явление! А ведь люди проделывают это и глазом не моргнув (так я слыхал) – проникают и дают проникнуть, и соитие давно превратилось в банальность. Или как раз таки необходимо не понимать чего-то, чтобы допустить такое вторжение?
Представь себе, на мгновение я испугался, что не смогу больше этого делать, не смогу совершать эти знакомые волнообразные движения. В смысле, делать это буднично, как ни в чем не бывало.
И, по-видимому, немного напуганный, я предался одному из моих излюбленных занятий: сидел и воспроизводил с закрытыми глазами одно из совокуплений из моей личной коллекции. Ты – первый человек, которому я это рассказываю (может, потому, что ты рассказала о первом сексе Адама и Евы). Помню, ребенком я пытался воспроизвести в уме целые футбольные матчи, а сегодня – что поделать – это соития, мои маленькие адюльтеры. «Банальнейший способ над банальностью возвыситься», как однажды выразил эту мысль для меня Набоков во время долгой дороги на военную базу Синая.
Конечно, я уже не припомню их все – шесть или, от силы, семь (уже несколько лет я ничего не добавлял в мою коллекцию). Только самые особенные, в которых я достигал самого желанного и, в то же время, самого редкого состояния сознания, витая между сном и явью, бредя и остро осознавая все – каждое движение ее руки и тела, что она говорила и как дышала. Я могу воскресить в памяти изгибы ее талии и все родинки. (А где они у тебя? Та, что под нижней губой, мне знакома. Она кажется мне контрабандным микрофильмом, который ты тайком прячешь на своем невинном лице. А еще где?) Ничто не исчезает бесследно в этой беззвучной перемотке. Не спрашивай меня как – сам не знаю: я словно один из этих шахматных гениев, которые помнят наизусть сотни партий со всеми ходами. А что ты думаешь, Мириам? Может, в этом и заключается мой скрытый гений и мое предназначение (мое искусство…)?
Сейчас закрою конверт и предамся наслаждению ожидания.
Яир
Утро.
И все же я хочу, чтобы ты знала, с кем имеешь дело. Кажется, ночью я был слишком снисходителен к себе в том, что касается «громоотвода».
Ведь мне необходимо собрать все свои силы, чтобы сохранять равновесие – ни на миллиметр нельзя отклоняться от полного, точно выверенного баланса. Не то чтобы мне было чем хвалиться, но самообладание у меня величиной с арахисовый орех – ты видела, что произошло всего неделю назад, – мне до ужаса просто его потерять и сломаться. И еще, я запросто могу расхотеть существовать, отказаться от всего.
И ты спрашиваешь, могу ли я служить «громоотводом» для кого-то? Я? Все, кто меня окружает, должны всегда находиться в лучшей физической форме, должны быть абсолютно здоровы и адекватны. Ты наверняка о чем-то догадалась, когда написала, что Майя – «столп материнства» для меня. Да, это так, не поспоришь – как прекрасно, что все мои близкие обязуются выполнять необходимые условия приема в мой небольшой клуб.
Все. Меня вырвало. Всем самым ничтожным, что есть во мне. Всем самым жалким, изнеженным и мягкотелым, но мне важно, чтобы ты знала. Меня порою поражает, насколько они все покорны и как, не отдавая себе отчета, подчиняются всем моим требованиям: всегда рождаются здоровыми, развиваются, как положено, избегая соблазна заболеть вдруг какой-нибудь злокачественной опухолью или покалечиться, да и вообще не умирают – какое там умереть! Даже в преклонном возрасте – запрещено, только после меня! Даже мои родители вынуждены, по-видимому, оставаться в живых, чтобы не умереть в расцвет моей жизни – не говоря об отце, который уже несколько лет как застрял между жизнью и смертью из-за этих моих драконовских правил.
Но, как ты понимаешь, не только смерть обязана мне подчиняться. Запрещено любое отклонение, любое отступление от этого благословенного заведенного порядка. И если Майя, например, помыслит однажды, только помыслит о том, чтобы покинуть меня, влюбиться в другого самца и бросить меня на съедение кровожадным псам моей ревности – это станет моим самым настоящим концом, ударом пятикилограммового молотка по сердцу зимородка. Таков неписаный закон: тот, кто хочет быть мне близок, должен присягнуть на верность моей душе. Ведь любому дураку понятно, как легко меня прикончить. Достаточно одного нацеленного на меня взгляда. Я не шучу: где-то там, в глубине души, я убежден, что, едва завидев меня, даже на улице, любой, даже незнакомый человек сразу узнает, как расколоть меня одним прикосновением, ликвидировать меня словом. И все же отчего-то никто из окружающих меня людей этого не делает, не добивает меня из жалости. Я не вполне понимаю почему – даже слегка опасаюсь, что они что-то замышляют. И ты тоже – да, ты, невидимая, написанная, береги нас, береги нас обоих. А в тех измерениях, где я так ничтожен, что становлюсь лишь наполовину мужчиной, будь сильной вдвойне. Ты на это способна, я чувствую, что у тебя есть для этого силы, береги наши головы (интересно, что на иврите телохранитель – shomar rosh, а по-английски – bodyguard[15]15
Shomar rosh (ивр.) – дословно «страж головы». Bodyguard (англ.) – «страж тела».
[Закрыть])…
Не уверен, что отправлю этот вздор. Откуда он возник? Не понимаю, как вскрылись во мне эти мутные реки – и почему именно сейчас, после ночи, когда я был так близок к тебе. Я думаю о том, что ты сказала в последнем письме: будто есть у меня странный позыв – обезобразить себя в твою честь. И этот твой сон о странном торговце овощами, который кладет сверху гнилые помидоры. Так что просто прими к сведению – все-таки я чувствую, как будто вручил тебе нечто такое, что никогда не решался вверить себе.
Нужно отправить, верно?
11.6
(Я не прождал и четырех часов. Письма, по всей видимости, пересеклись в пути. Так странно – когда прочтешь мое, поймешь: ты отвечаешь мне на то, о чем еще не прочитала.)
Мириам, я думаю, что-то не сходится в истории нашей встречи под поливалками. Совсем не так я хочу прийти к тебе.
И дело не только в том, что ты посмеялась над моим нежеланием поверить в такое обыкновенное чудо, как встреча двух людей в реальности – пусть даже в автобусе, в банке, на встрече выпускников или просто в овощной лавке. Скорее, мне вдруг и правда показалось, что двое посторонних людей, сидевших на траве и вдруг оказавшихся в воде в объятиях друг друга… После того, как ты написала в своем письме, что я постоянно тщусь приукрасить действительность… Не знаю, но все это вдруг представилось мне совершенно нескладным и высосанным из пальца. Водный аттракцион с пиротехникой, который совершенно не под стать тебе и той нежности, с какой я хочу к тебе прийти. Который совсем не вяжется с окутывающей тебя безмятежностью, а главное – с теми словами, которые ты написала в последних строках своего письма, с этой внезапной вспышкой, которую я до сих пор не вполне осознал.
И все же, согласись, мне это крайне важно – между нами возможны и поливалки, и вообще все: у нас будет много таких первых встреч, и всякий раз мы будем заново открывать друг друга. Ибо зачем отказываться хоть от чего-то, а тем более от всего? С тобой я хочу всего, только с тобой я могу желать всего, и, может быть, только благодаря этому чрезмерному, расточительному «всему» откроется перед нами То Самое – особый элемент, который может кристаллизоваться только между нами с тобой, и никогда – между другими людьми?
Ты, конечно, права, что реальность – сама по себе великое чудо. И – уж прости меня – эти красивые слова я тоже умею произносить с мягким, загадочным придыханием. Но не забывай, что «реальность» в конечном итоге – это тоже лишь сиюминутное стечение обстоятельств на поверхности огромного земного шара, изобилующего возможностями, которым не суждено осуществиться. Каждая из них могла бы рассказать нам совершенно другую историю о нас, сыграть на нас другую мелодию. Так почему бы нам не прийти друг к другу из самых неожиданных мест, с темной стороны сознания?
Хочу, чтобы у меня было десять разных романов с тобой, – почему бы нет – и чтобы от каждого из них во мне разговорился и раскричался совсем другой человек, человек, мне не знакомый. Именно ради этого люди сходятся, разве нет? Я задаю тебе тот же вопрос, что и ты мне: наберусь ли я когда-нибудь храбрости заглянуть в твои глаза и прочесть для тебя то, что сама ты прочитать не можешь. Если бы только я мог ответить с полной уверенностью! Не знаю (но, может, именно потому я с самой первой минуты встал вне поля твоего зрения?).
Я прошу слишком многого? Возможно, но зачем же довольствоваться малым, мы ведь и так всю свою жизнь только и делаем, что «довольствуемся». С тобой же я хочу касаться всего вокруг широкими, щедрыми движениями, будто в последний раз в жизни. Как же ты могла остановиться в тот момент, когда наконец-то начала отдавать что-то из самых своих глубин – «мой позор», сказала ты, будто шутя или примеряя на себя одно из моих слов. Но вдруг дело приняло серьезный оборот, не правда ли? «И, может, прекратишь, наконец, называть оскорбления, которыми когда-то в тебя запустили, «позором»?! – вскипела ты без предупреждения. Но я почувствовал, что именно это слово вцепилось в тебя, прилипло к твоей коже, и тебе нужно повторять его вновь и вновь, чтобы стряхнуть, но одновременно и для того, чтобы прикоснуться к нему еще разок. «И какая вообще связь между оскорблениями и позором?», «И почему я постоянно чувствую, что ты испытываешь странное удовольствие, вновь и вновь замешивая обиды со стыдом?». Всякий раз, когда ты повторяла это слово, оно приклеивалось пуще прежнего, и тогда ты —
Объясни мне, Мириам, что это за война, в которой ты сражаешься за то, чтобы лечь спать с твердым желанием проснуться наутро? О чем это ты, и откуда это абсолютно ложное, страшное чувство, что тебе запрещено создавать новое в этом мире? Это я из нас двоих неуравновешен и склонен к разрушению, не забывай!
(Или, быть может, думается мне сейчас, это некая иллюзия? Может, это история, которую ты решила рассказать мне о себе? Но почему ты выбрала такой ужастик?)
Ты понимаешь, в каком состоянии меня оставила? Не объяснила ничего, и это твое: «Иногда я чувствую, что все живое, даже два котенка, которых Нили родила вчера и, по своему обыкновению, оставила на мое попечение, даже они порою – будто украденный огонь в моей руке», – и тут же замолчала. До конца страницы осталось немало пустых строк, и я не знал, чем их заполнить, воображение мое разбушевалось. Когда же ты снова явилась передо мной, лицо твое уже не выражало ничего необыкновенного, и ты рассказала о чем-то несущественном, не слишком относящемся к делу. Уж прости мне это «учительское» замечание, но, по-моему, ты просто хотела вежливо закончить письмо. Очень здорово, что твой сын занят сейчас таким благородным занятием, как счет до миллиона (не самый худший способ потратить жизнь). Наконец-то ты ясно сказала, что у тебя есть ребенок – а то я начал было переживать, – но как ты могла оставить меня одного после этих слов?
Довольно, довольно сжимать кулаки! Наши мрачные секреты всегда куда скромнее, чем нам кажется. Так отдай, вверь же мне себя без промедлений, напиши, например, – в отдельном письме, в письме из одной фразы – самые первые слова, первую мысль, первую вспышку, которая приходит тебе в голову, когда ты читаешь это письмо. (Да, да! Сейчас, в эту минуту, напиши, запечатай и отправь, еще до «официального» ответа, до всех твоих внутренних перипетий, связанных со мной…)
14.6
Бум!
Значит, теперь мой черед?
После близости мы заснем в обнимку. Твоя спина прильнет к моему животу, и пальцами ног я, как прищепками, зажму твои щиколотки, чтобы ты не упорхнула от меня в ночи. И мы будем словно иллюстрация из энциклопедии о природе: продольный разрез плода, я – кожура, ты – сердцевина.
Яир.
P. S. Не верил, что ты осмелишься на такое.
17.6
А когда мы будем заниматься любовью, я хочу закрыть глаза и осторожно коснуться ободка твоих волос, где-то пониже пупка, чтобы ощутить кончиками пальцев нежный шелк того места – одного из мест, – в котором ты превратилась из девочки в женщину.
Я.
18.6
Одно внеочередное.
Вчера вечером я спускался по переулку Хелени Ха-Малька, и передо мной шагал мальчик, на вид лет девяти или десяти. Мы были одни. В переулке было темно, и он то и дело оборачивался назад, ускоряя шаг, но у меня даже медленная походка выходит слишком быстрой. Я чувствовал его страх – страх, который тут же вспомнил со всей живостью, – и стал гадать, как успокоить его, не смутив. И тут он начал прихрамывать. Сильно подвернул ногу и теперь волок ее за собой, постанывая. Так мы и шли вместе до конца переулка, потихоньку, держа одну и ту же дистанцию. Он – хромая снаружи, а я – внутри.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?