Текст книги "Бремя черных"
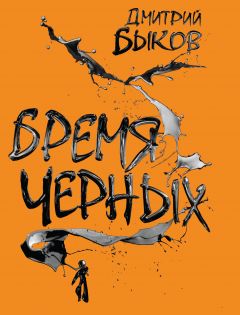
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Триптих
Цикл Овидия Ex Ponto написан на окраине империи,
в городе Томы.
Он был нам вместо острова Халки и вместо острова Капри:
Его прибоя острые капли, базара пестрые тряпки,
Его заборов толстые палки, ослизлого камня смрад
Его акаций плоские прядки и срам курортных эстрад.
Он был хранилищем наших истин, не новых, но и не стыдных,
Как Чехов, наш таганрогский Ибсен,
наш подмосковный Стриндберг,
Который тут же неподалеку ссыхался не по годам,
Отлично ведая подоплеку отлучек своей мадам.
Здесь доживал он средь гор-громадин, опутанных виноградом,
Но умирать переехал в Баден – не дважды-Баден, а рядом,
Поскольку жизнь – невнятное скотство, а смерть – это честный спорт,
Поскольку жизнь всегда второсортна, а смерть – это первый сорт.
…Он был нам Ниццей – да что там Ниццей, он был нам вся заграница —
Такой чахоточный, полунищий, из туфа вместо гранита,
Доступной копией, эпигоном на галечном берегу:
Он был нам Лиссом, и Лиссабоном, и Генуей, и Гель-Гью.
Ведь Наше все, как ссыльная птица, такое невыездное,
Должно же где-нибудь обратиться среди гурзуфского зноя:
– Прощай, свободная ты стихия, сверкающ, многоочит!
Все это мог бы сказать в степи я, но «К морю» лучше звучит.
Прощай, утопия бело-синяя, курортность и ресторанность.
Теперь, с годами, он стал Россией, какой она рисовалась
Из Касабланки или Триеста, и проч. эмигрантских мест.
Для вдохновения нужно место, на коем поставлен крест.
Для вдохновения нужно место, куда нам нельзя вернуться —
Во избежанье мести, ареста, безумства или занудства,
И чтоб ты попросту не увидел и не воспел потом,
Как Рим, откуда выслан Овидий, становится хуже Том.
Так вот, он был для нас заграницей, а после он стал Россией —
Всегда двоящийся, многолицый, божественно некрасивый,
Его открыточная марина, заемный его прибой —
Легко меняющий властелина, поскольку не стал собой.
Так Эдмунд Кин в театральной байке то Гамлетом, то Отелло
Являлся к знатной одной зазнайке; когда ж она захотела,
Чтоб он явился к ней просто Кином – нашла чего захотеть! —
Он ей ответил с видом невинным: простите, я импотент.
Все время чей-то, носивший маску и сам собой нелюбимый,
Подобно Иксу, подобно Максу с убогонькой Черубиной,
Подобно ей, сумасшедшей дочке чахоточного отца,
Что не могла написать ни строчки от собственного лица.
Всю жизнь – горчайшая незавидность. Старательно негодуя,
Стремясь все это возненавидеть, на что теперь не иду я!
Так умирающий шлет проклятья блаженному бытию,
Чьей второсортности, о собратья, довольно, не утаю.
Когда на смену размытым пятнам настанет иное зренье,
Каким убожеством суррогатным увижу свой краткий день я!
Какой останется жалкий остов от бывшего тут со мной —
Как этот грязненький полуостров, косивший под рай земной.
А с ним и весь этот бедный шарик, набор неуютных Родин,
Который мало кому мешает, но мало на что пригоден, —
Вот разве для перевода скорби в исписанные листки,
Источник истинно второсортный для первосортной тоски.
Мой учитель истории Страхов
Все твердил «Ничего-ничего»,
А сегодня на выдаче прахов
Мы с утра забираем его.
«Похоронят, зароют глубоко…»
Остальное исчезнет в трубе.
Мы читали про это у Блока,
А теперь применяем к себе.
Этот месяц лежал он в гангрене,
Как в геенне, в больнице, и вот
Он остался без ног по колени,
А потом и почти под живот.
Между шуток, намеренно грубых,
На вопросы убитой родни
«Жить не буду. Теперь я обрубок», —
Говорил он в последние дни.
Он писал на прощание в блоге:
«Утешенья тошны и пошлы.
Ухожу догонять свои ноги,
Чтоб они далеко не ушли».
А задуматься – кто не обрубок?
Ибо время – токарный станок:
Из одних оно выточит кубок,
Из других – неваляшку без ног.
Словно ворс из протершейся шубы,
Обнажая участки мездры, —
Высыпаются волосы, зубы,
Безнадежно скудеют мозги,
Ослепительный, пышный избыток
Тех, кто грозен, блестящ и умен,
Превращается в свиток забытых,
Безнадежно ненужных имен.
Ибо смерть – не короткое слово.
Смерть дается упорным трудом.
Ничего я не делал другого,
Ни о чем я не думал другом.
А душа улетает при жизни,
Отсеченная тем же станком,
Так что если и плачут на тризне,
То уже непонятно, о ком.
Миг, когда она улетела
Прочь, —
Интимное дело,
Как первая ночь.
С этих пор не имеет значенья
Ни мое торжество,
Ни чужое мученье —
Вообще ничего.
И бряцанье металла,
И людей толкотня —
Вообще волновать перестала
Меня.
Доживание тела,
Искрошившийся мел:
Голова опустела
И размер охромел.
Ни грез, ни риска.
Вон, друзья.
Со всем смирился,
С чем нельзя.
Элегия в трех сонетах
Так и бродит оно, бестолковое,
С этих пор не живя, а терпя,
То в бессмысленном ужасе холода,
То в животном восторге тепла.
Только изредка, изредка, изредка
Средь засилья картонных химер
Вспыхнет искорка быстрого высверка,
Как сегодня с утра, например.
Небеса совершенно весенние,
А-капельная ржавая жесть,
Облегчение, вера в спасение —
Весь набор туповатых блаженств.
Все в прекрасной воссоздано целости,
Столь приятной небесным властям:
Все обиды, утраты и ценности,
Что растрачены здесь по частям.
Желто-серых небес расслоение,
Блеск, роение, синь и свинец,
Раздвоение их, растроение,
Настроение «Ну наконец».
Из цикла «Новые баллады»
Небритое осматривая рыло,
Прямой портрет усталого нутра,
Ревизию всего, что есть и было,
Как водится, устраивая с утра, —
Где, вопрошаешь, блеск, талант и сила,
Все, для чего вообще вставать с одра?
Где милые? Одних взяла могила,
Других – хандра, а остальных – литра.
А ненависть? А ненависть на месте,
Чистейшая, как холод внеземной,
Надежнейшая, преданная без лести,
Надувшись вожделеньем и виной,
Замена славы, доблести и чести,
Переживая всех, умрет со мной.
Все уплыло, сбежало, улетело,
Всех пожрало державное жерло,
Тому изменила душа, другому тело,
Оставшиеся дышат тяжело.
Все, так сказать, что рвалось-металось-пело,
Любилось, обещало и ржало,
И лопалось от сока, как помéло, —
Всех подмело большое помело.
А ненависть? Среди времен бесславных
Она спасет бесславные места,
Исправная, как капитан-исправник,
И страстная, как детские уста,
Как свежая вода в прогнивших плавнях,
Как в дряблом Риме проповедь Христа.
Как юный пионер, всегда готова,
Как нежность непристойная, тяжка,
Все помнит – до словца, до полуслова,
Мельчайшего, мерзейшего шажка,
Безжалостна, безóбразна, безброва,
Как взрывом обожженная башка,
В тени полуразрушенного крова
Застыла в ожидании прыжка.
Цела, бессмертна – львиная, баранья,
Крысиная – как хочешь назови.
Дошел до грани и смотрю за грань я:
Передо мной последний визави,
Последняя из форм существованья,
Последнее прибежище любви.
Еще танго
И я ж еще при этом
Не делал ничего,
Что вопреки запретам
Творило большинство:
Не брал чужой копейки,
Не крал чужой еды,
Не натравил ищейки
На чьи-либо следы,
Не учинял допросов,
Не молотил под дых,
Не сочинял доносов
И не печатал их,
Заниженную прибыль
Не вписывал в графу,
Не обрекал на гибель
(Но это тьфу-тьфу-тьфу).
Я зол и многогрешен,
Как всякий тут феллах,
Однако не замешан
Во всех таких делах,
В которых обвинялся
Вонючей блатотой,
Чей вой распространялся
Летучей клеветой.
А будь я хоть покроем,
Хоть профилем сравним
С таким антигероем,
Что рисовался им,
Да будь хотя отчасти
Во мне совмещены
Такая верность власти
С угрозой для страны,
Растли я хоть младенца
Четырнадцати лет,
Сопри хоть полотенце
В гостинице «Рассвет»,
Соври, как этот глупый,
Глядящий в пол ишак,
Рассматривавший с лупой
Любой мой полушаг,
Всю жизнь дающий волю
Наклонностям души, —
Хоть крошечную долю
Себе я разреши
Того, что эта свора,
Тупая, как мигрень,
Насмешливо и споро
Творила каждый день,
Найдись им в самом деле,
За что меня терзать, —
Небось они б сумели
Рекорды показать!
Суд был бы беспощаден,
Зато на радость всем.
Как купчик Верещагин
В романе «В. и М.»,
Я был бы так размешан
С московскою грязцой,
Что стал бы безутешен
Грядущий Л. Толстой.
И так родная лава
Под коркою земной
С рождения пылала,
Кипела подо мной,
И лопалась, и рдела
Как кожа на прыще.
А было бы за дело —
Убили б вообще.
Но в том-то и обида,
Но в том-то и беда,
Что если б хоть для вида
Я сунулся туда,
Имею подозренье,
Что встретил бы в ответ
Не пылкое презренье,
А ласковый привет.
Буквально in a minute
Зажглось бы торжество;
Я тут же был бы принят
У них за своего, —
Ведь их антагонистом
Я был лишь в той связи,
Что мнил остаться чистым
В зловонной их грязи.
Твердыня ты, пустыня,
Насколько ты пуста,
Гордыня ты, гусыня,
Святыня без Христа.
«Земля очнется после снега – и лезут из-под него…»
Я непременно перейду на вашу сторону,
Но не внезапно, не стихийно, не по-скорому,
И это будет не чутье, не страх, не выгода,
Но понимание, что нет иного выхода
И на пути к изничтожению бесспорному
Спасет лишь мой демарш-бросок на вашу сторону,
Как переход во вражий лагерь прокаженного
Или другого чем смертельным зараженного.
Да, вот тогда я перейду на вашу сторону —
К тупому, хищному, исконному, посконному,
К необъяснимому, нелепому, нестройному,
Фальшиво шитому и неприлично скроенному.
И вот тогда я перейду на вашу сторону —
Точней сказать, перелечу, подобно ворону,
Неся с собой свое клеймо, свое проклятие,
А уж оно падет само на вас, собратия.
Оно, за что я ни берусь, меня преследует,
И вечно ждет, что я загнусь; когда – не ведает.
Пойди я в летчики – летать бы мне недолго бы;
Пойди в валютчики – попадали бы доллары;
Пойди я в сыщики – у всех бы стало алиби;
Пойди в могильщики – вообще не умирали бы.
Оно ползет за мной, как тень, скуля, постанывая,
И станет вашим в тот же день, как вашим стану я.
Мое предательство ценя, – ему-то рады вы, —
Не оттолкнете вы меня, хотя и надо бы,
И перекинется гнилье, и ляжет трещина,
И станет вашим все мое, как и обещано.
Я, как гранату, жизнь закину в ваше логово —
Видать, затем и берегли меня, убогого.
Себя я кину, как гранату – ту, последнюю,
С моей прижизненною кармой и посмертною.
Вот ровно так я перейду на вашу сторону,
И мы толпой, в одном ряду войдем в историю,
И там опустимся на дно, как маршал Паулюс,
Но если с вами заодно, то я не жалуюсь.
Дембель
Земля очнется после снега – и лезут из-под него
Обертки, хлам, почему-то кости, битый кирпич,
Стекло, бутылки из-под пиво, бутылки из-под вино,
Дохлые крысы и много чего опричь.
Со всем этим надо бы что-то сделать, но непонятно, как
За все это браться после такой зимы,
Когда мы тонули в сугробах, шубах, вязли в клеветниках,
А как приводить в порядок, так снова мы.
…Вот так очнешься после ночи – и лезут из-под нее
Вчерашние мысли, скомканные носки,
Обломки тем, обломки строчек, сброшенное белье,
Малознакомое тело рядом, прости.
Внизу, на улице, та же свалка и аромат при ней,
И дождь со снегом, вечный, как вечный жид.
Казалось, за ночь все это станет вечера мудреней,
А нет, не стало, как лежало, так и лежит.
…Душа очнется после смерти – а там все тот же кабак:
Смерть завистников не смирила, павших не развела,
Зла не забыла, и все, что было сброшено кое-как, —
Так и валяется в беспорядке: дела, тела.
Вокруг лежит печальная местность, русла, мосты, кусты,
Аккумуляторные пластины и ЖБК,
Повсюду запах прелой листвы и горечь новой листвы,
Серо-зеленый цвет бессмертья и бардака.
Рыжеют пятна былых стычек, чужих обид,
Лопнувших начинаний, пустых лет.
Казалось, смерть облагородит, посеребрит,
Гармонизирует, – но оказалось, нет.
И надо все начинать сначала, цвести и гнить,
Подхватывать эту нить и узлы вязать,
И не скажешь, зачем, и некому объяснить,
А главное, непонятно, где силы взять.
Александру Миндадзе
Бремя белых
Чем дольше опыт бытия,
Тем чаще я
Воспринимаю смерть как дембель.
Лет тридцать минуло с тех пор,
Но вижу явственно, в упор,
Какой прекрасный это день был.
Была весна.
Цветочки, листья, мать честна.
Жизнь впереди была в порядке.
Степенный, словно черный грач,
Вдоль местных дач
Я по Славянке шел в парадке.
Не в лучшей форме я, увы,
Среди ликующей листвы
Встречаю эту годовщину.
Уже все чаще я ворчу,
Хожу к врачу,
Уже впадаю в дедовщину.
Уже мы быстро устаем,
С трудом встаем —
Не я и тот, о ком ты мыслишь,
А я и мрачные скоты,
Которых ты
Моими сверстниками числишь.
Уже плевать,
Кто унаследует кровать
И сбереженья прикарманит.
Мир не погублен, не спасен,
И вечный сон
Не столь пугает, сколько манит.
Хотя в невечном, здешнем сне
Порою мне
Повестку вновь кидают в ящик,
И так ужасен этот сон,
Что тяжкий стон
В моем дому пугает спящих.
Когда покинем этот свет —
Бессмертья нет,
Теоретические споры
Идут не дальше общих фраз,
Но как-то раз
Нас призовут еще на сборы.
Вдруг наши шпаги и ножны
Еще окажутся нужны —
Хоть для подмоги, для подпитки?
Кто не убийца и не тать —
Как им не дать,
Не разрешить второй попытки?
Окопы старые и рвы
Порой, увы,
Зарытых снова изрыгают.
Все барды издавна поют
О том, что павшие встают
И помогают.
До этих пор
Нас ждет какой-то коридор,
Тошнотный, как в военкомате,
И там мы будем вспоминать
Былую рать
И как блистали в этой рати.
Кичиться будут погранцы,
Орать – десантные бойцы,
Артиллерист опять нажрется,
Звонить в испуге будет мать,
Невеста – ждать,
И как обычно, не дождется.
Все будут, как типичный дед,
Перечислят своих побед
Ряды и даты, —
Вранье зашуганных мудил:
Ужели, если б победил,
Попал сюда ты?
Не знаю, как в другой войне,
А в этой, что досталась мне,
Напрасны доблести стальные.
Бессильны и добро, и зло:
Есть те, которым повезло, —
И остальные.
Но нас построят на плацу —
Или расставят по кольцу,
Как ожерелье,
И мы увидим на свету,
Как растеряли красоту,
Как ожирели,
Прогнили грудью и спиной —
Иной посмертно, а иной
Еще при жизни,
Как эти выходцы из ям
Тупы, помяты по краям,
Как нас обгрызли.
И вот вам весь парад планет:
Бессмертья нет,
А только ржавчина без счета.
Нелепо думать, что в земле,
В ее котле,
Нетленное хранится что-то.
Тогда Господь – майор такой —
Махнет рукой
На эти пролежни и пятна:
Наш утлый ряд
Фальшиво поблагодарят
И комиссуют безвозвратно.
Несите бремя белых,
И лучших сыновей
На тяжкий труд пошлите
За тридевять морей —
На службу к покоренным
Угрюмым племенам,
На службу к полудетям,
А может быть, чертям.
Киплинг
Бремя черных
Люблю рассказы о Бразилии,
Гонконге, Индии, Гвинее…
Иль север мой мне все постылее,
Иль всех других во мне живее
Тот предок, гимназист из Вырицы,
Из Таганрога, из Самары,
Который млеет перед вывеской
«Колониальные товары».
Я видел это все, по-моему, —
Блеск неба, взгляд аборигена, —
Хоть знал по Клавеллу, по Моэму,
По репродукциям Гогена —
Во всем палящем безобразии,
Неотразимом и жестоком,
Да, может быть, по Средней Азии,
Где был однажды ненароком.
Дикарка носит юбку длинную
И прячет нож в цветные складки.
Полковник пьет настойку хинную,
Пылая в желтой лихорадке.
У юной леди брошь украдена,
Собакам недостало мяса —
На краже пойман повар-гадина
И умоляет: «Масса, масса!»
Чиновник дремлет после ужина
И бредит девкой из Рангуна,
А между тем вода разбужена
И плеском полнится лагуна.
Миссионер – лицо оплывшее, —
С утра цивильно приодетый,
Спешит на судно вновь прибывшее
За прошлогоднею газетой.
Ему ль не знать, на зуб не пробовать,
Не ужасаться в долгих думах,
Как тщетна всяческая проповедь
Пред ликом идолов угрюмых?
Ему ль не помнить взгляда карего
Служанки злой, дикарки юной,
В котором будущее зарево
Уже затлело над лагуной?
…Скажи, откуда это знание?
Тоска ль по праздничным широтам,
Которым старая Британия
Была насильственным оплотом?
О нет, душа не этим ранена,
Но помнит о таком же взгляде,
Которым мерил англичанина
Туземец, нападая сзади.
О, как я помню злобу черную,
Глухую, древнюю насмешку,
Притворство рабье, страсть покорную
С тоской по мщенью вперемешку!
Забыть ли мне твое презрение,
Прислуга, женщина, иуда,
Твое туземное, подземное?
Не лгу себе: оно – оттуда.
Лишь старый Булль в своей наивности,
Добропорядочной не в меру,
Мечтал привить туземной живности
Мораль и истинную веру.
Моя душа иное видела —
Хватило ей попытки зряшной,
Чтоб чуять в черном лике идола
Самой природы лик незрячий.
Вот мир как есть: неистребимая
Насмешка островного рая,
Глубинная, вольнолюбивая,
Тупая, хищная, живая:
Триумф земли, лиан плетение,
Зеленый сок, трава под ветром —
И влажный, душный запах тления
Над этим буйством пышноцветным.
…Они уйдут, поняв со временем,
Что толку нет в труде упорном —
Уйдут, надломленные бременем
Последних белых в мире черном.
Соблазны блуда и слияния
Смешны для гордой их армады.
С ухмылкой глянут изваяния
На их последние парады.
И джунгли отвоюют наново
Тебя, крокетная площадка.
Придет черед давно желанного,
Благословенного упадка —
Каких узлов ни перевязывай,
Какую ни мости дорогу,
Каких законов ни указывай
Туземцу, женщине и Богу.
Закрытие темы
«Порой, когда лед оплывает под солнцем полудня…»
С годами все завоеватели
К родному берегу скользят.
Они еще не вовсе спятили,
Но явно пятятся назад.
Колонизатор из колонии,
Короны верный соловей,
Спешит в холодные, холеные
Поля Британии своей;
Советники с гнилого Запада
Восточных бросили царьков,
Уставши от густого запаха
Ручных шакалов и хорьков;
И Робинзон опять же пятится
На бриг, подальше от невеж:
Отныне ты свободен, Пятница,
Чего захочешь, то и ешь.
Спешит к земле корабль прогрессора,
Покинув вольный Арканар:
Прогрессор там еще погрелся бы,
Но слишком многих доканал.
С Христом прощаются апостолы
В неизъяснимом мандраже:
– А мы-то как теперь, о Господи?
Но он не слушает уже.
И сам Создатель смотрит в сторону,
Надеясь свой вселенский храм
Покинуть как-нибудь по-скорому,
Без долгих слов и лишних драм:
– Своей бездонною утробою
Вы надоели даже мне.
Я где-нибудь еще попробую,
А может быть, уже и не.
Среди эпохи подытоженной,
Как неразобранный багаж,
Лежит угрюмый, обезвоженный
И обезбоженный пейзаж.
Туземный мир остался в целости,
Хотя и несколько прижат.
В нем неусвоенные ценности
Унылой грудою лежат.
Они лежат гниющим ворохом
Перед поселком дикарей.
Со всеми пушками и порохом,
С ружьем и Библией своей,
Со всею проповедью пылкою
Их обучил дурак седой
Лишь есть врага с ножом и вилкою
Да руки мыть перед едой.
Чем завершить колонизацию
Перед отплытьем в милый край?
Оставить им канализацию,
Бутылку, вилку, – и гудбай.
Все так. Но есть еще и Пятница,
Который к белым так присох,
Которому пошили платьице
Из обветшалых парусов,
Который проклял эти гиблые,
Непросвещенные места,
Который потянулся к Библии
И все запомнил про Христа!
И что нам делать, бедный Пятница?
В цивильном Йорке нас не ждут.
Как только солнышко закатится,
Нас наши родичи сожрут.
На что мы молодость потратили?
Обидно, что ни говори,
У дикарей попасть в предатели,
А у пришельцев – в дикари.
Скажи, зачем мы так поверили,
Какого, собственно, рожна —
Посланцам доблестной империи,
Где наша верность не нужна?
А для жрецов родного капища
Мы жертвы главные. Пора!
Для них мы колла… бора… как это,
Как ты сказал – коллабора…
Мы из других материй сотканы,
У них бело, у нас черно,
Для наших я изгой, но все-таки,
Для них я просто ничего!
Теперь душа моя украдена,
Неузнаваемы черты…
Спаситель мой, любимец, гадина,
Кому меня оставил ты?
Зачем же я в тебя глаза втыкал,
Учась, покорствуя, молясь?
Зачем тобою не позавтракал,
Когда увидел в первый раз?
За что меня ты бросил, Господи,
На растерзанье их клешней?
Хотя тебе от этих слез, поди,
Еще скушней, еще тошней…
Кому потребны эти жалобы?
В его глазах слепой восторг,
Смотри, смотри, он машет с палубы,
Он уплывает в город Йорк,
Оттуда он и будет пялиться —
Невозмутимо, как всегда, —
На то, как поглощает Пятницу
Его исконная среда.
Ну что же! Вытри слезы, Пятница.
Душиста ночь в родных местах.
Плоскоголовая лопатница[2]2
Лягушка-водонос.
[Закрыть]
Надрывно квакает в кустах.
Во влажном мраке что-то прячется,
Непредставимое уму…
Довольно. Вытри слезы, Пятница!
Сейчас нам лучше, чем ему.
В вечерних джунглях столько прелести!
Я так и слышу, чуткий псих,
Как от восторга сводит челюсти
У соплеменников моих.
Как пахнет полночь многогласная,
Соцветья, гроздья, семена,
Какая все-таки прекрасная,
Смешная, дикая страна!
Как сладко сдохнуть одурманенным
В кипучей чаще, дорогой!
Тут быть последним христианином
Гораздо лучше, чем слугой.
И право, это так заслуженно, —
И в этом столько куражу, —
Что я хотя бы в виде ужина
Еще Отчизне послужу.
Порой, когда лед оплывает под солнцем полудня
Или вешний поток устремляется вдоль бордюрца,
Меня накрывает простое, мирное, подлое,
Очень русское, кстати, чувство – все обойдется.
Точнее, чувств этих два, и оба довольно русские.
Душа без них сиротлива, как лес без птиц.
Неясно, с чего я взял, что скоро все будет рушиться —
И с чего решил, что все должно обойтись.
Вероятно, российский декабрь в завьюженности, застуженности,
И солнце – оттиснутый на морозном стекле пятак —
Наводят на мысль о некоторой заслуженности:
Не может быть, чтобы все это просто так.
Но поскольку мы не Германия и не Сербия,
И поскольку важней огородство, чем благородство,
И поскольку, помимо правды, есть милосердие, —
Возникает рабская мысль, что все обойдется.
И сидишь, бывало, в какой-то плюшечной, рюмочной,
И течет по окнам такая прелесть, такая слизь,
И такой аморфный вокруг пейзаж, такой межеумочный,
Что не может не обойтись. Должно обойтись.
Это чувство стыдней рукоблудия, слаще морфия,
И поскольку пойти до конца мы себе мешали,
Потому что мы сущность бесформенная, аморфная, —
Может статься, опять остановимся в полушаге.
Облака ползут на восток, кое-как карабкаясь.
Облетевший клен на оконном кресте распят.
Это рабское чувство, что все виноваты. Рабское.
Но гораздо более рабское чувство, что всех простят.
И уж если вгляжусь сегодня в толщу осадка я,
Отважусь хлебнуть на вкус, посмотреть на свет, —
Начинает во мне подыматься гадкое, сладкое
Знанье о том, что не обойдется. Нет.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































