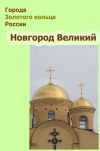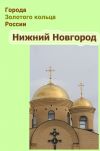Текст книги "Письма о добром"

Автор книги: Дмитрий Лихачев
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Одним из традиционно-познавательных жанров в литературе всегда являлся жанр мемуаров. В XX веке жанр этот становится все более важным, значительным, общественно действенным. Если раньше читателя интересовала прежде всего жизнь писателей, то затем появился интерес к жизни художников (живописцев, скульпторов), затем к жизни полководцев (жанр, наиболее близкий к истории государств), а теперь – к жизни ученых, актеров, балерин и танцоров, режиссеров, выдающихся инженеров, конструкторов и организаторов производства, к «показательной» жизни того или иного представителя любой профессии.
Не «научно-популярная», а просто научная литература в ее широкодоступной форме становится все весомее и все больше занимает читателей. При этом роль «посредников» (журналистов, профессиональных популяризаторов) между ученым и читателем постепенно снижается. Сам ученый обращается к читателям, ибо и читатель требует точности и непосредственного общения с ученым, минуя «посредников», которые могут искажать и упрощать мысль ученого, научную истину. Вместе с тем не только читатель ищет встречи с ученым, но и ученые все чаще обращаются к встрече с читателями, ибо наука становится все определеннее общественной деятельностью.
Слова Блаженного Августина: «Единственным признаком благородства скоро станет знание литературы!» Сейчас – знание поэзии, во всяком случае.
Присматриваясь к поведению многих сотрудников литературных институтов, можно полностью разувериться в воспитательной роли литературы… Но нет! Иммунитет к литературе создает «профессионализм», да и просто ремесленное отношение многих литературоведов к своему труду. Они живут полностью отгороженные от литературы. И аморальность их создается именно отсутствием литературы в их духовном кругозоре. Они же лишаются эстетической восприимчивости. А ведь много мешает в восприятии книг и родственная профессия – редакторов. Надо быть очень крепким, чтобы выдержать натиск рутины в своем собственном труде.
Заметить появление закономерностей можно лишь в больших явлениях, но не в маленьких. Существует порог появления закономерностей. В литературе он очень высок. Можно заметить, однако, что в Средневековье этот дорог ниже, чем в Новое время, и поэтому наблюдать закономерности на основе древнерусской литературы удобнее, чем на основе новой русской литературы.
В интервью А. А. Каменского с М. З. Шагалом («Огонек», 1987, № 27, с. 25) я прочитал следующую очень верную мысль М. Шагала: «Большие художники – это те мастера, которые разрывают рамки направлений, оказываются выше их, не скованы правилами и нормами направлений. В рамках направлений полностью умещаются только посредственности». Шагал дальше иллюстрирует свою мысль только живописцами, и то – близкими ему по времени или «по противостоянию». Но мысль Шагала относится и к архитекторам (Н. А. Львов, Ринальди), и к писателям (Пушкин, Гоголь, Достоевский), и к древним иконописцам. Чем выше искусство иконописца, тем он больше выпадает из «школы» и времени. Вот почему так противоречивы суждения о «Троице» Рублева или о «стиле» произведений Феофана Грека.
А, возвращаясь к писателям, – стиль Аввакума? Его не втиснешь ни в какие нормы и признаки эпохи, как не вставишь в историю литературы евангелистов. Последних даже не подчинишь жанровой системе I века н. э.
Непрофессионально об искусстве
Заметки о происхождении искусстваДаниил Александрович Гранин спросил меня в Доме писателя перед вечером цыганской песни, который должен был вести В. А. Мануйлов: зачем нужно искусство? Об этом спрашивали его на встрече с молодежью в Берлине, откуда он только что вернулся (разговор был 26 марта 1982 года).
Речь зашла о начале искусства, о пещерных рисунках. Рисуют бизона с таким необыкновенным умением. Как будто и прогресса нет.
Да, умение поразительное, но ведь только бизон, только дикий бык, пещерный медведь… Чтобы изобразить цель охоты? Но тогда почему нет уток, гусей, перепелов? Ведь на них тоже охотились. Почему нет проса, а ведь его сеяли.
Мое предположение: изображалось в пещерах то, чего боялись. Что могло нанести смертельный вред. Человек рисовал то, что страшно. Он нейтрализовал окружающий его мир в том, что несло ему опасность.
Отсюда родилось искусство.
Когда пугало обширное пространство Русской равнины, человек ставил на самых высоких местах, на крутых берегах рек и даже среди болот церкви. Церкви населяли обширный мир. Это подавляло страх одиночества. Протяжная песня покоряла пространство. Звон колокола наполнял воздушное пространство. Нос ладьи загибали высоко кверху и вырезали на нем страшилище. Страшное море, страшные волны – надо было и их устрашить.
Боялись смерти, безвестности, исчезновения и насыпали курганы. Курганы труднее всего разрушить. Курганы из земли, они бессмертны, как земля. Чтобы разрушить курган, надо его разнести даже не лопатами, а на носилках. Землю лопатой не размечешь: курганы делались большими, и если разрывать курган лопатами, то рядом вырастет другой курган – на расстоянии броска лопатой. Поэтому курган – символ бессмертия, а египетские пирамиды подражают курганам.
А в последующем искусство борется не со смертью, а с бесформенностью и бессодержательностью мира. Искусство вносит в мир упорядоченность. Эта упорядоченность каждый раз различная. Однообразна в безличностном фольклоре, индивидуальна в индивидуальном творчестве, разнообразна в пределах одного личностного творчества: художник в разных творениях может выражать разные идеи, разные стилистические тенденции.
Памятники искусства – это разные «модели», разные попытки внесения системы в бессистемный мир. Человек боится смерти в ее наиболее сложных формах – в «формах» хаоса. Искусство борется даже не с хаосом, ибо и хаос в какой-то мере есть форма существования мира, а с хаотичностью.
Можно взять и перекопать мир, построить город (город Солнца или что-то подобное). Патриарх Никон острову на Бородаевском озере придал форму креста. Но в основном искусство борется с собственным восприятием мира. Оно стремится ввести восприятие в русло «стиля», понимаемого как единство формы и содержания.
Достоевский боится города, боится человека. Он так ясно видит ужас всего этого, испытывает такой страх перед своим ясным видением человека, что ему трудно обмануть самого себя. Поэтому он меняет мир в своих произведениях «очень мало» («очень мало» – это так кажется ему). Ему нужно уверить самого себя, что мир именно таков, а его видение мира необыкновенно остро, почти что научно (не случайно его творчество совпадает с развитием наук о человеке: психиатрии, психологии; с развитием судебного следствия в реформированных судах, с развитием адвокатуры и прокуратуры, с развитием источниковедения в исторической науке и пр., и пр.). Подобно древнему человеку ему мало нарисовать бизона на стенах своей «пещеры», и человека мало. Ему необходимо изобразить мир таким, чтобы самому поверить в правдивость изображенного, и вот он считает шаги, измеряет путь своих героев, указывает места действия, стремится к топографической точности, стремится иметь прототипы (прототипы не толкают его к изображению, а изображение ищет прототипы, чтобы увериться в своей достоверности: это все равно что отражение в зеркале ищет отраженного).
Но и этот мир не кажется достаточно безопасным. И вот начинается антиреализм – он начинается в импрессионизме с его половиной стога, четвертью Руанского собора, с его уверением зрителя в том, что есть только внешность предмета, но нет самого предмета. Краски уверяют зрителя – нет за ними ничего, есть только мерцание, освещенные плоскости, да плоскостей нет, есть только цвета, пятна – где-то в глазах. Мира нет, человека нет. Это тоже борьба с миром. Тоже безопасная «модель мира». И совсем уже разрушают мир кубизмы разных толков, абстракционизм и пр., и пр. Возникают антигазеты, антистихи, антитеатр и театр абсурда. Само искусство пугает, как пугает действительность. Где остановиться? Где получить передышку? Где уничтожить смерть? Само уничтожение смерти начинает пугать как действительность.
Если тысячелетиями в древнем мире курган был символом старого искусства, искусства борьбы с временем, то в весь новый период символом нового искусства становится крест. Крест, который ставят на могилах или над церковью. Крест растворяет человека в мире. Его концы направлены во все стороны: вверх, в стороны и вниз – в землю.
Искусство стремится стать крестом, растворяющим, рассеивающим, раздвигающим мир. Крест – символ борьбы со смертью (в христианстве – символ воскресения).
Что такое для меня балет? Прежде всего танец. Не пантомима, не пластические упражнения, не «живые картины», не «художественная гимнастика»! И праздник! Поэтому я не люблю нового балета. Не люблю балета на реалистические сюжеты. Сюжетами для балетов всегда брались сказки, легенды; всегда прошлое – не современное: «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Корсар», «Щелкунчик», «Конек-Горбунок» и т. д. И еще музыка в балете для танца, а танец вовсе не должен пояснять и интерпретировать музыку. Поэтому танцы на классические музыкальные произведения представляются мне верхом безвкусицы. Музыка есть музыка, и ее нельзя переводить в какие-то зрительные образы.
В годы своего студенчества я часто посещал Филармонию и встречался с И. И. Соллертинским. Однажды мой знакомый сказал при Соллертинском, что он видит в исполнявшемся новом музыкальном произведении «шаг верблюдов». Соллертинский поднял его на смех и часто называл такое «видение» музыки «верблюжачьим».
И вот теперь мне хочется повторить слова, принадлежащие прекрасной балерине К. М. Тер-Степановой: «С болью в сердце сознаешь, что балет Кировского (Мариинского) театра, являвшийся всегда гордостью и славой русского искусства, эталоном, образцом, на который равнялись коллективы страны и мира, свой авторитет постепенно утрачивает». В том же письме ко мне К. М. Тер-Степанова писала: «Незачем перечислять балеты, родившиеся именно на нашей сцене и ставшие классикой русского, а затем и советского балетного искусства. Последние же примеры (письмо писано в 1982 году) – отнюдь не академического качества. И это не случайно. Что касается балета „Ревизор“ (балетмейстер О. Виноградов), то если к оценке этого спектакля, с его достоинствами и недостатками, подходить с точки зрения спектакля хореографического, то он просто не выдерживает критики. Говорить о новаторстве тоже не приходится, – подобное, только более талантливое, уже было и прижилось (к сожалению) на нашей сцене. И совсем не обязательно быть артистом балета Кировского театра, кончившим хореографическое училище, тем более ленинградское, чтобы исполнять этот спектакль», состоящий, добавлю, главным образом из синхронных гимнастических упражнений.
Если бы только новые приемы подобного рода хореографии ограничивались новыми постановками! Но идет постепенный пересмотр классического балетного наследия. Нет сознания, что произведения балетного искусства также должны охраняться законом об охране памятников. «Жизель», бывшая для всего мира эталоном хореографии и исполнительства, безжалостно испорчена. В своем письме К. М. Тер-Степанова напоминает слова Ю. Слонимского: «Мы должны быть бдительны, не позволяя „улучшать“ шедевры классического наследия». И это задача прежде всего Академического Кировского театра. Опыты и эксперименты могут производиться в таких балетных коллективах, как «Хореографические миниатюры», «Ансамбль балета», «Мюзик-холл» и пр. «Высокий профессионализм, академичность, чувство меры, стиля, благородство, тонкость, культура исполнения, актерская глубина всегда являлись отличительными чертами ленинградской манеры исполнения. Немало случаев, когда даже Большой театр пополнял свои ряды лучшими представителями ленинградской школы», – пишет К. М. Тер-Степанова.
Хочется провести одну возможную аналогию. В городах всего мира основная задача главного архитектора города состоит не в том, чтобы строить больше других, а сдерживать архитекторов, сохранять лицо города. В балетном театре нужно также различать функции художественного руководителя (главного балетмейстера) и балетмейстеров-постановщиков. Задача первого – сохранять классическое наследие, «художественную форму» театра, задача других – обогащать театр новыми постановками. Главный балетмейстер не должен быть главным постановщиком и переделывателем классических спектаклей.
Вахтангов говорил: «хорошо сохранившийся труп» – о дурных, застарелых традициях. Однако классический балет – не традиция этого типа. Ее нельзя менять, обновлять. Это особого рода искусство – как, скажем, в изобразительном искусстве есть живопись маслом, но есть и графика. Классический балет не заменим новыми приемами пластики. Его можно отменить приказом, но нельзя обновить – как, скажем, графику масляной живописью.
Ужасной пошлостью веет от балетов, да и вообще от спектаклей, где выводится Пушкин и Наталья Николаевна.
Лев Толстой, не признававший театр и пародийно изобразивший театральное представление, вдруг увидел бы «Анну Каренину», поставленную как балет. Танцующая Анна! Да разве это Анна? Ведь смотреть это все может только человек, совершенно не знающий о том, как должна была бы вести себя Анна! Ведь изящество и аристократическая элегантность Анны ничего общего не имеют с балетными.
Единственная область искусства, где модернизм кажется мне невозможным, – это балет. Он весь традиционен. Утрата традиционности и условности формы ведет к гибели балета как искусства. Балет станет зрелищем вроде фигурного плавания, ревю, цирковых выходов, только хуже.
«Ревизор» без слов – все равно что Рембрандт без красок (о балете «Ревизор»). Можно, конечно, но зачем? (То есть можно, но зачем ставить балет на тему «Ревизора»?)
Анна Павлова редко делала больше двух-трех пируэтов. Ее искусство было не в технике; не в том, что она делала, а как.
С исполнением созданного для нее в 1905 году Михаилом Фокиным «Умирающего лебедя» была связана ее мировая слава. А ведь танец этот очень несложный: pas de bourée и плавное движение рук. Но как она его исполняла. Она гастролировала в 44 странах, проделала 350 000 миль, выступала перед публикой, которая часто перед тем ни разу не видела балета. Она умерла 23 января 1931 года, прошептав перед смертью: «Приготовьте мне одеяние Лебедя».
Границы между различными великими стилями всегда нечетки, и великие произведения часто возникают именно в пограничной полосе: примеры тому Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский… и т. д. То же в архитектуре (Ринальди), в живописи (К. Брюллов), в театре и пр., и пр.
Круг, нарисованный от руки, производит впечатление более круглого, чем круг, изображенный циркулем. Потому, может быть, что небольшие неточности заставляют смотрящего активнее относиться к кругу, исправлять круг, энергичнее его воспринимать.
Михай Зичи делал иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (литографии, 1853 год). Русские в этих иллюстрациях одеты по-венгерски, а половцы – по-турецки (Зичи – венгр, долго работавший в России). Поразительный по безвкусице этюд М. Зичи второй половины 1870-х годов – «Аутодафе»: сжигают красивую молодую женщину в очень соблазнительном виде (спиной, обнаженная и с «формами»).
Витражи часто бывали так высоко, что их нельзя было разглядеть.
Фриз Пантеона в Афинах, когда он был не в Британском музее, а на своем месте, тоже был «невидим» для зрителя.
Следовательно, архитекторы, скульпторы, витражисты и фрескисты творили для Бога, для правды, а не для зрителя, который часто не мог разглядеть детали.
Игорь Стравинский даже о современной публике говорил (в «Диалогах». М., 1971, с. 288), что она «предпочитает узнавание познаванию». Это согласуется с тем, что он замечает дальше: «Настоящим делом художника и является ремонт старых кораблей. Он (художник) может повторить по-своему лишь то, что уже сказано» (с. 302). Следовательно, старое отношение к искусству живет даже в современности.
Произведения искусства существуют вне времени. Но для того, чтобы ощутить их вневременность, необходимо понять их исторически. Исторический подход делает произведения искусства вечными, выводит за пределы своей эпохи, делает их понятными и действенными в наше время. Это – на грани парадокса.
Пикассо в интервью Мариусу де Зайас в 1923 году говорил: «Все, что я когда-либо делал, я делал для настоящего и с надеждой, что оно всегда останется настоящим» (Robin Duthy. Picasso’s prints – Connoisseur, 1983, February).
Все искусства – это одно искусство. Все науки – это одна наука. Поэтому талантливый в одном – талантлив и в другом (Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ломоносов). Удивительно, что гениальные балерины и художники – прекрасные писатели (Коровин, Карсавина, Петров-Водкин, А. Бенуаи др.).
Б. М. Эйхенбаум в статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя» пишет, что гротеск требует замкнутости произведения, его отгороженности от остального мира (с. 322 в кн. «О прозе»). «Миргород – фантастический гротескный город, совершенно отгороженный от всего мира».
Но то же в иконе. Мир иконы – мир не похожий на остальной мир. Поэтому икона вещь (картина на холсте не вещь, а изображение), она имеет лузгу и поля, ее композиция замкнута и насыщена, нет воздуха, свободного пространства, которое могло бы соединиться с остальным миром.
Здесь действует «закон цельности изображения», типичный для древнерусской литературы.
Некоторые книги, прочитанные мною еще в молодые годы, запали мне в душу, хотя и автор неизвестный и тема иногда странная. Запомнилась мне книга (вернее – брошюрка) какого-то Селиванова «Душа вещей», изданная в начале века где-то в Рязани или другом провинциальном старинном русском городе. Автор утверждает, что вещи имеют душу, волю, привязанности, заставляющие их после многих скитаний по магазинам, перепродаж вернуться в семью их прежних хозяев. Он приводит множество примеров о том, как вещи возвращались… Имеют ли вещи душу – все-таки остается неясным, но ясно другое: душевное отношение хозяев к фамильным креслам, столам, бюро и т. д. Вещи связаны тысячами воспоминаний с их прежними владельцами, с теми, кто ими просто пользовался. Вещи учреждений не менее замечательны в этом отношении, чем вещи фамильные.
Но вещи можно любить и за их красоту, за то, что их делали мастера с любовью, тщательно, умно, с выдумкой, а иногда и улыбкой. «Улыбающиеся семейные предметы» – в них что-то бывает диккенсовское, из «Пиквикского клуба» (рассказ старого кресла).
Интересные сведения о красном дереве (mahogany) я прочел в одном английском издании. Оказывается, в XVII веке красное дерево ценили за его чудный запах. Об этом писал в 1672 году Richard Blome в книге «Description of Jamaica» («Описание Ямайки»). Описав разные сорта столярного дерева, он отметил, что в деревянных изделиях можно отметить «many other excellent sweet smellings» («много других превосходных сладостных запахов»). К «красному дереву» принадлежат многие породы деревьев. Вообще, надо сказать, запахи ценились два-три столетия назад больше, чем сейчас: запахи цветов, едва уловимые запахи обработанного дерева и пр. Петр I приказывал сажать в первую очередь душистые цветы, а по дорожкам, вместо того чтобы посыпать их гравием, сажать мяту, которая пахнет, когда по ней ходишь («мнешь» ее). Технические качества красного дерева (прочность, сопротивляемость переменам температуры, возможность делать «cabriole legs» («витые ножки»), изогнутые ручки и пр.) первыми оценили испанцы. Они употребляли его в кораблестроении, а потом в своих домах и в церквах в американских владениях. В Европе красное дерево впервые стали употреблять англичане для маркетри. Ввозили дерево с Ямайки и из Гондураса. Лучшее дерево по крепости и фактуре добывали в горах. Первое по качеству дерево считалось с Ямайки, оттуда ввозилось дерево с начала и до середины XVIII века (точнее, до 1780 года), пока его запасы не уменьшились. В XVIII веке дерево ценилось в столярных работах за эстетические качества: во-первых, это дерево экзотическое, во-вторых, хорошо полируется, красива поверхность, цвет, слои (при использовании его для фанеровки), прекрасно годится для резьбы.
В русском военном флоте столяры часто делали мебель из массива. Красное дерево во флоте было относительно доступнее, и необходима была в первую очередь прочность. Нашей семье досталось бюро героя Севастопольской обороны адмирала Истомина. Оно стояло у него в каюте. Внизу – три ящика для белья. В средней части – выдвижной письменный столик с ящичками для письменных принадлежностей. Выше – буфет и книжный шкаф. Сверху была раньше решеточка, чтобы не съезжало во время качки или парусного крена что-то, что можно было класть на бюро сверху. Бюро имеет «модные» для пятидесятых годов формы (закругленные углы), но невероятно тяжелое, так как сделано на совесть и из массива. Разумеется, никакого «пламени», достигавшегося при фанеровке красным деревом, в нем нет.
А о «пламени»: самое красивое «пламя» все же в мебели из орехового дерева. Ореховое дерево мягкое, ломкое (а потому редкое), но извивы «второго рокайля» в нем удаются превосходно. Орех – мое любимое столярное дерево в мебели. Это не значит, конечно, что я его собираю или оно у меня есть. Я любуюсь им главным образом в санатории Академии наук в «Узком». Там есть удивительное псише, работы фабрики Гамбса в Петербурге, столы и кресла. Боюсь, что и там их век не долог.
Еще о красном дереве. Испанский флот потерпел поражение у мыса Трафальгар, несмотря на все технические преимущества своих судов. И первое преимущество состояло в том, что он был в основном построен из крепчайшего красного дерева, тогда как английские суда – из дуба, а мачты и реи из сосны. Испанцы пользовались огромными запасами красного дерева, росшего на побережье Кубы и нынешнего Гондураса. На испанских верфях Гаваны было построено в XVIII веке около 300 кораблей. На строительство каждого уходило около 3000 деревьев, и около 40 сосен (росших в Мексике) для трехмачтового судна – для рей и мачт.
Самым сильным и самым крупным военным кораблем в Трафальгарской битве был испанский корабль «Сантисима Тринидад» («Святая Троица»), имевший 144 пушки – больше, чем какой-либо другой корабль в битве. Двойные и тройные залпы англичан не смогли потопить судна – пробить его борта из красного дерева, тогда как пушки «Тринидада» пробивали с близкого расстояния дубовые борта английских кораблей толщиной в метр. Команда «Тринидада» имела 1200 матросов и солдат морской пехоты. Команда же флагманского судна адмирала Нельсона – «Виктори» – всего 900 профессиональных моряков.
Почему же английский флот одержал победу над испанским? Главное – потому, что команды английских кораблей были дисциплинированнее и лучше профессионально обучены.
В Эдинбурге в 1967 году мне подарили замечательное воспроизведение картины Модильяни. Я спросил (а я старый типографщик): «На какой печатной машине оно сделано?» Мне ответили – на самой простой, XIX века. Но дело в том, что работали на этой машине настоящие мастера, очень тщательно и медленно, и корректуру цвета вели по подлиннику.
Вильям Блейк назвал Библию: «The Great Code of Art» («Великий код искусства»): без Библии нельзя понять большинство сюжетов искусства.
О скульптуре «Мать-Родина» в Киеве можно сказать: «Скульптура небольшая, но красивая» (меня поймут, кто видел).
Всем нравится «Медный всадник» Фальконе. Он один на весь город. Но вот уставьте Ленинград произведениями Фальконе – пусть даже на разные сюжеты, – их нe очень много: пять-шесть. Или пять-шесть монументов Козловского? Коней Клодта четыре, но это одна группа. А если бы Монферран воздвиг в нашем городе не одну колонну, а пять-шесть в честь разных событий? Нет уж, пусть ставят у нас в городе хорошие скульптуры, самые хорошие, но разные. А трижды воздвигнутый одним скульптором Пушкин – да ведь это убийство, еще раз совершенное.
Я всегда считал, что Айвазовский придумывал в море «красивости» или писал море таким, каким оно попросту не могло быть. Но вот в Варне я пошел посмотреть бурю на море рано утром. Солнце вставало, и большие валы катились к берегу, образуя гребешки. Потом разбивались о скалы. И вот, когда волна развивала гребень, она истончалась и сквозь нее было видно, как через зеленое стекло. Вода походила на уральский камень – оникс. В гребешке сияли бриллианты, которые разносил ветер. И я убедился, что свои «красивости» Айвазовский не придумывал. Единственная фальшь заключалась в том, что эти эффекты могли быть только рано утром или при закате. Он идеализировал море, совмещая несовместимое (внося эффекты, не свойственные времени дня). И в этом уже была большая его фальшь. Но ранние романтические картины Айвазовского хороши, полны настроения.
Написать работу «Эмблематика Древней Руси» (мне или кому-нибудь другому, если у меня не хватит сил).
Просмотреть Радзивиловскую летопись – змея, солнце и пр. – в миниатюрах. В «Слове о полку Игореве»: паполома, синее вино, вдеть ногу в стремя.
Эмблематика Древней Руси и близка, и не совпадает с эмблематикой западноевропейского Средневековья, обласканной исследователями и составителями справочников.
В Саратовском художественном музее имени Радищева есть картина Кустодиева «Троицын день». Что день на этой картине изображен праздничный – это видно сразу. Но почему Троицын день? Чинно идет купеческая семья. Впереди мать семейства с дочерью лет восемнадцати. Тут же стараются передать им цветы молодые люди, заглядывающиеся на девушку. Вдали на скамейке сидит дама, может быть купчиха, а рядом пожилая женщина в платке, из простых. Перед ними стоит с тросточкой, вероятно, муж дамы и прислушивается к разговору.
А вот что рассказывала мне мать. В Троицын день бывал обычно показ невест. Купеческие семьи с дочерьми (в Петербурге это бывало в Летнем саду) прогуливались по центральной аллее. Женихи стояли по бокам аллеи и высматривали невест. Тут же сновали свахи, которые объясняли – за какую невесту сколько и что дают в приданое. Именно этот показ купеческих невест, но в провинциальном городе, изобразил Кустодиев в своей удивительно праздничной картине.
Художник пишет пейзаж, натюрморт, портрет: он извлекает из всего этого красоту. Значит, в самой натуре (в природе, в человеке, в растении, в животном и т. д.) есть красота. Иногда эта красота даже не требует «извлечения»: цветы, бабочки, деревья, кристаллы, птицы. Эта красота на самой поверхности.
До какой степени люди в первой половине XIX века «зашифровывали» свои чувства. Вот браслет, изготовленный французским ювелиром около 1820 года. Первые буквы названия каждого из вставленных в него камней составляют слово «Amitié» (дружба): Amethyst (аметист), Malachite (малахит), Iacinth (гиацинт), Turquoise (бирюза), Iacinth (гиацинт), Emerald (изумруд). Тайная любовь? О ней знала только владелица браслета? От кого она могла его получить? Но представляю себе, с какой любовью она носила этот браслет.
Кому-то принадлежит мысль, что образование – враг художественного видения. И действительно, много пропадает, когда мы подумаем, что скрывается за пределами видимого: кости, мозг, сосуды, сухожилия и пр. И то же в отношении всех предметов и объектов природы. Но ведь для того, чтобы хорошо работать живописцу, надо знать анатомию. Если не знать анатомию лошади, то и создаются такие «конные памятники», какой поставлен в Новгороде в честь его освобождения. Значит, художник должен не только видеть, но и знать. Взыскательный зритель – тоже, но – забывать о своих знаниях в момент созерцания.
А вместе с тем знание прямым образом способствует эстетическому восприятию: знание мифологии, знание истории, стилей, биографий творцов, истории создания того или иного произведения, жизни произведения после своего создания и т. д. Роль знаний и самый тип знаний в разные эпохи различны. В Средние века и после до сегодняшнего дня (у профессиональных искусствоведов) огромную роль играет знание Священной истории (Библии, истории церкви). Начиная с эпохи Возрождения и в основном по первую половину XIX века необходимо было знание античной мифологии. Для буддистов – знание буддистской. Даже для восприятия произведений искусства примитивных народов необходимо было знание их мифов, их религии. Сейчас, в эпоху реализма, для восприятия произведений искусства большинство зрителей, слушателей и читателей ограничивается элементарными знаниями психологии, а при восприятии абстрактного искусства не нуждается и в этом. Ни в чем не нуждается…
Марк Ротко утверждает: «Только искусство может сделать переносимыми ужас и абсурдность бытия». Это крайне пессимистическое утверждение имеет, однако, некоторый смысл, во-первых, когда речь идет о происхождении искусства, и, вовторых, когда имеется в виду, что искусство вносит порядок в хаотичность наших представлений о действительности.
В самом деле, представления человека о мире должны упорядочиваться, приобретать некоторую систему. Человек вносит искусство в действительность, организует ее.