Читать книгу "Дикое счастье (сборник)"
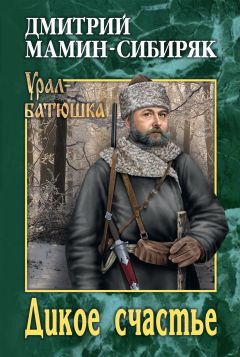
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава XIV
На другой день по приезде Лаптева, по составленному генералом маршруту, должен был последовать генеральный осмотр всего заводского действия.
Евгений Константиныч проснулся довольно поздно, когда на фабрике отдали свисток к послеобеденным работам. В приемных комнатах господского дома уже толклись с десяти часов утра все главные действующие лица. Платон Васильич с пяти часов утра не выходил с фабрики, где ждал «великого пришествия языков», как выразился Сарматов. Прейн сидел в спальне Раисы Павловны, которая, на правах больной, приняла его, не вставая с постели.
– Мне остается только поблагодарить вас за внимание… – говорила Раиса Павловна, запуская своему другу шпильку.
– Что же мне было делать, когда эта свинья сама залезла за стол! – оправдывался Прейн. – Не тащить же было ее за хвост… Вы, вероятно, слышали, каким влиянием теперь пользуется генерал на Евгения Константиныча.
– Но ведь тут маленькая разница: генерал или его метресса…
Прейн только поднял брови и развел руками.
– Что она такое, если разобрать… – продолжала Раиса Павловна волнуясь. – Даже если мы закроем глаза на ее отношения к генералу, что она такое сама по себе?
– Это черт, а не женщина – вот она что такое! – проговорил Прейн. – Представьте себе, она нравится Евгению Константинычу. Понятно, нравится не как женщина, а как остроумный и ядовитый человек.
– Я это знала раньше вас и могла только удивляться, как вы могли допустить подобную вещь…
– Как Пилат я могу умыть руки в этом деле с чистой совестью.
Раиса Павловна горько усмехнулась и с презрением посмотрела на Пилата.
– А в сущности, все это пустяки, моя дорогая, – заговорил торопливо Прейн, посматривая на часы. – Могу вас уверить, что вся эта история кончится ничем. Увлечение генералом соскочит с Евгения Константиныча так же скоро, как наскочило, а вместе с ним улетит и эта свинушка…
Надеждам и обещаниям Прейна Раиса Павловна давно знала настоящую цену и поэтому не обратила на его последние слова никакого внимания. Она была уверена, что если слетит с своего места по милости Тетюева, то и тогда Прейн только умоет руки во всей этой истории.
– Вы напейтесь кофе у меня, – предлагала Раиса Павловна, дергая сонетку.
– Мне, собственно, некогда… – завертелся Прейн, вынимая часы. – Евгений Константиныч проснулся и сейчас отправляется осматривать фабрики.
– Ничего, пусть подождет. У меня есть кое-что передать вам…
Пока Прейн пил чашку кофе с поджаренными сухариками, Раиса Павловна рассказала ему о происках Тетюева и компании, причем сделала предположение, что и поездка Лаптева на заводы, по всей вероятности, дело тетюевских рук. Прейн слушал ее внимательно, как доктор слушает рассказ пациента, и, прихлебывая из чашки кофе, после каждой паузы повторял свое неизменное «ага». Когда этот длинный рассказ был кончен, Прейн на минуту задумался и, повертев пальцем около лба, проговорил:
– Это для меня новость, хотя, собственно говоря, я и подозревал кое-что. Если это устроил Тетюев, то он замечательно ловкий человек, и чтобы разбить его, мы воспользуемся им же самим… Ха-ха!.. Это будет отлично… У меня есть свой план. Вот увидите.
– А я не могу узнать ваш план?
– Отчего же, с большим удовольствием! План самый простой: я постараюсь дать полный ход всем замыслам Тетюева, буду ему помогать во всем – вот и только.
Раиса Павловна онемела от изумления, а Прейн засмеялся своим неопределенным смехом.
– Я решительно ничего не понимаю… – проговорила она, стараясь угадать, не шутит ли Прейн. – Вы говорите серьезно?
– О, совершенно серьезно. Это будет замечательная комедия…
– Комедия, в которой дурой останусь я одна?
– Да нет же, говорят вам… Право, это отличный план. Теперь для меня все ясно, как день, и вы можете быть спокойны. Надеюсь, что я немножко знаю Евгения Константиныча, и если обещаю вам, то сдержу свое слово… Вот вам моя рука.
– Честное слово?
– Самое честное слово!.. Честное слово старого друга… Однако мне пора идти, меня ждут.
Поцеловав руку Раисы Павловны, Прейн быстро направился к двери, но вернулся с дороги и с улыбкой проговорил:
– А как насчет живности, моя дорогая? Ведь это одни из самых капитальных вопросов, а то мы можем соскучиться…
– Какие вы глупости говорите, Прейн! – улыбнулась Раиса Павловна уже с сознанием своей силы. – Mademoiselle Эмма, которую вы, кажется, немного знаете, потом Аннинька!.. и будет! У меня не воспитательный дом.
– Это какая Аннинька? Не та ли самая, которая стояла с вами в окне, когда мы въезжали на ослах?
Раиса Павловна ничего не ответила, а только загадочно улыбнулась неисправимому старому грешнику.
В это время прибежал лакей, разыскивавший Прейна по всему дому, и интересный разговор остался недоконченным. Евгений Константиныч кушали свой утренний кофе и уже два раза спрашивали Альфреда Осипыча. Прейн нашел своего повелителя в столовой, где он за стаканом кофе слушал беседу генерала на тему о причинах упадка русского горного дела.
– Насколько я успел познакомиться с горнозаводской промышленностью в Швеции… – перебивал несколько раз Перекрестов, седлая свой нос пенсне, но генерал не обращал на него внимания.
Летучий сидел уже с осовелыми, слипавшимися глазами и смотрел кругом с философским спокойствием, потому что его роль была за обеденным столом, а не за кофе. «Почти молодые» приличные люди сделали серьезные лица и упорно смотрели прямо в рот генералу и, по-видимому, вполне разделяли его взгляды на причины упадка русского горного дела.
– Где это ты пропадал? – спросил лениво Лаптев, когда Прейн занял свое место за столом.
– Делал маленький моцион по саду, – соврал Прейн, не моргнув глазом. – Мы сейчас отправляемся в завод, генерал?
– Да, – коротко отвечал генерал.
Вершинин и Майзель сидели с самыми благочестивыми лицами, как те праведники, для которых разгневанный бог мог пощадить целый город грешников. Они тоже намерены были сопровождать своего повелителя по тернистому пути. Сарматов вполголоса рассказывал Летучему какой-то, вероятно, очень скоромный анекдот, потому что сановник морщил свой тонкий орлиный нос и улыбался плотоядной улыбкой, открывавшей гнилые зубы.
До фабрики от господского дома было рукой подать, и Прейн предложил идти пешком, тем более что день был великолепный, хотя немного и жаркий. Когда вся компания вышла к подъезду, к ней присоединился Родион Антоныч, стерегший здесь свою позицию, чтобы кто не угостил барина проклятой «бумагой». Но ходоки от сельского общества были прогнаны казаками, и вся компания благополучно проследовала до ворот фабрики, где уже ждал Платон Васильич, взволнованный и бледный, с крупными каплями пота на лице. Фабричные корпуса и всевозможные печи выглядели сегодня по-праздничному, как и попадавшиеся рабочие и мелкие служащие. Все было на своем месте и при своем деле. Уставщики и надзиратели вытягивались в струнку, рабочие встречали барина без шапок. Даже вычищенные и смазанные машины, кажется, были готовы приветливо улыбнуться, если бы в них было устроено подходящее для такой цели колесо или вал.
– Вот мы и посмотрим все у вас, Платон Васильич, – тараторил Прейн, забегая вперед и весело здороваясь с рабочими. – Тут у меня много старых знакомых… Кум Елизарыч, Вавило да Гаврило, Спиридон…
Кум Елизарыч, осанистый, седой, плотный, с окладистой бородой старик, скоро был представлен вниманию Евгения Константиныча, который сказал ему несколько милостивых слов и спросил, сколько ему лет.
– Семьдесят, Евгений Константиныч! – ответил бодрый старик, перекладывая свое правило из руки в руку.
– А сколько лет служишь в заводе, кум Елизарыч? – допрашивал Прейн, похлопывая старика по плечу.
– Лет с шестьдесят наберется, Альфред Осипыч.
Кум Елизарыч был отчаянный плут и обдирал рабочих на каждом шагу, но, глядя на это старческое, открытое и убеленное благообразной сединой лицо, можно было умилиться. У Родиона Антоныча с кумом Елизарычем были вечные дела, и они не оставались в накладе от взаимных услуг. Вавило и Гаврило были знаменитые катальные мастера, бросавшие двенадцатипудовую рельсовую болванку на катальной машине с вала на вал, как игрушку; Спиридон, первый силач, работал у обжимочного молота. Рабочие любили Прейна, который умел обращаться с ними. В свои побывки на заводы он часто приглашал лучших мастеров к себе и пил с ними чай, не отказывался крестить у них ребят и задавал широкие праздники, на которых сам пил водку и любил слушать мужицкие песни. Конечно, это было немного, но этого немногого было совершенно достаточно, чтобы Прейна, никогда не сделавшего никакого добра рабочим, все любили, а молчаливого и бесцветного Платона Васильича, по-своему хорошо относившегося к рабочим и делавшего для них все, что от него зависело, не только не уважали, но готовы были ему устроить всякую пакость.
– Ведите нас в катальную фабрику, – предложил Прейн затруднившемуся, с чего начать, Платону Васильичу; он заметил уже, что Евгений Константиныч морщится и бредет по заводу только из приличия.
Собственно завод занимал широкую квадратную площадь, ограниченную с одной стороны плотиной, а с трех остальных – длинными зданиями фабричной конторы, механической, амбарами и высокой каменной стеной. По самой средине пробегала пенившаяся Кукарка. На площади там и сям валялись кучки песку, свежего доменного шлака, громадные горновые камни и полузаросшие свежей зеленой травкой сломанные чугунные шестерни и катальные валы, походившие издали на крепостные пушки. В дальнем углу виднелось несколько дровосушных печей, около которых, среди беспорядочно наваленных дровяных куч, пестрела голосистая толпа поденщиц-дровосушек; эта чумазая и покрытая сажей толпа с жадным любопытством провожала глазами барина, который прошел прямо в катальную. Визг и звонкий девичий смех как-то не вязался с этой суровой обстановкой дымивших доменных печей и подавленного грохота катальных машин, являясь каким-то диссонансом в этом царстве огня и железа. На дороге попалось несколько рабочих, очевидно, только что кончивших свою смену. Расстегнутые вороты пестрядевых рубах, сожженные, покрытые потом лица, бессильно опущенные с напружившимися жилами руки, усталая походка – все говорило о том, что они сейчас только вышли из огненной работы. У входа в катальную их встретил рабочий с зажженным пуком березовой лучины. На первый раз трудно было что-нибудь разглядеть в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, обжимочный молот в одном углу, темные стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями, в которые весело глядело летнее голубое небо и косыми пыльными полосами врывались солнечные лучи. В глубине корпуса около низких печей, испускавших сквозь маленькие окошечки ослепительный свет, каким светит только добела накаленное железо, быстро двигались и мелькали фигуры рабочих; на всех были надеты кожаные передники – «защитки», на головах войлочные шляпы, а на ногах мягкие пеньковые пряденики. Со стороны водяного ларя тянула холодная струя сквозного воздуха; где-то глухо капала вода и с подавленным визгом вертелось колесо, заставляя вздрагивать даже чугунные плиты, которыми была вымощена вся фабрика.
– Сейчас будут прокатывать рельс, – проговорил Платон Васильич, когда по фабрике пронесся пронзительный свист.
Старик-уставщик, сняв шапку, ждал у катальной машины.
– Пустите машину! – приказал Горемыкин.
Где-то глухо загудела вода, и за стеной грузно повернулось водяное колесо. Вся фабрика вздрогнула, и стальные валы катальной машины завертелись с неприятным лязгом и взвизгиванием. Сначала еще можно было различить их движения, а потом все слилось в одну мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, которое невольно заставляло думать, что вот-вот, еще несколько поворотов водяного колеса – и вся эта масса вертящегося чугуна, железа и стали разлетится вдребезги. В глубине корпуса показался яркий свет, который разом залил всю фабрику. Лаптев закрыл даже глаза в первую минуту. Двое рабочих, нагнувшись, бойко катили высокую железную тележку, на которой лежала рельсовая болванка, имевшая форму длинного вяземского пряника. Вавило и Гаврило встали по обе стороны машины, тележка подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое отверстие, обсыпав всех белыми и синими искрами. Лаптев не успел мигнуть, как вяземский пряник мягким движением, как восковой, вылез из-под вала длинной красной полосой, гнувшейся под собственной тяжестью; Гаврило, как игрушку, подхватил эту полосу своими клещами, и она покорно поползла через валы обратно. Не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах невыносимо жгло и палило лицо. Нельзя было не залюбоваться артистической работой знаменитых мастеров, которые точно играли в мячик около катальной машины. Оба высокие, жилистые, с могучими затылками и невероятной величины ручищами, они смахивали на ученых медведей. В этом царстве огня и железа Вавило и Гаврило казались какими-то железными людьми, у которых кожа и мускулы были допущены только из снисхождения к человеческой слабости.
Перекрестов вытащил из бокового кармана записную книжечку и что-то царапал в ней, по временам вскидывая глазами на Вавилу и Гаврилу.
– Этакие медведи! – восхищался кто-то.
После катальной посмотрели на Спиридона, который у обжимочного молота побрасывал сырую крицу, сыпавшую дождем горевших искр, как бабы катают хлебы. Тоже настоящий медведь, и длинные руки походили на железные клещи, так что трудно было разобрать, где в Спиридоне кончался человек и начиналось железо.
– Молодец! – похвалил Прейн своего фаворита.
– Теперь пойдемте смотреть новый маховик, – предложил Горемыкин, когда совсем готовый рельс был сброшен с машины на пол.
Маховик помещался в новом деревянном корпусе. Молодой машинист в запачканной блузе, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки масло в медную подушку маховика, который еще продолжал двигаться, поднимая ветер. Уставщик распорядился пустить воду, чтобы показать во всей красоте работу этого чудовища в тысячу пудов. Эффект вышел действительно поразительный, и Горемыкин смотрел на это чугунное детище глазами счастливого отца. Лаптев не мог разделять этого чувства и наблюдал вертевшееся колесо своими усталыми глазами с полнейшим равнодушием.
После рельсовой фабрики были осмотрены кирпичные горны и молоты, пудлинговые печи, печи Мартена, или Мартына, как их окрестили рабочие; затем следовал целый ряд еще новых печей: сберегающая топливо регенеративная печь Сименса, сварочные, литейные, отражательные, калильные и т. д. Осмотрены были водяные турбины, которые приводили в движение воздуходувные меха, пять паровых машин, механический корпус, где работали вертикальные и горизонтальные токарные станки, строившийся паровой молот и даже склады чугуна в штыках и припасах, железо во всевозможных видах: широкополосное, брусковое, шинное, листовое и т. д. Но Лаптева ничто не могло расшевелить, и он совершенно равнодушно проходил мимо кипевшей на его глазах работы, создавшей ему миллионы. Только под доменной печью, где нарочно для него был сделан выпуск, он долго и внимательно следил за выплывавшей из отверстия печи огненной массой расплавленного чугуна, которая красными ручейками расходилась по чугунным и вырытым в песке формам, время от времени, когда на пути попадалось сырое место или какая-нибудь щепочка, вскидывая кверху сноп ослепительно ярких искр.
– Да, красиво… – проговорил он точно про себя, тыкая горячий шлак тросточкой. – Теперь, кажется, все? – обратился он к Платону Васильевичу, и когда тот ответил утвердительно, он точно обрадовался и даже пожал руку своему главному управляющему.
– Нет, еще не все, – отозвался Прейн. – Мы сейчас едем на Медный рудник и спустимся в шахту.
Генерал был того же мнения, но Лаптев протестовал против такого решения и повернул к выходу, а за ним повернули и все остальные соглядатаи и приспешники. Они все время лезли из кожи, чтобы выказать свое внимание к русскому горному делу: таращили глаза на машины, ощупывали руками колеса, лазили с опасностью жизни везде, где только может пролезть человек, и даже нюхали ворвань, которой были смазаны машины. Генерал ничего не понимал в заводском деле и рассматривал все кругом молча, с тем удивлением, с каким смотрит неграмотный человек на развернутую книгу.
– Домой! – проговорил Лаптев, торопливо направляясь к выходу.
– Ага! – ответил Прейн.
Сотни любопытных глаз следили все время, как барин осматривал фабрики, и можно было подумать, что все стены и щели имели глаза.
Глава XV
Барин приехал. Что это был за человек – едва ли кто на Кукарских заводах знал хорошенько, хотя барину было уже за тридцать лет. На своих заводах Лаптев всего был раз, десятилетним мальчиком, когда он приезжал в Россию из-за границы, где родился, получил воспитание и жил до последнего времени. Впрочем, вся восходящая линия Лаптевых вела точно такой же образ жизни, появляясь в России наездом. Исключение представляли только первые представители этой семьи, которые основывали заводы и жили в них безвыездно. Это была крепкая мужицкая семья настоящих «расейских» лапотников: первым в родословном дереве заводовладельцев считался Гордей, по прозванию Лапоть.
Просматривая семейную хронику Лаптевых, можно удивляться, какими быстрыми шагами совершалось полное вырождение ее членов под натиском чужеземной цивилизации и собственных богатств. Хорошо сохранили основной промышленный тип, собственно, только два поколения – сам Гордей и его сыновья; дальше начинался целый ряд тех «русских принцев», которые удивляли всю Европу и, в частности, облюбованный ими Париж тысячными безобразиями и чисто русским самодурством. В Париже, Вене, Италии были понастроены Лаптевыми княжеские дворцы и виллы, где они и коротали свой век в самом разлюбезном обществе всевозможного отребья столиц и европейских подонков. Здесь они родились, получали воспитание и женились на аристократических выродках или знаменитостях сцены и demi-monde'a [16]16
Полусвета (франц.).
[Закрыть], пускали семя и в крайнем случае возвращались на родину только умереть. Некоторые из представителей этой фамилии не только не бывали в России ни разу, но даже не умели говорить по-русски; единственным основанием фигурировать в качестве «русских принцев» были те крепостные рубли, которые текли с Урала на веселую далекую заграницу неиссякаемой широкой волной. Эти мужицкие выродки представляли собой замечательную галерею психически больных людей, падавших жертвой наследственных пороков и развращающего влияния колоссальных богатств. Были тут жуиры и прожигатели жизни pur sang [17]17
Чистой крови (франц.).
[Закрыть], были меломаны, были чудаки по профессии, были меценатствующие «вельможи», антикварии, библиоманы и просто шалопаи. Единственная вещь, которую можно было бы поставить им в заслугу, если бы она зависела от их воли, было то, что все они догадывались скоро «раскланиваться со здешним миром», как говорят китайцы о смерти. За последние полтораста лет средняя цифра жизни этих магнатов не превышала сорока лет. Но и этого периода было совершенно достаточно, чтобы около каждого из Лаптевых выросла своя собственная баснословная легенда, где бессмысленная роскошь азиатского пошиба рука об руку шла с грандиозным российским самодурством, которое с легким сердцем перешагивало через сотни тысяч в миллионы рублей, добытые где-то там, на каком-то Урале, десятком тысяч крепостных рук… Едва ли в европейской хронике, богатой проходимцами и набобами всяких национальностей, найдется такой другой пример, как подвиги фамилии Лаптевых, которые заняли почетное место в скорбном листе европейских и всесветных безобразников.
Последний из Лаптевых – Евгений Константиныч – был замечателен тем, что к нему никак нельзя было примениться. Даже такие люди, как Прейн, у которого на руках вырос маленький «русский принц» – и тот не знал хорошенько, что это был за человек. Вероятно, в часы раздумья, если они только находили на него, Евгений Константиныч сам удивлялся самому себе, так все в его жизни было перепутано, непонятно и непредвидимо. Когда еще он был бойким, красивым мальчиком, приспешники и приживальцы возлагали на него большие надежды, как на талантливого и способного ребенка; воспитание он, конечно, получил в Париже, под руководством разных светил педагогического мира, от которых, впрочем, не получил ничего, кроме органического отвращения ко всякому труду и в особенности к труду умственному. Юношей он прошел школу всех молодых набобов и в двадцать лет выглядел усталым, пресыщенным человеком, который собственным опытом убедился в «суете сует и всяческой суете» нашей общей юдоли плача. Но ведь каждый человек вносит с собой хоть какую-нибудь микроскопическую особенность, по которой его можно было бы отличить от других людей. Такой особенностью Евгения Константиныча служила уже упомянутая нами взбалмошность: никто не мог поручиться за его завтрашний день. По природе он не был ни зол, ни глуп, но отчасти воспитание, отчасти обстановка, отчасти грехи предков сделали из него капризного ребенка с отшибленной волей. Единственное, что еще он любил и мог любить, – это была еда и, между прочим, женщины, как острая приправа к другим мудреным кушаньям.
Поездка и даже окончательное переселение в Россию у Евгения Константиныча случились как-то вдруг, почти само собой, когда его обругала какая-то бульварная парижская газетка. Дворцы и палаццо, рассованные по разным укромным уголкам Европы, пошли с молотка вместе с фамильными редкостями, из которых можно было бы составить великолепный музей для назидания благодарного потомства. В числе распроданных редкостей, попавших в руки барышников и ростовщиков, находились такие замысловатые вещицы, как сахарница в пятнадцать тысяч франков, охотничья лядунка в двадцать тысяч, экран к камину в сорок и т. д.
Поселившись в России, которая для Лаптева заключалась в Петербурге, он неожиданно для всех задумал поездку на Урал.
«Большой двор», группировавшийся около заводовладельца, во главе имел всесильного Прейна, который из всех других достоинств обладал ничем незаменимым качеством – никогда не быть скучным. Кто он такой был сам по себе – трудно сказать, если только Прейн сам знал свою родословную. Впрочем, он никогда не чувствовал особенного пристрастия к историческим и генеалогическим изысканиям, вполне удовлетворяясь настоящим. Достаточно сказать, что у Лаптевых он был с детства своим человеком и забрал великую силу, когда бразды правления перешли в собственные руки Евгения Константиныча, который боялся всяких занятий, как огня, и все передал Прейну, не спрашивая никаких отчетов. Таким образом и руках Прейна сосредоточивались за последние двадцать лет все нити и пружины сложного заводского хозяйства, хотя он тоже не любил себя обременять усиленными занятиями. В качестве главноуполномоченного от заводовладельца Прейн года через три приезжал на заводы, проводил здесь лето и уезжал за границу. Он пользовался хорошей репутацией у служащих и у рабочих, хотя ни те, ни другие не видели от него большой пользы. Секрет заключался в том, что Прейн умел всех хорошо и ласково принять и наобещать гору. Заводские остряки по этому поводу говорили, что Прейна можно даже послать в лавочку за папиросами. Но вместе с тем податливый на обещания, Прейн с дьявольской ловкостью умел отвернуться от их исполнения, и поймать его в этом случае было крайне трудно. Каким был Прейн при крепостном праве, таким остался и после воли. Враги называли его глупым, друзья считали умным. Во всяком случае, положительного зла он не делал никому, хотя смотрел сквозь пальцы на многое, что мог заметить, но «не заметил он». Время на заводах Прейн обыкновенно проводил на охоте. Вообще, люди, близко знавшие Прейна, могли про него сказать очень немного, как о человеке, который не любил скучать, мог наобещать сделать вас завтра бухарским эмиром, любил с чаем есть поджаренные в масле сухарики, всему на свете предпочитал дамское общество… и только. Ко всевозможным переменам и пертурбациям в составе большого и малого дворов Прейн относился почти индифферентно, и его жизнь катилась вольно и широко, как плохая сама по себе, по дружно разыгранная на сцене пьеса.
Само собой разумеется, что в жизни «большого двора» Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и держался по возможности всегда в стороне от всяких происков и интриг. После него в состав «большого двора» входили служащие главной петербургской конторы как стоявшие ближе других к особе заводовладельца, этому источнику заводского света: управляющий конторой, заведующий счетной частью и т. д. Далее, в состав «большого двора» в качестве «случайных» попадали всевозможные люди, удовлетворявшие минутным прихотям Лаптева и умевшие угодить его капризам. Это был странный сброд вроде сановника не у дел Летучего, корреспондента Перекрестова и т. д. Под эту же рубрику подходили разные женщины, умевшие на время удержаться на покатой плоскости прихотливой барской натуры, как танцовщица Братковская и другие дамы и полудевицы этого разбора. Такие дельцы, как Раиса Павловна или Нина Леонтьевна, в силу своих физических особенностей уже не могли иметь прямого значения, а должны были довольствоваться тем, что выпадало на их долю из-за чужой спины.
Неожиданно для всех воссиявшая звезда генерала Блинова представляла собой в жизни большого и малого двора такое исключение, которое составляло неразрешимую задачу для большинства. Подозревали, что генерал был создан совместными усилиями Тетюева и Нины Леонтьевны, жаждавшими вкусить от заводского пирога и спровадить Раису Павловну. Вообще, вся интрига была задумана и приведена в исполнение с дьявольской ловкостью. Сам генерал, во всяком случае, не был виноват ни душой, ни телом в той роли, какую ему пришлось разыгрывать. Между тем все дело, как и многое другое на свете, объяснялось очень просто: Тетюев воспользовался теми недоразумениями, которые возникали между заводоуправлением и мастеровыми по поводу уставной грамоты, тиснул несколько горячих статеек в газетах по этому поводу против заводов, и когда Лаптев должен был узнать наконец об этом деле, он ловко подсунул ему генерала Блинова как ученого экономиста и финансовую голову, который может все устроить. Лаптев схватился за брошенную ему приманку и сейчас же решил ехать на Урал с генералом сам. Истинные свои цели Тетюев, конечно, скрыл от доверчивого генерала с большим искусством, надеясь постепенно воспользоваться им. Генерал, со своей стороны, очень горячо и добросовестно отнесся к своей задаче и еще в Петербурге постарался изучить все дело, чтобы оправдать возложенные на него полномочия, хотя не мог понять очень многого, что надеялся пополнить уже на самом месте действия.
На третий день своего приезда в Кукарский завод генерал через своего секретаря пригласил к себе Прозорова, который и заявился к однокашнику в том виде, в каком был, то есть сильно навеселе.
– Давненько мы с тобой не видались, Виталий Кузьмич… – говорил генерал, обнимая Прозорова.
– Да… давненько, ваше превосходительство… – ядовито отвечал Прозоров, оглядывая сановитую, представительную фигуру бывшего однокашника.
– Ты остался такой же занозой, каким был раньше, – ответил генерал на эту колкость. – Я надеюсь, что мое превосходительство нисколько не касается именно тебя: мы старые друзья и можем обойтись без чинов…
– Прикажете называть Мироном Геннадьичем?
– Я вообще не люблю приказывать кому-нибудь, а тебе в особенности… Перестань разыгрывать комедию, душа моя. Этакая у тебя дьявольская привычка!..
– Полюбите нас черненькими, Мирон Геннадьич…
Генерал пожал плечами и зашагал по кабинету. Он любил Прозорова, но теперь перед ним была только тень прежнего товарища. Обоим было одинаково тяжело. Генерал хотел выйти из затруднительного положения старым дружеским тоном, Прозоров – дерзостями.
– А я так рад был видеть тебя, – заговорил генерал после длинной паузы. – Кроме того, я надеялся кое-что разузнать от тебя о том деле, по которому приехал сюда, то есть я не хочу во имя нашей дружбы сделать из тебя шпиона, а просто… ну, одним словом, будем вместе работать. Я взялся за дело и должен выполнить его добросовестно. Если хочешь, я продался Лаптеву как рабочий, но не продавал ему своих убеждений.
В коротких словах генерал передал Прозорову значение своей миссии и те цели, которых желательно было достигнуть; причем он не скрыл, что его смущает и в чем он нуждается.
– Ты, кажется, уж давненько живешь на заводах и можешь в этом случае сослужить службу, не мне, конечно, а нашему общему делу, – продолжал свою мысль генерал. – Я не желаю мирволить ни владельцу, ни рабочим и представить только все дело в его настоящем виде. Там пусть делают, как знают. Из своей роли не выходить – это мое правило. Теория – одно, практика – другое.
Прозоров все время осматривал кабинет генерала, напрасно отыскивая в нем что-то, что ему было нужно, и наконец проговорил:
– Вот что, Мирон Геннадич, прикажите-ка подать водочки… Тогда поговорим о разных разностях.
Генерал поморщился, но позвонил и велел лакею подать водки. Эта неделикатная выходка Прозорова задела его за живое, но он еще раз сдержал себя и заговорил размеренно-спокойным тоном, как говорил на кафедре:
– Я – поклонник Кэри и отчасти Мальтуса… Не будем говорить о тех абсурдах, которые стараются вывести из их систем, но возьмем только самую сущность. Нам приходится иметь дело именно с ними, когда вопрос зайдет, с одной стороны, о покровительственной системе, и второе – когда мы коснемся рабочего вопроса. Да… важно иметь определенную, строго выработанную систему, от этого зависит все. По моему мнению, даже известные ошибки, как необходимая дань всякого практического применения теорий, могут иметь оправдание только в том единственном случае, если они явились как результат строго проведенной общей идеи.
После этого вступления генерал очень подробно развил основания своей собственной системы. «Кульминационный пункт, основная точка, операционный базис» этой системы заключался в виде капиталистического производства, которая должна строго преследоваться как во внутреннем строе, так и во внешней обстановке. Конечно, утопистам и мечтателям в принципе капитализма грезится призрак всепоглощающей привилегии, которая из трудящихся классов создает самый безвыходный пролетариат, но это несправедливо, если на дело взглянуть беспристрастно. Именно: один и тот же капитал, если он разделен между несколькими тысячами людей, почти не существует, как экономическая сила, тогда как, сосредоточенный в одних руках, он представляет громадную величину, которою следует только воспользоваться надлежащим образом. В данном случае именно по отношению к заводовладельцу было бы смешно остановиться на том выводе, что он воспользуется своей силой во вред своим рабочим. Наоборот, по коренному свойству человеческой природы можно предположить, что по мере увеличения силы заводовладельца будет возрастать благосостояние его рабочих, потому что именно здесь их интересы совпадают. Логика – самая простая: лучше заводам – лучше заводовладельцу и рабочим, тем более что с расширением производства будет прогрессировать запрос на рабочие руки. Кажется, ясно? Это – относительно, так сказать, внутренней политики; что же касается до внешних отношений, то здесь вопрос усложняется тем, что нужно говорить не об одном заводе, даже не о заводском округе, даже не об Урале, а вообще о всей нашей промышленной политике, которая постоянно колебалась и колеблется между полной свободой внешнего рынка и покровительственной системой в строгом смысле слова. Можно сказать вполне утвердительно, что эти колебания во взглядах правительства до сих пор самым пагубным образом отражались на всей русской промышленности, а на горной в особенности. Строго проведенная покровительственная система является в промышленной жизни страны тем же, чем служит школа для каждого человека в отдельности: пока человек не окреп и учится, ясное дело, что он еще не может конкурировать со взрослыми людьми; но дайте ему возможность вырасти и выучиться, тогда он смело выступит конкурентом на всемирный рынок труда. Вот именно такой школы до сих пор и недоставало русской промышленности, и наша задача – ее создать. В этом случае нельзя не соглашаться с выводами Кэри, который отстаивает покровительственную систему.






























