Текст книги "Рождение богов (сборник)"
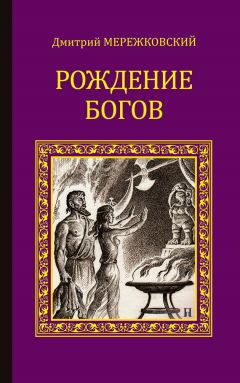
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
– Прочь с глаз моих, сын Козла смердящего, убью!
Иссахар, закрыв лицо руками, выбежал вон из дома.
Бежал темной улочкой, спотыкался, падал, вставал и снова бежал, обуянный ужасом.
Только за воротами Шэола опомнился. Рядом с ним бежал Нааман и что-то говорил ему, но он долго не мог понять что; наконец понял:
– В Козью пещеру бежим, там переночуем!
Узкою тропинкой-лесенкой, вырубленной в круче скал, поднялись из котловины Шэола на гору, в степь. Вдали красной точкой замигал огонек. Пошли на него. Злые овчарки с паучьими мордами кинулись на них с лаем. Старый пастух вышел им навстречу, отогнал псов, низко поклонился, приветствуя Наамана по имени, – видимо, ждал гостей, – и повел их в пещеру у самого обрыва над Шэолом.
Двое молодых пастухов, сидевших у костра в пещере, среди спавшего стада коз и овец, встали, тоже низко поклонились, подбросили хвороста в огонь, постлали овечьи меха, пожелали гостям доброй ночи и вышли со стадом.
Иссахар и Нааман сели у огня.
«Люди рождаются на страданье, как искры пламени, чтоб устремляться вверх», – вспомнил Иссахар слова Ахирама, глядя на искры в дыму, и подумал: «Завтра Элиав узнает все и простит, полюбит меня!»
Лег и, только что закрыл глаза, начал спускаться по темным, подземным ходам в Нут-Амоново святилище бога Овна; шел-шел и все не мог дойти – заблудился. Красной точкой вдали замигал огонек. Он пошел на него. Точка росла, росла и выросла в красное, на черном небе, солнце. Кто-то стоял под ним, в белой одежде, с тихим лицом, как у бога, чье имя: «Тихое Сердце». Тихий голос сказал: «Ты, Отец, в сердце моем, и никто Тебя не знает, – знаю только я, Твой сын!» – «Проклят обманщик, сказавший: я – Сын!» – закричал Иссахар и, выхватив нож из-за пояса, хотел ударить. Но увидел красную, по белой одежде льющуюся кровь. «Воззрят на Того, Кого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о сыне», – вспомнил пророчество, выронил нож и упал к ногам Пронзенного, с воплем: «Кто ты?»
– Ахирам, дядюшка твой, а ты думал кто? Да ну же, проснись, сынок! – услышал он голос Ахирама и проснулся.
– Что с тобой, Рыженький? Сон дурной приснился, что ли? – говорил старик, ласково гладя его по голове. – А вот и пропуск!
Вынул из-за пазухи и подал ему глиняную дощечку: рядом с царскою печатью, солнечным кругом Атона, стояло наверху число месяца, а внизу – подпись: «Тутанкатон».
Иссахар взял дощечку и смотрел на нее, все еще дрожа так, что зуб на зуб не попадал.
– Камешек давай! – сказал Ахирам, взглянув на него подозрительно: как бы не отказался от платы.
Иссахар вынул из мошны и подал ему камень.
– Да что ты как испугался? Аль раздумал? Не пойдешь? – спросил старик.
– Нет, пойду, – ответил Иссахар.
VI
– Бедная царица! Когда болит у бога живот, делать ему припарки, ставить промывательные и все-таки верить, что царь – бог, не так-то легко! – смеялся старый вельможа Айя.
Тута, большой любитель острых слов, однажды, в минуту откровенности, передал Дио эту шутку, и часто она вспоминала ее, глядя на царицу Нефертити.
В двадцать восемь лет, мать шестерых детей, все еще она была похожа на девочку: тонкий девичий стан, чуть выпуклая грудь, узенькие плечи, выступающие на ключицах косточки, шейка тонкая, длинная, – «как у жирафа», шутила сама. Под высоким, ведроподобным царским кокошником, низко надвинутым на лоб, так что не видно было волос, детски нежною казалась округлость лица; в слишком короткой верхней губке, слегка выдававшейся над нижней, была детская жалобность; в черных, без блеска, огромных глазах с чуть-чуть косым разрезом, с тяжело опущенными веками и как бы внутрь смотрящим взором – бездонно-тихая грусть.
Вся настороженная, как будто к чему-то внутри себя прислушалась и так замерла; вся неподвижная, как стрела на тетиве, или слишком натянутая, но еще не зазвеневшая струна: зазвенит – оборвется. Раненная насмерть и скрывающая рану свою ото всех.
Дочь митаннийской царевны Тадухипы и египетского царя Аменхотепа Третьего, царица Нефертити была сводною сестрою царя Ахенатона; цари Египта, сыны Солнца, чтобы сохранить чистоту солнечной крови, часто женились на сестрах своих.
Царь и царица были так схожи, что в юности, когда мальчик и девочка одевались почти одинаково, люди с трудом различали, кто он, кто она. Та же прелесть была в обоих, слишком томная, как в едва расцветшем и уже от зноя никнущем цветке.
Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлелеянный, —
вспоминала Дио песнь о боге Таммузе умершем, глядя на плоское стенное изваяние царя и царицы в одной из дворцовых палат, где изображены они были сидящими рядом на двойном престоле: левой рукой обняла она стан его, правую – вложила в руку его, пальцы в пальцы, и облики их сливались так, что почти не видно было ее из-за него: он – в ней, она – в нем. Как сказано было в песне Атону:
Господи, прежде сложения мира
Волю свою открыл ты сыну своему,
Ахенатону Уаэнра,
И дочери своей возлюбленной,
Нефертити, Прелести-прелестей-солнечных,
Цветущей во веки веков!
«Розно любить их нельзя, можно только вместе – двух в одном», – это Дио сразу поняла.
После пляски в день рождества Атонова получила она сан главной опахалоносицы одесную благого бога-царя и, покинув Тутину усадьбу, поселилась во дворце, в отведенном ей покое женского терема, недалеко от покоев царицы. С нею скоро сблизилась, но от царя отделяла ее какая-то преграда, ей самой непонятная.
Что он «не совсем человек», уже не боялась: через царицу узнала, что человек совсем. «Когда болит у бога живот», – в этой плоской шутке был глубокий смысл. И страх, испытанный ею на празднике Солнца от кощунственных слов о сыне божьем, царе Ахенатоне, в ней тоже потух: не все ли цари Египта называли себя сынами божьими?
Страха не было, но было то, что, может быть, хуже страха.
Осенью, бывало, во время охоты на Иде-горе, на острове Крите, в самый яркий, солнечный день вдруг наползал из горных ущелий туман, и червонное золото леса, синее небо, синее море – все тускнело, серело, и самое солнце глядело из тумана как мертвый рыбий глаз. «Что, если, – думала она, – глянет на меня и Радость-Солнца, Ахенатон, таким же рыбьим глазом?»
Каждый день плясала перед ним, и он восхищался ею. «Только плясунья, – больше никогда ничем я для него не буду», – говорила она себе со скукой – серым туманом в душе.
Целыми часами стояла за царским престолом, то подымая, то опуская медленно-мерным движеньем, по древнему чину, пышное, из страусовых перьев, на длинном шесте опахало. Иногда, оставшись с ней наедине, он вдруг оборачивался и улыбался ей с такой зовущей лаской, что сердце у нее замирало от ожидания: вот-вот заговорит, и падет преграда. Но молчал или говорил о пустом: спрашивал, не устала ли, не хочет ли присесть отдохнуть; или удивлялся, что так скоро научилась владеть опахалом, искусству более трудному, чем кажется; или, с шутливой любезностью за то, что она с ним, благословлял глупый древний обычай навевать зимою прохладу и отгонять мух, которых нет.
Однажды Дио рассказывала царице нехотя, только отвечая на расспросы, – не любила говорить об этом, – как, отмщая за человеческую жертву, свою любимую подругу, Эойю, убила она бога Быка на Кносском ристалище; как присудили ее за то на сожженье, и как спас ее Таммузадад, вавилонянин, взойдя за нее на костер.
Тут же был царь и слушал как будто внимательно. Когда Дио кончила, у царицы стояли слезы в глазах, а царь, точно вдруг очнувшись и взглянув на них обеих с тихою, странною улыбкою, пробормотал, спеша и волнуясь, повторяя одни и те же слова, как это часто делывал:
– Брить не надо! Не надо брить!
Это было так некстати, что Дио испугалась, подумала, не болен ли он. Но царица спокойно улыбнулась, положила руку на голову ее и сказала:
– Нет, ни за что не будем брить: жалко таких чудесных волос!
Только тогда вспомнила Дио, что намедни спрашивала царицу, не сбрить ли ей волосы, чтобы, по здешнему обычаю, надеть парик.
Царь тотчас после этих внезапных слов о бритье вышел, а царица, как будто извиняясь за него, сказала, что он в последние дни не очень здоров.
Долго Дио не могла забыть, как в ту минуту мелькнуло перед ней Гэматонское дряхлое страшилище – глянуло солнце сквозь туман – «рыбий глаз».
А в тот же день вечером, оставшись с ней наедине, он вдруг встал, положил ей руки на плечи и приблизил лицо к лицу ее, как будто хотел поцеловать, но не поцеловал, а только улыбнулся так, что сердце у нее замерло: вспомнился мальчик, похожий на девочку, с тихим-тихим лицом, как у бога, чье имя «Тихое Сердце».
Снится иногда человеку райский сон, как будто душа его во сне возвращается на свою небесную родину, и долго, проснувшись, не верит он, что это был только сон, не может привыкнуть к земной чужбине и все томится, грустит: такая грусть была в этом лице. Длинные ресницы опущенных, как бы сном отяжелевших век казались влажными от слез, а на губах была улыбка – след рая – небесная радость сквозь земную грусть, как солнце сквозь облако.
– Давеча я слышал все, только не хотел при ней говорить: об этом нельзя говорить ни с кем. Ведь ты это знаешь? – сказал он, глядя на нее все с той же улыбкой.
– Знаю, – ответила Дио.
– Милая, как хорошо, что ты пришла, как я тебя ждал!
Еще приблизил лицо к лицу ее, так что губы их почти слились.
– Любишь? – спросил детски просто.
– Люблю, – ответила она так же просто.
И в том, что он ушел, не поцеловав ее, была радость райского сна.
На следующий день, одиннадцатый после рождества Атонова, Дио стояла с опахалом за царицыным креслом, в дворцовой палате Разлитья, изображавшей половодье Нила.
Утренне-зимнее солнце светило сквозь тающий пар облаков в четырехугольное отверстие потолка, украшенного фаянсовым плетеньем виноградных лоз с темно-красными гроздьями и темно-синими листьями. Роспись стенных изразцов изображала водяные цветы и растенья; в венцах столпов – связанных стеблей папируса, изваяны были дикие утки и гуси, висевшие вниз головами, – добыча ловитвы речной; а роспись пола изображала Нильскую заводь: между голубыми волнистыми линиями водной зыби плавали рыбы; в лотосной чаще порхали бабочки, взлетали утиные выводки, и тут же скакал, смешно задравши хвост, красно-пегий теленок. Все, как в утренней песне Атону:
Радостью радуется вся земля:
Всякий скот пасется на пастбище,
Всякий злак зеленеет в полях;
Птицы порхают над гнездами,
Подымают крылья, как длани молящие;
Всякий ягненок прыгает,
Всякая мошка кружится:
Жизнью твоею оживают, Господи!
Царь играл с шестью дочерьми: Меритатоной, Макитатоной, Анкзембатоной, Нефератоной, Неферурой и Зетепенрой. Старшей было пятнадцать, младшей – пять, а остальные – погодки. Когда становились они в ряд, на молитву, то гладко бритые головы их, с черепами яйцевидно-удлиненными, – «царские тыковки», – постепенно понижались, от большой к маленькой, подобно косому ряду дудочек в пастушьей свирели.
Четверо старших были в распашонках из прозрачного льна – «тканого воздуха», а две маленьких – совсем голые, с коричнево-смуглыми, тоненькими, как палочки, ручками и ножками, с тяжелыми золотыми кольцами в ушах и широкими на шеях ожерельями из расположенных лучами хрустальных и хризолитовых слез.
В играх участвовал и царский карлик Иагу из дикого племени пигмеев Уа-уа, жившего, подобно обезьянам, на деревьях, в болотных лесах Крайнего Юга. Росту в локоть с небольшим, кривоногий, толстопузый, черный, сморщенный, старый, страшный, как бог Бэс, первозданный урод; по виду свирепый, а на самом деле кроткий, как овца; чудесный плясун; вечная нянька царевен, любимец их и мученик; преданный слуга царского дома; за всех их вместе и за каждого в отдельности умер бы с радостью.
Сначала играли в «девять», прокатывая костяные шарики в камышовые дужки-воротца так, чтобы свалить сразу девять поставленных в ряд кегельков, деревянных куколок с гадкими рожами – девять враждебных Египту царей.
Потом ученый белый пудель Данг, с шапкой огненнокрасных перьев на голове и рубиновыми серьгами в ушах, ученик Иагу, скакал сквозь обруч и ходил на задних лапах, держа в передних военачальнический жезл, а на носу кусок антилопьего мяса, и не смея проглотить его, пока Иагу не вскрикивал: «Ешь!»
Потом, выйдя из палаты в зимний сад-теплицу с редкими заморскими цветами и водоемом, где плавали чаши лотосов, лепили из глины двух страшных уродов – вавилонского царя Буррабуриаша и сына его, царевича Каракардаша, который сватался за восьмилетнюю царевну Нефератону. Царь испачкался глиною так, что его должны были отмывать в водоеме.
Потом забавлялись с петухом, невиданной в Египте птицей, привезенной из Митаннийского царства. Смущенный, должно быть, долгим путешествием, он все угрюмо молчал, хохлился, но вдруг захлопал крыльями и закричал сегодня в первый раз так громко, что все испугались, а потом восхитились: «Настоящая труба!» – и начали ему подражать; царь – так неумело, что девочки смеялись над ним.
Потом, вернувшись в палату, играли в жмурки. Иагу поймал царя. Ему завязали глаза. Девочки прыгали, шмыгали под самым носом его, звенели систрами, топотали по полу босыми ножками, подражая молотящим волам, и пели песенку:
Ек-ек-ек!
Нынче свеженький денек.
Молотите, бычки.
Вы – лихие батрачки,
Потопчите гумно!
Будет каждому паек:
Вам солома, нам зерно!
Царь, неуклюже расставив руки, ловил пустой воздух или обнимал столпы. Наконец поймал Анки, двенадцатилетнюю Тутину супругу.
– Сдвинул, сдвинул повязку! – закричала она. – Вон левый глаз смотрит! Так нельзя мошенничать, авинька!
«Авинька» было уменьшительное от ханаанского слова «авва» – «отец».
– Нет, не сдвигал, сама сползла, – оправдывался царь.
– Сдвинул, сдвинул! – продолжала кричать Анки. – Я тебя знаю, авинька, ты ужасный плутишка! Что ж это за игра? Лови опять!
Завязала ему глаза покрепче, и он пошел снова ловить.
Пудель Данг, как бы тоже играя, ходил на задних лапах, держа в передних звенящий систр. Царь, думая по звуку, что это маленькая Зета – Зетепенра, быстро нагнулся и обнял Данга. Тот залаял и лизнул его языком в лицо. Царь испугался, закричал, присел на пол и оттолкнул его. Но тот опять подскочил, положил ему передние лапы на плечи и начал лизать, визжа от восторга.
Все захохотали, закричали:
– Поцеловался, авинька, с Дангом, побратался царь с песиком!
Царица тоже смеялась.
– Будет тебе махать, садись, отдохни, – сказала она, обернувшись к Дио, и та присела на подножку кресел.
– «Царство – детям», – вдруг вспомнила вслух слово царя, слышанное от маленькой Анки.
– «Царство – детям», – повторила царица. – А дальше знаешь как?
– Как?
– «Что самое божественное в людях? Слезы мудрых? Нет, смех детей».
– Так вот отчего детские ручки-лучики у бога Атона? – спросила Дио.
– Да, вся мудрость в этом: детское – Божье, – ответила царица, тихонько положила руку на голову ее и посмотрела ей прямо в глаза.
– Что ты сегодня какая хорошенькая? Уж не влюбилась ли? – сказала, улыбаясь.
«Совсем как он», – подумала Дио.
– Почему влюбилась? – спросила, тоже улыбаясь.
– Потому что девушки, когда влюблены, хорошеют особенно.
Дио покачала головой, покраснела, быстро нагнулась, схватила руку ее и начала целовать долго, жадно, как будто целовала его сквозь нее.
Вдруг почувствовала, что рука царицы вздрогнула. Подняла глаза и, увидев, что она смотрит на дверь, тоже взглянула туда. Там стоял великий жрец бога Атона, Мерира, сын Нехтанеба.
Дио поразило лицо его еще на празднике Солнца, и часто потом, вглядываясь в него, не могла она понять, привлекает ли ее или отталкивает это лицо.
Он был немного похож на Таммузадада: та же каменная тяжесть в обоих лицах; но в том – что-то жалкое, детское, а в этом – безнадежно-взрослое. Каменная тяжесть – в низко нависших бровях, в неподвижно-пристальных, но как будто слепых, глазах, в широких скулах, в крепко стиснутых челюстях и в крепко сжатых, как будто в вечной горечи запекшихся, губах, с постоянной готовностью к усмешке и невозможностью улыбки.
«Кто умножает познание, умножает скорбь», – вспоминала Дио слова Таммузадада, глядя на это лицо. «Все познать – все презреть; не проклясть, а только молча презреть – изблевать из уст», – как будто говорило оно. Если бы очень мужественный и твердо решившийся на самоубийство человек, выпив яду, спокойно ждал смерти, у него было бы такое лицо.
Из древнего рода Гелиопольских жрецов Солнца, когда-то пламенный ревнитель Амона, любимый ученик Птамоза, Мерира изменил ему и перешел в веру Атона. Царь очень любил его. «Ты один был послушен ученью моему, и никто, кроме тебя», – сказал ему при посвящении в сан великого жреца.
Мерира вошел в палату, когда царь сидел на полу, и пудель Данг, положив ему лапы на плечи, лизал его языком в лицо, а царевны хохотали, кричали:
– Поцеловался авинька с Дангом, побратался царь с песиком!
Должно быть, не заметив царицы, Мерира остановился в дверях и смотрел на царя пристально. Царица, чуть-чуть наклонившись и вытянув шею, смотрела на Мериру так же пристально, как тот – на царя.
– Мерира, Мерира! – вдруг вскрикнула она, и страх блеснул в ее глазах. – Что ты так смотришь, сглазить хочешь царя, что ли? – засмеялась, но и в смехе был страх.
Он медленно обернулся к ней и поклонился низким, поясным, по чину, поклоном, выставив вперед руки с поднятыми ладонями.
– Радуйся, царица Нефертити, Прелесть-прелестейсолнечных! Я пришел звать государя в Совет, но, кажется, не вовремя…
– Почему не вовремя? Ступай, доложи.
Мерира подошел к играющим. Смех умолк. Царь вскочил и взглянул на него с виноватой улыбкой:
– Что ты, Мерира?
– Ничего, государь. Ты сегодня изволил назначить Совет.
– Ах да, Совет, я и забыл… Ну, пойдем же, пойдем, – заторопился он.
Все еще на шее у него болталась повязка от жмурок; он хотел ее сдернуть, но не мог: завязалась узлом. Анки подошла к нему, распутала узел, сняла повязку, а Рита – Меритатона надела ему на голову снятый для игры царский шлем-тиару.
Лица у девочек вытянулись. Пудель тихонько ворчал на Мериру, а карлик строил ему из-за спины царя смешные и страшные рожи. Точно вдруг тень набежала на все, и солнце померкло, сделалось как «рыбий глаз».
Проходя мимо царицы и Дио, царь посмотрел на них покорно, уныло, как школьник, идущий на скучный урок.
Дио взглянула на царицу.
– Да, ступай за ним, – сказала она, и Дио пошла за царем.
Он оглянулся на нее с благодарной улыбкой, а Мерира – на них обоих с давешней тихой усмешкой.
VII
Все трое вошли в палату Совета. Здесь давно уже собрались и ожидали царя сановники. Когда он проходил мимо них, падали ниц, нюхали землю у ног его, приподымали бритые головы с черепами яйцевидно-удлиненными – «царские тыковки», протягивали руки, выставив ладони вперед, и восклицали:
– Радуйся, Радость-Солнца, Ахенатон!
Тута, по обыкновению, превзошел всех.
– Царь мой, бог мой, сотворивший меня, даруй мне насыщаться лицезреньем твоим вечно! – воскликнул он, закатывая глаза с таким умиленьем, что все ему позавидовали.
Царь сел на престольное кресло на низком алебастровом помосте между четырьмя столбиками. Дио стала за ним с опахалом.
Все смотрели на нее с любопытством. Она понимала, что ее уже считают царской возлюбленной; покраснела, потупилась.
В глубине многостолпной палаты выстроилась стража хеттейских амазонок-телохранительниц. Сановники уселись полукругом на полу, на циновках, поджав под себя ноги. Только трое сидели на складных стульях: Тута, Мерира и верховный советник царя, главный военачальник Рамоз, семидесятилетний старик, тучный, грузный, с пухлым, красным лицом, напоминавшим старую женщину, с вельможно-любезной улыбкой на пухлых губах, с маленькими, заплывшими глазками, очень умными и добрыми.
Внук полководца Аменемхэба, сподвижника великого Тутмоза Третьего, Завоевателя, сам доблестный вождь, стяжавший славу в трудных походах на дикие племена Куша и Синайских кочевников, возведенный при царе Аменхотепе Третьем, отце Ахенатона, в сан верховного советника, сохранил его Рамоз и при сыне. Народ любил его, называл «человеком справедливым». Душу свою положил бы он за царя, но бедой и безумьем считал новую веру в Атона, измену старым богам. «Лучший из царей и несчастнейший: губит себя и царство свое ни за что!» – говорил о царе.
Начался Совет. Царь слушал доклады сановников о неурожае, голоде, бунтах, разбоях, грабежах, лихоимствах, отпаденьях и междоусобиях областных начальников.
Стоя чуть-чуть сбоку, Дио могла видеть лицо его. Он слушал, опустив голову, и лицо его казалось бесчувственным.
Страженачальник Маху сделал доклад о последнем бунте в Фивах.
– Может быть, ничего бы и не было, если б не пристали ливийские наемники, – заключил он доклад.
– Почему же пристали? – спросил царь.
– Потому что им не заплатили жалованья вовремя.
– А не заплатили почему?
– Государь наместник не велел.
Царь перевел глаза на Туту:
– Зачем ты это сделал?
– Иго царя возложил я на шею мою и вот, несу его, – начал тот издалека, соображая, как лучше ответить: понял, что на него сделан донос. – Взойду ли на небо, сойду ли на землю, везде голова моя в деснице твоей, государь! Туда и сюда смотрю и света не вижу; смотрю на царя, солнце мое, и вот свет! И кирпич из-под кирпича сдвинется в стене, – я же не сдвинусь из-под ног царя, бога моего…
– Говори, говори скорее, зачем ты это сделал? – прервал его царь с нетерпеньем.
– Хлеба не на что было купить голодным, вот я и занял из жалованья ливийцам.
Царь ничего не сказал, но посмотрел на него так, что он невольно опустил глаза.
– Сколько убитых? – спросил царь, опять обернувшись к Маху.
– Ста человек не будет, – ответил тот.
Знал, что убитых больше пятисот, но, переглянувшись с Рамозом, понял: правды говорить не надо; царь будет мучиться, может быть, заболеет, а пользы никакой не будет: все останется как было.
– Сто человек! – прошептал царь, еще ниже опуская голову. – Ну, да теперь уж недолго…
– Что, государь, недолго? – спросил Рамоз.
– Именем моим вам людей убивать! – ответил царь и, помолчав, спросил:
– Есть письмо от Рибадди?
– Есть.
– Покажи.
– Нельзя, государь, письмо непристойное.
– Все равно покажи.
Рамоз подал письмо. Царь прочел его сначала про себя, а потом вслух, так спокойно, как будто речь шла не о нем:
– «Муж Гублийский, Рибадди, наместник царя Египетского в Ханаане, так говорит царю: десять лет посылал я к тебе за помощью, но ты не помог. Ныне муж Аморрейский, Азиру, изменник, восстал на тебя и предался царю Хеттейскому, и собрали они колесницы и мужей своих, дабы покорить Ханаан. Враг стоит у ворот моих, завтра войдет и убьет меня, и тело мое отдаст на съедение псам. Хорошо награждает верных слуг своих царь Египта! Да поступят же с тобою боги так, как ты со мною поступил. Кровь моя на голову твою, предатель!»
– Как смеет этот мертвый пес ругаться над богом-царем! – возмутился Тута.
Царь опять посмотрел на него, и он замолчал, съежился.
– Погиб Рибадди? – спросил царь.
– Погиб, – ответил Рамоз. – Бросился на меч, чтоб не отдаться живым в руки врага.
– Что же теперь будет, Рамоз?
– Будет, государь, вот что: царь Хеттейский возьмет Ханаан: подкопают воры стену и войдут в дом. Были мы четыреста лет под игом кочевников и, может быть, другие четыреста будем под игом Хеттеян. Прадед твой, Тутмоз Великий, вознес Египет во главу народов, и были мы свет миру, а ныне этот свет потух…
– Что же делать, Рамоз?
– Сам знаешь что, государь.
– Начать войну? – спросил царь.
Рамоз ничего не ответил: знал, что царь погубит себя, погубит царство свое, а войны не начнет.
Царь тоже молчал, как будто глубоко задумался. Вдруг поднял голову, сказал:
– Не могу!
Еще помолчал, подумал и повторил:
– Не могу, нет, не могу! «Мир, мир дальним и ближним», – говорит отец мой небесный, Атон. «Мир лучше войны; да не будет войны, да будет мир!» Вот все, что я знаю, все, что имею, Рамоз. Это у меня отнимешь, – ничего не останется: нищ, гол, мертв. Лучше сразу убей!
Говорил тихо, просто; но сердце Дио дрогнуло вновь, так же как намедни в радости райского сна. Вдруг почему-то вспомнилась ей над желтой равниной песков в солнечно-розовой мгле млеющая бледность исполинского призрака – пирамиды Хеопса: совершенные треугольники: «Я начал быть, как Бог единый, но три Бога были во Мне», по слову древней мудрости, – божественные треугольники, возносящиеся к небу все уже, уже, острей, острей и, наконец, в последнем острие – восторг исступляющий, тот же, как в этом тихом слове Ахенатона: «Мир»!
– О, сколь сладостно ученье твое, Уаэнра! – опять выскочил Тута – пудель Данг лизнул царя языком в лицо. – Ты – второй Озирис, не мечом, а миром мир побеждающий. Скажешь воде «взойди на гору» – взойдет; скажешь горе «пади на воду» – падет; скажешь войне «да будет мир» – и будет мир.
– Слушай, Рамоз, – начал царь, – я не так подл, как думал Рибадди, и не так глуп, как думает Тута…
Пудель Данг получил по носу: испугался, огорчился. Но сидевший рядом с Тутой вельможа Айя, старик с умными, холодными и бесстыдными глазами, утешил его.
– Э, полно, брось, не стоит, – шепнул ему на ухо. – Видишь, дурака валяет, юродствует!
– Я не так глуп, как думает Тута, – продолжал царь. – Я знаю: долго еще на земле мира не будет, будет война бесконечная, и чем дольше, тем злее: «все будут убивать друг друга», по древнему пророчеству. Был потоп водный – будет кровавый. Но пусть же, пусть и тогда знают люди, что был человек на земле, сказавший: «Мир!»
Вдруг обернулся к Мерире:
– А ты, Мерира, что думаешь, чему усмехаешься?
– Думаю, государь, что ты хорошо говоришь, но не все. Бог не только мир.
Он говорил медленно, с усильем, как будто думал о чем-то другом.
– А что же еще? – помог ему царь.
– Еще война.
– Что ты говоришь, мой друг? Война – не Бог, а дьявол.
– Нет, и Бог. Две стороны треугольника сходятся в одном острие: день и ночь, милость и гнев, мир и война, Сын и Отец – все противоборства в Боге…
– Сын против Отца? – спросил царь, и рука его, сжимавшая ручку кресла, чуть-чуть дрогнула.
Мерира поднял на него глаза и усмехнулся так, что Дио подумала: «Сумасшедший!» Но он тотчас опустил их снова, и лицо его окаменело, отяжелело каменной тяжестью.
– Что ты меня спрашиваешь? – ответил он спокойно. – Ты лучше моего знаешь все, Уаэнра: сыну ли не знать Отца? Бог – мера всего. Не тебе говорю, а людям: меры ищите во всем – меры мира и меры меча.
– Истинно так! Истинно так! – воскликнул Рамоз. – Я тебя, Мерира, не люблю, а за это слово в ножки поклонился бы: мера мира и мера меча, – лучше не скажешь.
– Что же тебе в этом понравилось так? – удивился царь, взглянув на Рамоза. – Он говорит очень страшное…
– Да, страшное, да нужное, – ответил Рамоз. – Анкэммаат, В-правде-живущий, правду ты хочешь вознести до неба и расширить по земле; но слабы люди, глупы и злы. Будь же милостив к ним, государь, не требуй от них слишком многого. Лесенку подставь – взлезут, а скажешь: летите – полетят в яму. Милостью одной не проживешь: милость-то наша всем злодеям углаживает путь. Много говорим, мало делаем, а верь старику: нет ничего на свете злее добрых слов пустых, нет ничего подлее благородных слов пустых…
– Это ты обо мне, Рамоз? – спросил царь с доброй улыбкой.
– Нет, Уаэнра, не о тебе, а о тех, кто чуда от тебя требует, а сам для чуда и пальцем не двинет. Двадцать лет правдой служил я царю, отцу твоему, и тебе; никогда не лгал и теперь не солгу. Худо, очень худо делается по всей земле твоей, государь! «Мир», говорим, а вот меч; говорим «любовь», и вот ненависть; говорим «свет», и вот тьма…
Грузно встал, повалился в ноги царю и заплакал:
– Сжалься, государь, помилуй! Спаси себя, спаси Египет, подыми за правду меч! А если не хочешь, так и я не хочу видеть, как губишь себя и царство свое. Отпусти меня, старика, на покой!
Царь наклонился к нему, поднял его, обнял и поцеловал в уста.
– Нет, мой друг, не отпущу, да ты и сам не уйдешь – любишь меня… Потерпи немного, теперь уж недолго, я скоро сам уйду, – шепнул ему на ухо.
– Куда уйдешь? Куда уйдешь? – спросил Рамоз с вещим ужасом.
– Молчи, не спрашивай, скоро все узнаешь! – ответил царь и встал, давая знать, что Совет кончен.
VIII
Выйдя из палаты Совета, пошли на Двор Нищих. Царь велел сановникам идти вперед, а сам замедлил шаг, чтобы остаться наедине с Дио. Минуя ряд покоев, вошли в маленький тепличный садик, где фимиамные деревья в глиняных кадках, привезенные из несказанно далекого Пунта, Страны богов, подобные огромным, паутинно-тонким верескам, точили в солнечном угреве янтарные слезы смолы.
Царь сел на скамью и долго сидел молча, не двигаясь, как будто забыв о присутствии Дио. Вдруг взглянул на нее и сказал:
– Стыд! Стыд! Стыд! Полно тебе смотреть на мой стыд, уходи!
Дио стала перед ним на колени.
– Нет, государь, я от тебя не уйду. Жив Господь, жива душа моя, куда бы ни пошел царь мой, на стыд или честь, там будет и раба его!
– Стыд мой один ты уже видела, увидишь сейчас и другой. Пойдем, – сказал царь, вставая.
Вошли во Двор Нищих.
Трижды в году – в половодье, сев и жатву – ворота дворца открывались для всех: всякий бедняк мог входить свободно, сказав имя свое страженачальнику Маху. На дворе расставлены были поставцы с хлебом, с мясом, пивом: всякий мог есть и пить вволю. Тут же принимались царем прошения и жалобы.
В первые годы царствования праздники эти бывали чаще. «Каждый девятый день месяца будет днем нищих, – сказано было в царском указе. – Областеначальники должны раздавать в этот день хлеб голодным из царских житниц, ибо вопль несчастных до неба дошел, и сердце наше терзается».
«Бог богатых – Амон, бог бедных – Атон, – проповедовал царь. – Горе вам, сытые, горе, богатые, приобретающие дом к дому и поле к полю, так что другим не остается места на земле! Руки ваши полны крови. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Будьте хлебом голодных, водою жаждущих, ризой нагих, кровлей бездомных, улыбкой плачущих. Узы ярма развяжите и отпустите рабов на свободу: тогда свет ваш взойдет во тьме и мрак ваш будет как полдень!
– Анкэммаат, В-правде-живущий, – говорили царю ученики его, – ты уравняешь бедных с богатыми, сотрешь межи полей, как стирает их половодье реки. Ты – множество Нилов, затопляющих землю водами любви неисчерпаемой!
Царь изобрел опасную игру – кидать золото нищим – огонь в солому. Долго спасал от беды страженачальник Маху: набирал надежных людей из дворцовой челяди, наряжал их нищими, обещал смирным дележ поровну, а буйным – плеть, и все обходилось благополучно. Царь был близорук, с высоты Горнего места, откуда кидал он в толпу золотые колечки-денежки, не узнавал лиц внизу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































