Текст книги "Рождение богов (сборник)"
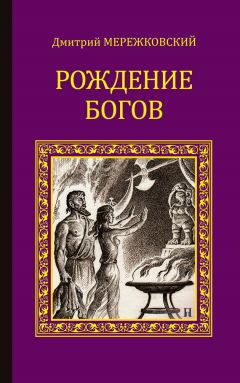
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Вспомнила также царя Утукса – Одиссея, вечного странника:
Сильно меня устремило в Египет желание сердца.
В длинновесельном плывя корабле, из очей потерял я
Крита широко равнинного снежные горы и прибыл
Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта.
Колыбельные песни Египта напевала ей Зенра-кормилица; о чудесах Египта рассказывал отец Аридоэль, – часто ходили туда корабли его, нагруженные критским лесом и пурпуром. С детства казалась ей эта чужая земля родною, как будто она жила в ней когда-то в незапамятно давние дни и все хотела в нее вернуться, тосковала о ней, как о родине. Глядя на осенние станицы журавлей, улетавшие на юг, протягивала к ним руки, так же как сейчас – к уходящему кораблю:
– В Египет! В Египет!
Знала и теперь, когда смертные ужасы напали на нее, что бежать от них надо в Египет и что спасет ее только величайший из сынов человеческих, царь Египта Ахенатон.
Маленькая, сморщенная, как сморчок, старушка, под огромным черным париком, точно гриб под шапкой, взошла на кровлю по наружной лестнице дома.
– А, Зенра, наконец-то! – воскликнула Дио. – Где же ты пропадала?
– Все по твоим же делам бегала; с ног сбилась, Туту искавши по городу.
Старушка подала ей письмо с Тутиной печатью, Атоновым солнечным кругом.
– А где Эойя? – спросила Дио.
– В городе осталась.
– Зачем?
– Хочет повидать еще раз купца из Библоса, расспросить об отце.
– Что же он, умер?
– Умер.
– Не простил?
– Нет, слава богу, простил. Обрадовалась, бедненькая, так что и сказать нельзя.
– Зачем же ты ее одну оставила в городе?
– Не пропадет, чай, не маленькая! Завтра поутру вернется.
– А ты сама вернулась когда?
– На заре сегодня.
– Где же весь день была?
– В гавани. Смотрела корабль, на котором поедем в Египет. Ax, хорош корабль! Мачты кедровые, паруса тканые, рубка золоченая; сто гребцов – сто молодцов, все как на подбор. Дней через десять выедем и с ветром попутным в пять дней будем в Египте!
Вдруг захлопала в ладоши, закачала головой, так что тугие косички, некогда черные, но уже давно порыжевшие, рассыпались по лицу, парик съехал на сторону, и забелели под ним седые волосы; тихо-тихо, точно комар зажужжал, запела песенку:
Крокодил, крокодил,
Зарывайся в темный ил!
С богом Солнца возношусь,
Крокодила не боюсь!
Папарука-папарака,
Папарура-папара!
Этими колдовскими словами кончалась песенка, знакомая Дио с младенчества: под нее игрывал с ней братец Иол в деревянного, разевавшего пасть крокодила, египетскую игрушку, подаренную отцом. А после трех страшных смертей – Аридоэля, Иола и Эфры – старушка Зенра начала выпивать с горя и навеселе певала всегда эту крокодилью песенку.
– Там и напилась, на корабле? – спросила Дио.
– Зачем напиваться? Пьяница я, что ли? Только пригубила. Угостили земляки-корабельщики настоящим пивцом Амоновым. День-то сегодня, помнишь, какой? Ну, вот и помянула покойничков!
Дио помнила, что сегодня – годовщина смерти отца: с Аридоэлем старушка помянула и двух других покойников – Иола и Эфру.
– Ну, ладно, няня, ступай, отдохни, – сказала она без упрека, ласково.
А когда уже Зенра спускалась по лестнице, окликнула ее:
– Няня, а няня, игры когда?
Зенра не расслышала: туга была на ухо. Дио подошла к лестнице, наклонилась и крикнула:
– Игры, игры когда?
– Игры? – ответила старушка. – Нет, об играх что-то не слышно. Даст Бог, раньше уедем. Ну их к Сету-диаволу! Не игры, а душегубство окаянное!
Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Вдруг, перед закатом, брызнула по небу кровь, как будто там, на небе, заколалась жертва.
Тут же на кровле стояли два плясовых, из глянцевитой, белой кожи, башмачка Эойиных; подошвы у них натирались особым смолистым порошком, чтобы не скользили по гладкой шерсти бычьих спин. Перед отъездом в город Эойя вымыла их, выбелила и поставила сушиться на солнце.
Дио взглянула на них, подумала: «Да, хорошо бы раньше уехать, до игр…» И вдруг что-то прошло по сердцу ее, темное и быстрое, как тень от облака.
Распечатала письмо Туты, прочла, и сердце у нее забилось от радости: «Через десять дней – в Египет!»
Спустилась по деревянной, пристроенной снаружи дома лестнице. Дом из грубо отесанных камней, глины и бревен, узкий и высокий, в три жилья, с редкими окнами, напоминал крепостную башню.
Критские дома строились без очагов; плохо заменяли их угарные жаровни с углями. Купец Аридоэль, часто бывавший по торговым делам в Микенахе, Тиринее, Аргосе и других городах материковой земли, где люди севера строили теплые дома с очагами, полюбил их уют и построил себе на Крите такой же дом.
Дио вошла в нижнюю, большую, под отдельною кровлею, палату очага с четырьмя деревянными столбами и круглым, в закоптелом потолке, отверстием для дыма. Узкие, как щели, окна в дубовых, с мелким переплетом, рамах затянуты были прозрачной, из бычьего пузыря, пленкой, раскрашенной в яркие краски, так что свет дневной казался радужным.
На одной из стен была роспись: в священном саду голый отрок, похожий на девушку, с голубовато-серебристым, точно лунным телом, низко наклоняясь на бегу, рвал белые цветы шафрана, вьющиеся, как языки пламени.
В углу, на полках, было маленькое книгохранилище: свитки пальмовых листьев с критскими письменами, глиняные дощечки с вавилонской клинописью, египетские папирусы с иероглифами.
Одна дверь вела в сад, другая – в купальню с водопроводом; и еще две – в опочивальни, Эойину и Диину.
В углублении внутренней стены находилась крохотная часовенка с висячим бронзовым свечником – огненным венком неугасимых лампад – и крашеным глиняным плоским стенным изваянием, изображавшим видение Матери: на острой, как еловая шишка, горе стояла маленькая девочка в сборчатой юбке-колоколе, с обнаженными сосцами и жезлом в протянутой руке – Великая Матерь; у ног ее, по обеим сторонам горы, две исполинские, на дыбы поднявшиеся львицы; а перед нею – человек, закрывший от нее руками лицо, как от солнца.
Дио так же закрыла лицо руками, опустилась на колени и зашептала молитву.
Как бывало в детстве, молилась о хорошей погоде, о новой игрушке и знала, наверное, что исполнится молитва, так и теперь. Человека ли терзает или в человеке терзается Бог, уже не думала: все это вдруг сделалось ненужным и нестрашным, как жалкая усмешка Таму, диавола.
Повторяла только два слова:
– Мать, помоги!
А потом уже без слов – только звук – зов ребенка к матери:
– Ма-ма-ма!
И молитва исполнилась: чьи-то сильные руки подняли ее, как ребенка подымают руки матери. В первый раз после Горы заплакала.
Медное изваяньице – Озирисова мумия с лицом Ахенатона-царя – стояло тут же, в часовенке. Дио взяла его в руки, поцеловала и вгляделась в лицо его с тем же чувством, как всегда: узнавала брата. «Кто это, кто это? А вот скоро узнаю кто!» – подумала радостно.
Выйдя из дому в сад, прошла по заглохшей тропе между двумя черными стенами кипарисов-великанов в самый дальний конец сада, к озерцу малому, круглому, с таким же круглым островком. Там, в черной тени кипарисов, бледнела гробница, алебастровый ковчег. Плакала плакучая ива над ней; слезы родника из мшистого камня капали; благоухал цвет смерти – нарцисс. В гробнице покоились трое – Аридоэль, Эфра, Иол.
Дио вошла на островок по мостику, вздула на медном треножнике угли и положила на них благовоний. Дым поднялся прямо в безветренном воздухе, и вспыхнувшее пламя осветило на стенках гробницы две росписи.
На одной осьминог божественный, в хляби вод первичных, разверзал чрево свое – чрево рождающей Матери, и кишела, множилась рождаемая тварь в довременном иле. Ил превращался в водоросль; водоросль – в животное; животное водяное – в земное: рыба – в птицу, раковина – в бабочку, еж морской – в ежа полевого, но с еще не проросшими лапками, конь морской – в коня настоящего, но на задних ногах, еще не законченных, из ила волочащихся. Так, звено за звеном – тварь за тварью – цепь развития развивалась, бесконечная.
А на другой росписи – последнее звено – человек: мертвец воскресающий выходил из гроба – чрева земли, как дитя – из чрева матери.
Так соединялись в общих росписях две тайны в одну: начало мира – с концом, творение – с воскресением.
– «Воскрес Адун из мертвых, радуйтесь!» – шептала Дио с тихим восторгом.
«Таму, брат мой, какое чудо больше – сотворить или воскресить?» – усмехнулась она как бы в ответ на усмешку Таму, диавола.
Вернулась домой, легла и заснула так сладко, как уже давно не спала.
IV
Проснулась не от звука, а оттого, что знала, что сейчас будет звук, и действительно скрипнула дверь.
Вошла Зенра, держа лампаду в одной руке, а другой заслоняя пламя от спящей. Остановилась в дверях, потом начала подходить медленно, как будто крадучись. Ладонь ее, заслонявшая пламя, дрожала так, что прыгали тени по стенам и потолку. На голове ее всклочились седые волосы, глаза горели, губы шевелились без звука.
«Что с ней? Пьяна? С ума сошла?» – подумала Дио и вдруг вспомнила, что такое же лицо было у Зенры в тот день, когда удавилась Эфра.
– Что ты, няня?.. – вскрикнула, приподымаясь на постели.
– Ничего, доченька, ничего, родная, не бойся, Бог поможет! Вставай, одевайся, пойдем!..
– Куда? Зачем?
Дио вскочила на колени и выставила руки вперед с таким отвращением и ужасом, как будто шла на нее сама смерть.
Старушка опять начала подходить к ней молча, медленно, крадучись; опять губы ее зашевелились без звука.
– К Эойе, к Эойе пойдем! – простонала наконец глухо.
Но странно, внезапности не было: как давеча, проснувшись, знала, что будет звук, так и теперь знала все, что будет; как будто не узнавала новое, а только вспоминала давнее: все это уж было когда-то; так было – так есть.
Молча подошла Зенра к постели и упала на колени. Дио, схватив ее обеими руками за плечи, вцепилась в них так, что разодрала ногтями льняную ткань рубахи.
– Да говори же, говори!
Зенра повалилась на пол, забилась головой о ножку кровати и завыла протяжным воем плакальщиц:
– Бык! Бык! Бык!
– Убил? – спросила Дио, но уже знала все – помнила.
– Убил! Убил! Убил! – выла Зенра.
– Где она?
– Здесь у ворот!
Дио вскочила с постели, накинула охотничью шкуру лани на плечи, золотисто-желтый, с серебряными пчелками, покров на голову и выбежала из дому в сад.
Тою же тропинкою, как давеча, между двумя черными стенами кипарисов-великанов пробежала мимо озерца с островком, где бледнела гробница троих.
Споткнувшись о корень дерева, едва не упала. В глазах потемнело, земля закачалась, как палуба. Но усилием воли одолела находившую тьму беспамятства.
Услышала плач похоронных флейт. И опять – все это уж было когда-то; так было – так есть.
Добежала до ворот, открыла калитку и вышла на большую дорогу из гавани в город. Здесь остановилось похоронное шествие. Жрицы бога Быка держали на плечах гробовое ложе-носилки. Пылали погребальные факелы; плыл благовонный дым с курильниц.
Плакали флейты, плакал хор:
Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Жрица Адуновых игр, мать Анаита, благообразная старица с умным и добрым лицом, подошла к Дио и проговорила молитвенно:
– Радуйся, Дио, жрица Великой Матери! Жертву, тобой уготованную, принял Бог, да очистится чистою кровью земля, да спасется великое Царство Морей. Слава Отцу, Сыну и Матери!
И, обняв ее и заплакав, прибавила тихо, просто:
– Ох, доченька, ох, светик мой, душу мою отдала бы я, чтобы утолить твою муку! Помни одно: велика скорбь твоя – велика и награда, великая жрица Матери, Акакаллы наследница… Хочешь проститься?
Дио молча наклонила голову.
По знаку Анаиты гробовое ложе поставили на землю и сняли с него покрывало лилового пурпура с золотым шитьем – двуострыми секирами, Лабрами, меж бычьих рогов.
Мертвая лежала в белых одеждах, в белом венке из шафранных цветов, том самом уборе, в который убирала некогда Дио невесту Быка, Пазифайю Всесветящую. Туго спеленутая пеленами смертных, свитая в мумийный свиток, чтобы придать искалеченному телу человеческий облик, напоминала она мертвую куклу.
Дио, став на колени, подняла с лица ее легкую дымку. На левом виске чернело пятнышко, лоб обвивала кровавая ссадина – красный венчик под белым венком. Но лицо было почти нетронуто, светлое светом нездешним, нездешней чистотою чистое, детское, с детскими веснушками около глаз.
Дио смотрела на нее с раздирающею мукою жалости, но плакать не могла: слезы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камне. С тихим стоном прильнула губами к холодным губам. О, если бы так умереть!
Кто-то взял ее под руки, хотел поднять, но она сама поднялась. Увидела, что смотрят на нее, и застыдилась; по мертвому, мертвее, чем у мертвой, лицу ее пробежала тень виноватой улыбки. Быстро опустила покров на лицо и, когда шествие тронулось дальше, пошла за ним твердым шагом.
V
Солнце уже всходило, когда поднялись к стене, сложенной из таких огромных каменных глыб, что они казались нагроможденными нечеловеческой силой, – святой ограде Матери. В стене были низкие ворота; на челе их – треугольный глыбе, целой скале – стояли на задних лапах две львицы, такие же, как в Дииной часовенке, и между ними каменный столп, древнейшее знамение Матери – твердыня твердынь, держава держав, Мать Гора, соединяющая небо с землею.
Пройдя через ворота, поднялись по вырубленным в скале ступеням на высокий холм, далеко вдававшийся в море уступ Кератийских гор.
Утро было ясное. Вчерашняя муть рассеялась. На западе, над рядами туманно-голубых вершин, реяла снежная Ида, розово-белая, девственно-чистая, как сама непорочная Дева-Мать. На севере ветрено-мглистое, темно-фиолетовым огнем горящее море дымилось белыми дымами – пенами волн. А внизу, на великой Кносской равнине, в черно-зеленом кольце кипарисовых рощ белел, как только что выпавший снег или разостланные по полю холсты белильщиков, белокаменный город-дворец, жилище бога Быка, Лабиринт.
На плоском темени холма сложен был из грубо отесанных камней широкий и низкий жертвенник жертв человеческих. Над ним возвышался костер. На него положили тело Эойи.
Дио вздрогнула и отшатнулась, когда мать Анаита подала ей факел. Но потом взяла его и первая зажгла костер.
Флейты заплакали, хор запел:
Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!
К ложу Невесты божественной
Бог нисходит, любя.
Песней торжественной
Славим тебя,
Богом избранная,
Богом закланная
Дева-Мать несказанная!
Костер запылал, и в бушующем пламени мертвая кукла вдруг зашевелилась как живая. Дио закрыла глаза, чтобы не видеть, а когда снова открыла их, все исчезло в пламени.
«Жертву, тобой уготованную, принял бог», – вспомнила она слова Анаиты и подумала: «Да, кровь ее на мне, ее убила я!»
И так же, как тогда на Горе, все закружилось в глазах ее, поплыл кровавый туман, и вспыхнул в нем ослепительно белый, как солнце, огненный крест.
Крест
I
Вернувшись домой, Дио легла на ложе в палате очага, повернулась лицом к стене, укрылась с головой и пролежала так весь день. Зенра иногда входила в комнату на цыпочках, прислушивалась, не плачет ли; нет, лежала тихо, как мертвая.
Поздно вечером опять вошла и увидела, что она лежит на спине; глаза открыты, без взора, как у слепой; губы стиснуты; лицо, как в столбняке: часто дышит, «как рыба на песке», подумала Зенра. Окликнула ее и, не получив ответа, заплакала.
Дио трудно, медленно перевела на нее слепой взор, с усилием разжала губы и проговорила:
– Уйди!
– Ох, светик мой, сердце мое, не гони меня, старую! Куда я от тебя пойду? Вместе поплачем – легче будет, – пролепетала Зенра.
Дио посмотрела на лицо ее, как на пустое место, и повторила:
– Уйди!
Вся съежившись, как прибитая собака, старушка молча вышла из комнаты.
Ночью Дио встала и пошла бродить по дому. Заглянула в часовенку, увидела изваяние Матери, вспомнила, как намедни молилась: «Мать, помоги!» – и подумала: «Хорошо помогла!»
Вдруг очнулась у стены: билась об нее головой долго, сама не понимая, что делает; наконец, поняла: глухо все в мире, как эта стена – сколько ни бейся, никто не ответит.
Зашла в Эойину спальню. Открыла платяную скрыню, вынула платье одно, другое: от них пахло все еще живою, как будто, уже покинув тело, душа оставалась в одежде.
На самом дне скрыни увидела два беленьких башмачка – те, что вчера стояли на крыше; должно быть, Зенра спрятала их, чтобы она не увидела. Судорога слез сдавила ей горло, но плакать не могла: слезы высыхали на сердце, как вода на раскаленном камне.
Вернулась на прежнее место, легла и опять задышала часто, как рыба на песке. Иногда впадала в забытье, но не могла уснуть: только что начинала засыпать, как, вся вздрогнув, точно от внезапного толчка, просыпалась.
Когда закрывала глаза, видела детские веснушки около мертвых глаз; видела, как мертвая кукла шевелится, точно живая, в бушующем пламени; белые клубы дыма розовеют в лучах восходящего солнца, точно наливаются теплою кровью бледные призраки, и кружится, пляшет легкая, с легким дымом, плясунья: «Так спляшу, как еще никогда!»
И все входила в комнату Зенра, шла на нее, как смерть, шевелила губами, шептала: «К Эойе, к Эойе пойдем!»
Ночь тянулась бесконечно, а когда посерело круглое отверстие в потолке над очагом, – удивилась: только что был вечер, и вот уже опять светает. Пожалела ночи; в темноте было легче: как будто свет дневной резал не только глаза, но и все тело.
Няня начала что-то стряпать на очаге. Дио молча сделала ей знак рукою, чтоб перестала. Старушка вышла во двор и продолжала стряпать на жаровне. Принесла тыквенной каши, запеченной в горшке, и пшеничных пряженцев, два любимых блюда госпожи своей. Со вчерашнего дня ничего не ела и не пила, кроме воды; от одной мысли об еде тошнило ее. Опять сделала знак, чтобы Зенра унесла блюда.
Старушка даже не заплакала, а только посмотрела на нее так, что она сжалилась над нею, сказала:
– Дай молока.
Зенра принесла кувшин с молоком и налила в чашку. Дио отхлебнула глоток и, увидев, что Зенра держит хлеб в руке, не смея подать, сама взяла его, отломила кусочек, положила в рот, пожевала и выплюнула: не могла проглотить.
Опять легла, повернулась лицом к стене и укрылась с головой.
День тянулся так же бесконечно, как ночь, и так же мгновенно погас: только что солнечный свет падал на стену радужным зайчиком сквозь разноцветную пленку рам, и вот уже опять засветились лампады в часовенке. Опять ночью бродила она, не находя себе места, и билась тихонько головой об стену.
Так прошло три дня. Все ничего не ела. Начинала слабеть. Голова тихо кружилась от слабости; тихо уносили ее, укачивали какие-то мягкие волны. Не укачают ли до смерти? Нет, знала, что не умрет, пока не сделает чего-то. «Что надо сделать, что надо сделать?» – повторяла с мукою, как будто забыла, хотела вспомнить и не могла.
Заходила мать Анаита. Что-то говорила, умное и доброе. Но она не понимала: слова не входили в сердце ее, как хлеб в горло. Поняла только, что мать Акакалла очень больна, может быть, скоро умрет, и она, Дио, будет великою жрицею. «Не великая жрица, а мокрая курица!» – вспомнила, и тень усмешки промелькнула, мертвая, по мертвому лицу.
Заходил и Тута. Говорил о скором отъезде в Египет, спросил ее, может ли она ехать с ним.
– Не знаю, может быть, и могу, – ответила так равнодушно, что сама удивилась; вспомнила, как намедни протягивала руки к кораблю, уходившему в море: теперь уже ехать в Египет незачем.
Когда Тута произнес имя Ахенатона, что-то в лице ее дрогнуло, но тотчас же опять застыло, умерло.
Тута ушел, опечаленный: предчувствовал, что Дио плясунья, жемчужина Царства Морей, чудесный дар царю Египта, потеряна.
В сумерки пришел Таму, постучался в дверь со двора. Открыла Зенра, но не впустила его, пошла сначала спросить, можно ли.
– Нельзя, нельзя! Не пускай! – вскрикнула Дио, как будто испугавшись.
Но, когда уже Зенра выходила из комнаты, вернула ее:
– Постой, няня…
И, подумав, сказала:
– Пусть войдет.
Страшно ей было увидеть его после Горы; но сквозь страх смутно чудилось, что он ей нужен сейчас, как никто: от него-то, может быть, и узнает, что надо сделать, чтобы умереть спокойно.
Таму вошел и не здороваясь молча остановился поодаль. Дио тоже молчала. С Горы не виделись. Смотрели друг на друга пытливо, пристально.
– Здравствуй, Таму, – сказала она наконец. – Что же ты стоишь? Садись.
Он подошел и сел, выбрав из двух стульев тот, что подальше.
– Ну, говори, зачем пришел?
– Проститься. Завтра еду.
– Едешь, правда? Ведь уж в который раз!
– Да, все не мог. А теперь смогу.
– Почему теперь?
– Можно все говорить?
– Говори.
– Ты очень больна, Дио; больной всего не скажешь.
– Нет, говори все.
– И о ней можно?
– И о ней.
Поняла, что «о ней» – значит об Эойе.
Оба говорили как будто спокойно, и чем страшнее было то, о чем говорили, тем спокойнее; взвешивали каждое слово, чувствовали, что каждое может их спасти или погубить.
– Знаешь, кто убил Эойю? – спросил он, глядя ей прямо в глаза.
– Кто?
– Я. Не веришь?
– Нет.
– Посмотри мне в глаза. Разве так лгут?
Посмотрела, закрыла лицо руками, опустилась на ложе и лежала долго, тихо, как мертвая. Потом отвела руки от лица, привстала и спросила:
– Как ты ее?.. – Не могла выговорить: «убил».
– Не я сам, а другие, – ответил он.
– Кто?
– Все равно. Кто-то спросил: «убить?» и я сказал: «убей». Значит, убил.
– Кинир? – догадалась она. – Как же он это сделал?
– Подкупил бычников, чтобы опоили быка.
– Зачем ты ее?.. – опять не договорила.
– Чтобы снять чару. Убийца сказал, что если Эойя умрет, чара снимется с тебя и ты меня полюбишь.
– И ты поверил?
– Не знаю. Может быть, и поверил.
– А теперь?
– Теперь вижу, что вышло не так: не ты меня полюбила, а я тебя разлюбил. Но все равно, чара снята.
– А ты знал, что если ее убьешь, то и меня?
– Я об этом не думал. А если б и думал, надо было выбрать: себя убить или тебя. Я выбрал…
Остановился, взвесил и кончил:
– Выбрал тебя. Пойми же, Дио, я не для того пришел, чтобы просить прощения. Я знаю, ты меня простить не можешь. Три раза прощала: в первый раз, в пещере, когда я хотел тебя осрамить; второй – на берегу, когда ты купалась с Эойей; и третий – на Горе, когда радела с фиадами. А четвертый – не простишь. Для того-то я и убил, чтобы не могла простить.
– Зачем же пришел?
– Чтобы ты знала все и не лгала. Если не любишь, ненавидь, но не прощай, не лги!
Дио ответила не сразу, как будто опять глубоко задумалась.
– Нет, Таму, – прошептала наконец чуть слышно, – ты меня не разлюбишь. Если б разлюбил, не пришел бы.
– Не знаю. Может быть, и не пришел бы, – тоже как будто задумался он. – Но вот завтра уеду и уже никогда не вернусь. Был мертв и ожил; погибал и спасся, как пес сидел на цепи и цепь разорвал. Свободен, свободен, свободен! И, если бы снова надо было убить, убил бы снова…
– Нет, Таму, мы никогда… – начала она опять, остановилась, тоже, как он, взвесила и кончила: – Мы никогда не разлюбим друг друга!
Так невозможны, нелепы, похожи на «дважды два пять» были эти слова, что он не поверил ушам своим. Смеркалось. Он уже почти не видел лица ее. Вдруг послышалось ему, что она тихонько плачет и шепчет:
– Таму, поди сюда!
Сама не знала, что с нею, как будто не она, а кто-то другой возопил из сердца ее: «Мать, помоги!» и вдруг чьи-то сильные руки протянулись к ней и подняли ее, как ребенка подымают руки матери. Развязался удушающий узел на горле – судорога плача без слез, – и слезы хлынули.
– Таму, поди сюда!
Он подошел.
– Наклонись. Еще, еще. Вот так…
Приподнялась, схватила обеими руками голову его и молча поцеловала в лоб. Когда отпустила его, он отошел, шатаясь, прислонился головой к одному из столбов очага и долго стоял так не двигаясь. Потом вернулся к ней и спросил со своей всегдашней, тяжелой, точно каменной, усмешкой:
– Что это значит? «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром» – так, что ли? – вспомнил слова бога Таммуза, начертанные на клинописной скрижали незапамятной древности.
– Так, брат мой, так! «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром», – повторила она с тихим восторгом и ужасом. – Кто это сказал?
Он вдруг перестал усмехаться, побледнел, сжал кулаки и поднял их над головой:
– Тот, из-за Кого мир погибает, – лжец, убийца, диавол, будь Он проклят.
– Таму, брат мой, зачем проклинаешь Того, Кого любишь?
– Его люблю?
– Его. А ты не знал?.. Погоди, скоро узнаешь…
Она опустилась на ложе, закрыла глаза и зашептала уже невнятно, как сквозь сон:
– Ну, ступай, а я отдохну. Очень устала… Завтра не уезжай, подожди. Если буду жива, скажу, что надо делать, а если умру, узнаешь сам… Подождешь?
Он ничего не ответил, неуклюже, медленно, грузно зашевелился, сгорбился, как под навалившейся тяжестью, и вышел из комнаты.
Лицо его было так страшно, что Зенра, увидев его, побежала узнать, что случилось. Заглянула в комнату к Дио, вошла на цыпочках, подкралась к ложу, наклонилась и увидела, что она глубоко спит.
Снилось ей, будто идет она с Таму глухой тропинкой в дремучем лесу на Иде-горе, как в тот день, когда он спас ее от вепря. Сосны шумят, как море; падает мокрый снег хлопьями; розовеет цвет миндаля над снегом, в густеющих сумерках. «Бога заклать, Бога заклать, вот что надо сделать!» – говорит ей Таму. А снежные хлопья падают; вьется вьюга, завивается в круги Лабиринта безысходного, и ревет в нем ревом голодным бог-зверь. «Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!» – говорит уже не Таму, а кто-то другой. «Кто это? Кто это?» И вдруг узнала кто: царь Египта, Ахенатон.
Проснулась, но сон как будто продолжался наяву: услышала голодный рев зверя – гул подземных громов. Как от проезжавшей исполинской, нагруженной камнями телеги стены дома задрожали; висевший на стене медный щит зазвенел; два бронзовых кувшина, соприкасавшиеся – сосуды возлияний в часовенке – задребезжали; столбы очага заскрипели; где-то посыпалась штукатурка с потолка; собака во дворе завыла, овцы в овчарне заблеяли; и ужасом черным чернота ночи пахнула ей в лицо.
Но не ужаснулась: с детства привыкла к этим подземным гулам; только привстала на ложе, обернулась к часовенке и прошептала:
– Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, сохрани!
Ждала, чем это кончится. Помнила, как помнили все кератийцы, то, что было четыре века назад: тогда земля тряслась так, что люди думали, пришел конец мира: «Ужо провалитесь все в преисподнюю!»
«Конец или не конец?» – ждала она спокойно. Снова проехала телега с камнями – прокатились гулы, но глуше, все глуше – и замерли. Наступила тишина. Петух где-то пропел: «еще не конец!»
Дио опять легла и заснула, так же глубоко, как давеча. Солнце уже падало на стену радужным зайчиком, когда проснулась, еще больная, слабая, но уже другая: что-то изменилось в лице ее так, что Зенра, взглянув на нее, подумала: «Будет жива!»
– Няня, молока, хлеба, скорее! Скорее! Ужасно есть хочется!
Выпила две чашки молока, съела два ломтика хлеба с волчьей жадностью. Знала по жреческому опыту, что после такого поста сразу есть много нельзя, надо сначала привыкнуть. Привыкала постепенно, увеличивая меру еды, от завтрака к полднику, от полдника к ужину. Няня стряпала блюдо за блюдом – кашки, запеканки, похлебки, взварцы, пряженцы; суетилась, бегала, ног под собой не слышала от радости, только рыже-черные косички парика мотались, как у пьяной, и жужжала крокодилья песенка: «Папарука – папарака!»
Дио выздоравливала с чудесною быстротою, как будто воскресала из мертвых. Но любовь старушки была проницательна: вглядываясь в нее, смутно чувствовала она что-то неладное. Какая-то темная тень пробегала иногда по лицу Дио; какая-то безумная мысль светилась в глазах.
«О чем она думает?» – хотела понять Зенра и не могла, только вещим страхом страшилась сама не зная чего.
«Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!» – вспомнила Дио свой сон и слова Эойи: «Если Бог такой, как думают люди, то это не Бог, а диавол!» Диавола с Богом спутали в узел так, что не распутаешь – надо рассечь. «Отец есть любовь»: не Сыну – людей, а людям Сына приносит в жертву Отец, – вот что надо сказать. Землю очистить от крови жертв человеческих, уготовить путь Тому, Кто идет, – вот что надо сделать.
Ахенатон-пророк сказал, и Дио-жрица сделает.
II
Кносское ристалище уснуло под чарой Луны, Пазифайи Всеозаряющей.
Бычьим стойлом, теплотою навозною, пахло в дощатой келийке, темной и тесной, как гроб, той самой, где некогда Дио убирала в подвенечный убор Эойю, невесту бога Быка.
Лунный луч, падая сквозь узкое оконце-отдушину, повис белым лоскутом на черной дощатой стене, и в белом свете его огонек лампады краснел.
Дио, в плясовом наряде – остролопастном кожаном переднике, медно-кожаном поясе-валике, перетянувшем стан туго-натуго, в высоких, из белой кожи, ременчатых полусапожках, с верхней частью тела голою, сидя на полу, на корточках, точила жертвенный бронзовый нож, длинный и тонкий, как ивовый лист: так и назывались эти ножи – «ивовыми листьями». Рукоять его, из черного агата, была в виде четырехконечного креста.
С тихим звоном – свистом змеиным – скользило лезвие туда и сюда, по влажно-темному точильному камню. Попробовала нож на коже передника: остер, как бритва, а ей все казался тупым. Продолжала точить.
Слабое мычание послышалось из-за дощатой перегородки. Встала, открыла окошечко, высунула голову, выставила руку с лампадою, осветила стойло и заглянула в него. Крепче пахнуло теплотою навозною, бычьим запахом, как бы дыханьем самого бога-зверя, Минотавра.
Бык, лежа на соломе, спал и прерывисто-глухо мычал во сне. Может быть, снились ему медвяно-злачные пастбища, ледяно-струйные воды на Иде-горе, где некогда пасся он, так же как братья его, тяжело тучные, огромно-рогатые, чудовищно-прекрасные, первенцы творения, сыны Земли Матери богоподобные.
В первый раз после убийства Эойи Дио увидела Пеночку. Зла на него не имела; понимала, что зверь невинен, а все-таки подумала: «Вот на этих самых рогах трепалось тело ее кровавым лохмотьем».
Дрогнула рука, наклонилась лампада, и на спину быка капнула из горлышка капля горячего масла. Он проснулся, вскочил и повернул к ней голову. Часто, бывало, кормила его то ломтем ячменного хлеба, густо посыпанным солью, то медовой лепешкой. Он вспомнил, должно быть, об этом и теперь: подойдя к оконцу, протянул к ней морду, фыркнул, дохнул ей прямо в лицо теплым дыханьем и посмотрел прямо в глаза.
«Знает все, только не может сказать», – вспомнила она слова Эойи. О, тот кроткий, все еще как в первый день творения, божественно чистый взор животного! Не могла его вынести, захлопнула оконце и быстро, как будто позвал ее кто-то, оглянулась туда, где курился шафраном и ладаном маленький глиняный, с бычьими рогами, жертвенник, а за ним на побеленной стене виднелась роспись, нарочно неискусная, по образцу незапамятно древнему: так, может быть, еще дикие люди пещер рисовали, царапали острием кремня на костях носорогов и мамонтов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































