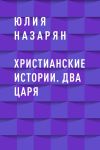Текст книги "Мессия"

Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
VII
– Я хочу похоронить Маки по древнему обычаю, – сказала царица.
– Как хочешь, так и будет, – ответил царь.
Понял, что значит: «по древнему обычаю». В иероглифах и стенописях новых гробниц в уделе Атона не было ни образа, ни имени древних богов; ни молитв, ни заклинаний из древних свитков: Вхождения в свет, Отверзания уст и очей, Книги врат, Книги о том, что за гробом; ни имени, ни образа самого Озириса, воскресителя мертвых.
Как будто только теперь понял царь, что значит надпись в гробнице Мериры: «Да оживит Атон и Уннофер плоть на костях моих». Уннофер – Благое Существо, Озирис – сам царь Ахенатон. Тут был искушающий вызов: «Если ты – Он, победи смерть».
– Я не Он! Я не Он! Я не Он! – хотелось ему кричать от ужаса.
Кроткий изувер, «святой дурак» Пангезий смотрел ему прямо в глаза, как будто спрашивал: «Отречешься ли от дела всей своей жизни, солжешь ли, В-правде-живущий, Анк-эм-маат?» И читал в его глазах ответ: «Солгу!»
Лучшие умастители Фив, Мемфиса и Гелиополя, «божественные печатники, потрошители и резники», работали над телом усопшей царевны Макитатоны.
В Доме Жизни – палате умащений – днем и ночью кипели котлы, варились масти и смолы – бальзам, стиракс, киннамон, мирра и кассия; громоздились поленницы дров – сандала, теревинфа, каннаката, кедра, корицы, мастики и благовонного дерева шуу; в цельных кусках, величиной с кулак, лежали груды пунтийского ладана; пыль стояла облаком над медными ступами, где толклись порошки. Если бы непривычный человек вошел в палату, ему сделалось бы дурно от всех этих пронзительных запахов.
Тридцать дней и ночей тело потрошили, мочили, сушили, солили, смолили, коптили, квасили.
Царь следил за всем. Видел, как из длинного, косого разреза на животе вынимались внутренности; вкладывался, вместо сердца, солнечный жук, Хепэр, из лапис-лазури. Слышал хруст костей, когда ломали нос и длинным кремневым крючком вылущивали мозг.
Вставили в пустые глазницы стеклянные глаза. Волосы на парике, на бровях и ресницах пригладили тщательно, волосок к волоску. Ногти на руках и ногах позолотили. К подбородку привязали узкую, плетеную, в деревянном ящичке, бородку Озирисову, потому что и женщина в воскресении становится мужчиной, богом Озирисом. Наложили на чело повязку бога Ра, бога Гора – на шею, бога Тота – на уши, богини Гатор – на уста. И веретеном завертелась мумия в ловких руках пеленальщиков, завиваясь в бесконечные свивальники, как куколка в кокон.
Изготовили деревянную лунку «подглавья» с начертанной на новом листе папируса молитвой Солнцу – не новому богу Атону, а древнему богу Ра:
«Даруй теплоту под голову его. Имени его не забудь. Прииди к Озирису Макитатону. Имя его – Светозарный, Сущий, Ветхий деньми. Он есть Ты».
Так из маленькой Маки вырастал великий, новый, страшный бог Макитатон.
Тут же, рядом с древней мудростью, была и детскость, дикость древняя: иероглиф змеи в надгробных надписях разрубался пополам, чтобы змея не ужалила мертвую, и подрезывались лапки иероглифных птенцов, чтоб не убежали. Положили в гроб серебряную лодочку, чтобы плавать в ней по Закатному морю; зеркало, белила, румяна, книгу сказок и шашки: мертвый мог играть в них с душой своей; а также игрушки: среди них и разбитую Анкину куклу, склеенную тщательно.
Изготовили надгробное изваяние мумии: птица Ба с человеческим личиком и ручками, душа умершего, положив их на сердце его и глядя с любовью в лицо его, говорила:
«Сердце рожденья моего, сердце матери моей, сердце земное мое, не покидай меня. Ты – Я во мне; ты – мой Ка, Двойник, в теле моем; ты – Хнум, Ваятель, изваявший члены мои».
Изготовили также Озириса Прозябающего: натянули полотно на деревянную раму, начертили на нем облик Озирисовой мумии, покрыли его тонким слоем чернозема и густо засеяли пшеницей. Семена увлажнялись, пока не проросли; тогда стебли подстригли и сравняли гладко, как садовую травку. Это зеленое, весеннее, воскресшее тело Озириса должны были положить в гробницу, рядом с телом покойника. Живые как бы учили мертвого: «Вот семя ожило – оживай и ты!»
Древний обычай нарушен был только в одном: по четырем углам гранитного гроба изваяна была вместо головы Изиды, небесной матери, голова царицы Нефертити, матери земной. Когда она узнала об этом, то в первый раз в жизни возмутилась, восстала на царя. Но поздно было готовить новый гроб.
На сороковой день после царевниной смерти выступило похоронное шествие. Домовину поставили в лодку, лодку – в сани – повозку тех древних дней, когда еще не знали колес; запрягли две пары волов, и медленно заскрипели полозья по белому песку пустыни, как по снегу.
Плакальщицы в голубых одеждах, – цвет неба – цвет смерти, – шли впереди и метали пыль над головами, с однозвучным воем, подобным вою шакалов:
– Плачьте, плачьте, плачьте, сестры! Лейте, лейте, лейте слезы, лейте без конца! На запад, на запад влеките, волы, госпожу свою, влеките на запад! Бедная, ты так любила со мной говорить; что же молчишь, словечка не скажешь? Сколько было подруг у тебя, и вот, одна, одна, одна! Ножки, быстро шагавшие, ручки, крепко хватавшие, связаны, стиснуты, скручены. Плачьте, плачьте, плачьте, сестры! Лейте, лейте, лейте слезы, лейте без конца!
Солнце заходило, когда вошли в Долину Царевен, где, вырубленные в скалах, зияли зевы гробов. Тут же старая смоковница зеленела неувядаемо на мертвых песках и цвел шиповник с медово-розовым запахом: тайно поили их подземные ключи. Пчелы сонно гудели, подобно далеким тимпанам.
Мумию поставили у входа в гробницу, и в черноте зияющего зева солнце залило ее последними лучами. Два жреца, один в личине шакалоглавого Анубиса, другой – сокологлавого Гора, стали по обеим сторонам мумии, и жрец-заклинатель, херхэб, совершая таинство Апра, отверзение уст и очей, начал читать заклинанье по свитку папируса:
– Встань, встань, встань, Озирис Макитатон! Я, сын твой, Гор, пришел возвратить тебе жизнь, соединить кости твои, связать мышцы твои, совокупить члены твои. Я – Гор, твой сын, рождающий отца своего. Гор отверзает очи твои, чтобы видели, уста, чтобы говорили, уши, чтобы слышали; укрепляет ноги твои, чтобы ходили, руки, чтоб делали.
Жрец обнял мумию, приблизил лицо к лицу ее и дохнул из уст в уста.
– Плоть твоя растет, кровь твоя течет, и здравы все члены твои.
– Я есмь, я есмь. Я жив, я жив. Я не познаю тления, – ответил другой, спрятанный за мумию жрец, как будто сама она говорила.
– Ты, бог среди богов, ты преображенный, неуничтожаемый, повелеваешь богам, – возгласил херхэб.
– Я есмь единый. Бытие мое – бытие всех богов в вечности, – ответил мертвец, и мертвые глаза заблестели, живее живых. – Он есть – я есмь; я есмь – Он есть!
Царь пал на лицо свое: понял, что этот новый, страшный бог, Светозарный, Сущий, Ветхий деньми, Макитатон, – Атона низверг.
С облегченьем вздохнул он только тогда, когда тело уложили в гроб. Снова Макитатон сделался маленькой Маки.
Царь склонился к ней, поцеловал в уста ее и положил ей на сердце ветку мимозы: нежные листики-перышки должны были ответить трепетом на трепет воскресшего сердца.
Царь ночевал в шатре, в пустыне, ожидая восхода солнца для утренней молитвы у гроба.
Долго не мог уснуть. Встал, приподнял полу шатра и глянул в степь. Млечный Путь клубился раздвоенным облаком, от края до края пустыни; холодно искрилось семизвездье Туарт, Гиппопотамихи, и жарко пылали Стожары. Тишина была мертвая; только снизу, из ущелья, доносились крики сов да вой шакалов.
Снова лег и заснул.
Снилось ему, будто бы он стоит на четырехугольной площадке, срезанной вершине великой пирамиды Хеопса. Вся пустыня внизу кишит необозримым множеством человеческих голов: сколько песчинок в песке, столько голов; точно все племена и народы мира сошлись для страшного суда над ним, царем Ахенатоном. Смотрят на него; затаив дыханье, ждут. А рядом с ним вертится маленький, гаденький, черненький, – Шиха-скопец, или сам бог Тот, Обезьяна Премудрая. Он хочет его оттолкнуть и не может – весь ослабел.
Вдруг Шиха сорвал с него царский передник, шендэт, и начал сечь розгой по голому телу, приговаривая:
– Вот тебе, вот тебе, Ахенатон Уаэнра, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный!
Сек не больно, почтительно, как должно было, по безумному разуму сна, сечь бога-царя; но чем почтительнее, тем позорнее.
И человеческое множество внизу смеялось смехом неистовым, потрясавшим землю и небо. И солнце на небе, багровая рожа, скалило зубы, наливалось кровью от смеха; вытянув длинные лучики-ручки, сжимало их в кулачки и подносило ему кукиши.
А Шиха сек да сек, приговаривая:
– Ах, шалунишка, срамник, осрамил ты себя на весь мир! Вот тебе, вот тебе, сын человеческий, сын божий!
Царь проснулся, вспомнил сон, и страшно, и стыдно ему стало наяву, как во сне.
Долго лежал с открытыми глазами в темноте. Связывался узел в горле, дыханье стеснялось, как перед припадком падучей; уже рвался из груди нечеловеческий вопль. «Что же делать? Что же делать?» – думал с тоскою.
Вдруг отлегло, – разрешилось что-то, развязался узел в горле. Встал и вышел из шатра.
Зелено-розово было небо, зелено-розовы волны песков, такие же воздушные, как небо. И солнечно-белая, утренняя, теплилась в небе звезда. Ни человека, ни зверя, ни птицы, ни дерева, ни даже былинки – только небо да земля – бесконечный простор, воля бесконечная.
Он поднял глаза к звезде и улыбнулся. Вдруг понял, что надо делать. С такою радостью, как будто одно это слово побеждало смерть – смех, прошептал:
– Уйти! Уйти! Уйти!
Четвертая часть. Тень грядущего
I
3аакера подошел к Дио с таким искаженным лицом, что она едва узнала его. – Царь тебя ждет, ступай к нему, – сказал и хотел пройти мимо, но она остановила его.
– Государь царевич, что случилось?
– Сам тебе скажет, ступай!
– Я стою на часах, надо передать стражу.
– Нет, я за тебя постою.
Дио взбежала по лестнице на плоскую крышу Атонова храма.
Чуть светало. Небо казалось пустым, остеклевшим, как незакрытый глаз мертвеца. Воды реки отяжелели, как олово. Землю давило беспамятство. Город внизу точно вымер. Был час, когда сон людей смерти подобен, как поется в Атоновой песне:
Люди лежат во тьме, точно мертвые:
Очи закрыты, головы закутаны;
Из-под голов у них крадут – не слышат во сне;
Всякий лев выходит из логова,
Из норы выползает всякая гадина;
Воздремал Творец, и безглагольна тварь.
Мутно подводно зеленели белые стены храма. Все было мертво; только великий жертвенник Солнца горел неугасимым огнем, и над ним солнечный диск Атона, высшая точка всего исполинского здания, тускло рдел, как бы от луча незримого солнца.
Дио увидела царя вдали, но не сразу узнала его. Сидя на ступенях, у жертвенника, он странно скорчился, поднял колени, положил на них подбородок и закрыл лицо руками.
В пыли сидят на корточках, —
вспомнился ей заунывный, как вой ночного ветра, припев вавилонской песни о мертвых в подземном царстве.
Он, должно быть, не слышал, как она подошла, и продолжал сидеть, не двигаясь. Окликнуть его не посмела: думала, спит.
Вдруг он поднял голову и посмотрел на нее так, что сердце у нее упало.
– А, Дио! Заакеру видела?
– Видела.
– Сказал, о чем буду говорить?
– Нет.
– Садись.
Села рядом с ним. Он взял руку ее, поцеловал в ладонь и улыбнулся так, что сердце у нее опять упало.
– Вот и забыл. Помню, что хотел сказать, а как, забыл. Должно быть, память отшибло припадком.
Она поняла, что он говорит о бывшем у него недавно припадке падучей.
Заломил руки так, что суставы пальцев хрустнули, и громко зевнул. Две глубокие складки выступили около рта. Сделался похож на дряхлого Сфинкса с лицом Ахенатона.
– Помнишь, Дио, я тебе говорил, что царству моему приходит конец? Ну, вот и пришел. Я хочу уйти…
– Как уйти, куда?
– Куда глаза глядят, только прочь отсюда, из тюрьмы на волю… Да что ты спрашиваешь? Лучше моего знаешь все.
– Как же уйдешь? Разве отпустят?
– Никто не будет знать, кроме вас двоих, тебя да Заакеры. Вы мне и поможете. Он уже обещал.
– Что обещал?
– А вот, слушай. Он – убийца Маки; она от него родила. Только что признался. Мучается так, что хочет покончить с собой, выпить остаток яда из Меририна перстня, моего подарка. Но я ему придумал казнь страшнее: когда уйду, будет царем.
– Разве он может?
– Не хуже моего. Да и недолго: власть передаст Хоремхэбу, наместнику Севера. Тот не соглашается царствовать при жизни моей, а после смерти, чай, согласится.
– Как, после смерти?
– Так, уйду – умру для всех. Никто не будет знать, что ушел, а кто и узнает, не поверит, подумает, умер.
Дио знала, что Хоремхэб – враг Атона. Погубит ли царь дело всей своей жизни, отдав ему власть? Хотела спросить об этом, но почувствовала, что лучше не спрашивать.
– А уйти Заакера поможет мне так, – продолжал он. – Вместе поедем в Мемфис, к Хоремхэбу, и где-нибудь по дороге, ночью, я выйду на берег, – только меня и видели.
– Один?
– Один. Скину царский убор, переоденусь уабом-жрецом, вот что по большим дорогам ходят, собирают подаянья на храмы, и пойду с сумой и с посохом.
– Зачем? Что будешь делать?
– Что делал всю жизнь. Помнишь, Изеркер говорил: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его»? Ну вот и буду готовить. К малым уйду от великих, от первых к последним; не услышали первые – может быть, последние услышат…
Говорил слова необычайные, но как будто со скукой. Недаром зевал; может быть, так зевают и те, в подземном царстве, «сидящие в пыли на корточках».
– Ну, что же молчишь? Думаешь, с ума сошел?
– Нет, не то…
– Говори, не бойся.
– Думаю… прости, государь, все вы, цари, как малы дети, бедной и грубой жизни не знаете. Только что уйдешь – погибнешь бессмысленно, от жажды, голода, от когтей зверя или ножа разбойника. Будешь как голый ребенок на голой земле.
– «Милостив будь к себе, Уаэнра!» Так, что ли? Помнишь, кто это сказал? Мой друг, Мерира. Нет, Дио, Отец меня не покинет. Человека ли не сохранит, кто хранит сына червя и мошку в воздухе? Да и что страшнее, нож разбойника или Тутина лесть, жажда в пустыне или яд Мериры? Так, Дио пророчица, или не так?
– Так. Но и еще скажу, как Мерира: царь не больше ли может сделать добра, чем нищий?
Он рассмеялся:
– Нет, ты не Мерира! Сама не веришь тому, что говоришь. Сколько лет царствовал и сколько добра сделал! Прав Рамоз: нет ничего подлее благородных слов пустых, ничего злее добрых слов пустых. Думал осчастливить людей, небо свести на землю, и вот, осчастливил: от Водопадов до Устья льется кровь – ад на земле! Думал стереть межи полей, уравнять бедных с богатыми, и вот, уравнял: весь Египет – Селенье Пархатых, где люди живут и издыхают, как скоты, в совершенном равенстве! И всё по указу царя, В-правде-живущего, Анк-эм-маат, – славное имечко! Изеркер меня зарезать хотел, Мерира отравить, – не много ли чести? Плюнуть в лицо лгуну – вот и вся казнь… Знаешь, Дио, стыдные сны, смешные-смешные до смерти?
– Знаю.
– А-а, и ты знаешь… Ну, так вот, видел я такой сон, – едва не умер от смеха. Смех над собой – смерть. «Я – Он», вот мой смех – смерть моя. Смех когда-нибудь задушит меня, как падучая… Дио, Дио, если любишь меня, спаси, помоги!
– Как помочь, чем?
– Будь с нею!
Она поняла: с царицей.
– Она уже знает?
– Нет.
– Как же ты ее… обманешь?
– Обмануть нельзя, – узнает. Да только бы не сейчас, после Макиной смерти, – рана на рану, а потом, когда все будет кончено. Ты ей скажешь, ты одна сумеешь сказать так, что простит.
– Нет, не простит, а если и простит…
– Знаю, не говори! Ох, уж лучше бы не прощала! Да нет, простит… Что же делать, что же делать? Остаться – себя убить; уйти – убить ее, сердце ее растоптать?.. Помоги же, будь с нею. Может быть, и спасешь. Помни, если она погибнет, то и я с нею…
– Чуда требуешь?
– Да, сделай чудо – люби. Ведь ты ее любишь? Люби же до конца. Бремя с меня сними – возьми на себя. Возьмешь?
– Возьму. Помолчала и спросила:
– Уйдешь, и больше тебя не увижу?
– Нет, только что можно будет, позову, – вместе пойдем к Нему!
Замолчал, поднял колени, как давеча, положил на них подбородок и закрыл лицо руками, заплакал.
Одной рукой она обняла голову его, прижала ее к груди, а другой – начала тихонько гладить.
Прав был Шиха-скопец: царь не умел плакать; судорожно глотал слезы, давился и весь дрожал, как от сильного озноба. Но под лаской Дио мало-помалу затих; только иногда еще вздрагивал, всхлипывал, как маленькие дети, перестающие плакать.
– Может быть, ты и права, – заговорил опять, – погибну бессмысленно. Заакера хочет себя убить; может быть, и я тоже… Дио, Дио, сестра моя, о, если б ты могла, если бы могла сказать, надо уйти или нет?
Дио знала, что нужно ответить: «Никто этого не может сказать, кроме тебя самого». Но знала также, что, если ответит так, – оставит его одного, голого ребенка на голой земле.
Крепко прижала голову его к себе и ответила:
– Надо!
Снизу затрубили трубы Атонову песнь:
Чудно явленье твое на востоке,
Жизненачальник Атон!
Мертвое небо ожило, порозовело. В мглистом ущельи Аравийских гор вспыхнул рдяный уголь, и первый луч солнца блеснул на Атоновом круге.
Царь встал, взял Дио за руку и повел по отлогому, без ступеней, всходу на верх усеченной пирамиды – великого жертвенника Солнца. Обернулся лицом к солнцу, поднял руки и возгласил:
– Славить иду лучи твои, живой Атон…
Но голос его оборвался: вдруг он почувствовал, что уже не может молиться Атону.
Упал на колени, воскликнул:
– Боже мой, Боже мой, милостив будь мне, грешному! На тебя уповаю, да не постыжусь вовек…
И забился головой о плиты, с рыданьем:
– Да не постыжусь, не постыжусь вовек!
В двадцать девятый день месяца Хойяка, декабря, в тринадцатую годовщину основания Города Солнца, в день рождества Атонова, царь пустился в путь.
Все удивлялись, что он нарушил клятву не покидать удела Атонова; удивлялись, но не очень: на то-де царь и бог, чтобы разрешать себя от клятвы; да и пыл новой веры начал в нем остывать, по замечанью многих; недаром указ об истребленьи богов так и не был объявлен, а день отъезда назначен в самый день великого праздника, как будто нарочно, чтобы его отменить.
Царь не скрывал, куда и зачем едет: в Мемфис, к Хоремхэбу, наместнику Севера, чтобы убедить его сделаться наследником вместо Заакеры. Благоразумные люди радовались: Заакеры в цари не хотели; мало-де чести иметь такого царя, которого бьет по щекам эфиоплянка; а Хоремхэб, супруг царицыной сестры Неземиты, прямой потомок великого царя Тутмоза Третьего, имел все права на престол; сами боги велели ему царствовать: «боги качали твою колыбель», как пелось в песне Амоновых жрецов. Был верным слугою царя, от всех дворцовых и жреческих происков чист; но и вере отцов не изменил, новому богу не поклонился, и враги Атона надеялись, что он уничтожит дело царя-богоотступника, восстановит старых богов.
Радовались все, кроме царицы. Разлука с мужем пугала ее: за пятнадцать лет не расставалась с ним никогда. Подозревала ли что-нибудь? Если да, то виду не показывала, покорялась безропотно. Взять ее с собой не просила – знала, что не возьмет; да и как оставить больную Риту? И сама была нездорова: мучил кашель, по вечерам знобило, и на щеках выступали два красных пятнышка.
Давно уже не видели царя таким радостным, как в день отъезда. Только, когда прощался с царицей, тень прошла по лицу его; но взглянул на Дио и опять просветлел.
Радостна была и толпа на пристани. Когда царский корабль отчаливал, белый сокол, Горова птица, закружил над ним, предвещая добрый путь.
Долго люди не расходились, глядя, как три корабля, великолепно раскрашенных и раззолоченных, – живые чуда, злато-пурпурно-бирюзовые, полуптицы, полуцветы, – несутся по «белой воде»: после разлития Нил становится белым, как «молоко Изиды».
От Города Солнца Мемфис находился в четырехстах атэрах, вниз по реке.
Царь чем дальше плыл, тем больше радовался, как будто и вправду бежал из тюрьмы на волю. Радовался, что так однообразно, тихо и просто тянутся по обоим берегам две полосы, желтая – мертвых песков и черная – плодородной земли: жизнь и смерть рядом, в вечном союзе, в вечной тихости; радовался, что медленно влачащиеся волы взрывают плугом жирные борозды, и кое-где уже зеленеют всходы ярко-весеннею зеленью, и далеко разносится, в молчаньи полей, заунывная песня пахаря.
В тридцати атэрах от Мемфиса, в четырех-пяти часах пути вниз по реке, на краю пустыни, посреди великого пирамидного кладбища, находился запустевший храм Солнца, построенный за тысячу лет до Ахенатона.
Полная луна выкатилась из-за Аравийских гор, огромная, раскаленно-красная, когда царский корабль причалил к пристани храма. Царь, Заакера и два жреца, с жертвенной утварью, хлебами предложенья, вином для возлияний и куреньями, вышли на пристань.
А единственный жрец и сторож храма, столетний старик, встретил их и заплакал, узнав, что царь хочет принести жертву: последним посетителем храма был царь Тутмоз Четвертый, дед Ахенатона.
Длинным крытым ходом прошли с пристани в храм. Здесь, на обширной кровельной площади, возвышался на подножьи в виде усеченной пирамиды исполинский обелиск, Солнечный Камень, Бэн-бэн, и перед ним – жертвенник из пяти огромных алебастровых глыб, точно такой же, как в Городе Солнца на крыше Атонова храма.
Царь зажег куренья, совершил возлиянье и долго молча молился. Потом, отослав всех, сошел с Заакерой к потайным воротам, выходившим в пустыню, отдал ему папирусный свиток, отреченье свое от престола, и письмо к Хоремхэбу, в котором заклинал его спасти Египет, принять власть.
Когда Заакера поклялся, что все будет исполнено, царь обнял его, поцеловал в уста и, сняв с головы, надел на него свой царский шлем – хеперэш, с золотою, на челе, солнечной змейкой, Утой; снял с себя также весь царский убор, облекся в одежду странствующего жреца, уаба, закинул за плечи котомку, взял в руки посох и вышел из ворот.
Полная, почти ослепительно-яркая луна стояла высоко в беззвездном небе. Угольно-черные тени ложились на белый песок, искрившийся, как снег, сапфирными искрами, и четко чернели на краю неба треугольники далеких пирамид.
Заакера смотрел на уходившего царя. Быстрым, легким шагом, точно век был нищим странником, шел он по едва заметной тропе, шакальему следу, в соседнее рыбачье селенье, Пта-Соккарис, – два десятка слепленных из ила, убогих лачуг.
Уходил – уменьшался: только что маячил зверем, и вот уже птица – мышь – муравей – точка; меньше, меньше и совсем исчез, истаял в лунном огне.
«Странно! – думал Заакера, не чувствуя, как слезы текут по лицу его. – Нет Бога, я знаю, что Бога нет, так отчего же?..»
Не кончил – вздрогнул, как будто за него кончил кто-то.
«Есть Бог! Есть Бог! Оттого он и ушел, что Бог есть!»