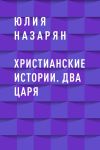Текст книги "Мессия"

Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
IX
С плоской крыши Хнумова дома Дио смотрела на пожар в Заречьи. Горел Чарукский дворец, местопребыванье царского наместника, Тутанкатона. Весь деревянный, из очень старого, сухого кедра и кипариса, он пылал жарко и ровно, как смоляной факел. Голые кручи Ливийских гор, освещенные снизу, рдели как раскаленные; пламя отражалось в реке красным столбом, и белый дым клубился в двойном свете – лунно-голубом и огненно-розовом.
Рядом с Дио стояли на крыше слуги Хнумова дома. На лицах у всех была та безотчетная радость, которую испытывают люди при виде ночного пожара.
– Вон, вон выкинуло где! Женский терем горит, – сказал кто-то.
– Нет, притвор царевичев, – возразил другой.
– А вот и в саду занялось, у самого озера; должно быть, часовня Атонова.
– А ведь это, чай, все он, Кики Безносый, орудует, – его рук дело!
– Вволю пограбят, небось, руки погреет голытьба заречная!
– Глянь-ка, братцы, глянь, и на нашей стороне началось! – радостно указал кто-то на правобережную часть города, где в двух местах сразу вспыхнули огни пожаров.
– Ах, сукины дети, со всех концов запалили! Снизу, по крутой лесенке, взошел на крышу Хнум. Двое слуг вели его под руки. Он только что встал с ложа, больной: после давешнего суда над Юброй сделался у него припадок печени. Старушка Нибитуйя и письмоводитель Иниотеф шли за ним.
Хнуму подали кресло, а Нибитуйя села у ног его, на скамеечку. Дио подошла к ним и поцеловала обоих в плечи.
– Давно ли, дочь моя, из города? – спросил ее Хнум.
– Только что.
– Не слыхала ли чего?
– Бунтовщиков разогнали сейчас у Амонова храма, в Ойзите, а в других местах опять собираются, ходят, грабят и жгут. Прибыли, говорят, ахейские наемники с царским страженачальником, Маху.
О смерти Пентаура она ничего не сказала, потому что не имела силы говорить.
– Чудеса! – пробормотал себе под нос Иниотеф и покачал головой, усмехаясь.
Хнум глянул на него исподлобья, угрюмо:
– Чего бормочешь?
– Чудеса, говорю: сколько верных войск в городе, а на бунтовщиков не послали, дождались ахейцев!
– Молчи, дурак, не болтай лишнего… А царский наместник где? – опять обратился он к Дио.
– Никто хорошенько не знает. Одни говорят, за рекой, а другие – на эту сторону ушел, с верным отрядом нубийцев.
Едва не сказала «бежал», и Хнум это понял.
– Ухух, помилуй, Ухух, помилуй! – завздыхала Нибитуйя. – Как бы злодеям в руки не попался!
Хнум долго, молча смотрел на огонь пожара.
– Так-так-так! Вот оно, вот начинается, – заговорил он тихо, как будто думая вслух. – По Ипуверову пророчеству: «Господами будут рабы, новыми богами сделаются нищие». Юбра-то, Юбра наш, смерд, знал, что делает: знает муравей, куда хватит полая вода: кочку строит, где не смоет. Ушел к бунтовщикам вовремя!
Дио тоже смотрела на пожар, и вдруг нашло на нее знакомое чувство повторенья, возвращенья вечного – нэманк, – «все это уже было когда-то»: так же красное пламя пожара освещало снизу голые скалы и отражалось в черной воде красным столбом; так же белый дым клубился в двойном свете, серебряно-лунном и розово-огненном; так же пронзал ее всю холод мертвых уст: как вошел в нее давеча, когда, прощаясь с Пентауром, поцеловала его, – так и остался в ней.
Быстрые шаги послышались на лесенке. Сотник наместничьих телохранителей, совсем еще молоденький мальчик, взбежал на крышу. По запыленному шлему, разорванной одежде, бегающим глазам и дрожащим губам видно было, что он прямо из жаркого дела.
– Господину моему радоваться, – проговорил он, подойдя к Хнуму и кланяясь низко. – От его высочества велено сказать…
Так спешил, что задохся.
– Благополучен ли государь наместник? – спросил Хнум, вглядываясь в испуганное лицо мальчика.
– Слава Атону, благополучен, а в большой был опасности. Обнаглела бунтовская сволочь, – беда… Его высочество сейчас будет к тебе, велел приготовить ночлег.
– Сколько с ним человек?
– Тридцати не будет.
– Где же остальные?
– Кто разбежался, а кто к страженачальнику Маху отослан: государь наместник передал ему всю власть над городом.
– Так-так-так, – проговорил Хнум и покачал головой задумчиво: понял, что Тута бежал, как трус. – Маху – воин отважный, бунтовщикам потачки не даст. Надолго ли, Бог весть, а сейчас город спасен… Ну, пойдем, сын мой. Счастлив буду принять его высочество.
Хнум встал и пошел. Все – за ним.
Дио и Зенра спустились во второй ярус дома, где была Диина горница. Вошли в нее. Дио начала раздеваться. Дрожала так, что зуб на зуб не попадал. Всю ее пронизывал насквозь тот же холод, как давеча.
– Что ты дрожишь? – спросила Зенра. Дио ничего не ответила и легла на ложе. Зенра укрыла ее потеплее, поцеловала и хотела выйти, но Дио взяла ее за руку.
– А знаешь, няня, Пентаур убит, – сказала тихо, как будто спокойно.
Ноги у старушки подкосились. Присела на край ложа, чтоб не упасть.
– Господи, Господи, – прошептала с тем удивленьем, которое всегда рождает в людях внезапная смерть. – Да как же, где, когда?
– Только что, в бунте у Амонова храма.
– Ах, бедный! – заплакала Зенра. – Какой был человек хороший. А я-то думала…
Дио усмехнулась:
– Думала, жених? Да, хорош жених, да невеста плоха… Ну, ступай, не плачь, о нем не надо плакать, – хорошо умер, дай Бог всякому так!
Дио закрыла глаза, но, только что Зенра вышла, открыла их и посмотрела в глубину горницы, где лунный луч падал на высокую Амонову арфу с перекрещенными струнами и двумя, на подножьи, радужными солнцами; золотые сердца их тускло искрились в бледном луче. Это была та самая арфа, на которой давеча играл Пентаур тихие песни любви и смерти.
Набежало ли на месяц облако, или помутнело у Дио в глазах от слез, – вдруг показалось ей, что в косом полотнище лунного света на белой стене промелькнула чья-то тень. «Он!» – подумала она и вся насторожилась, как будто ждала, что струны зазвенят. Но молчали, и тень исчезла: ровный свет опять забелел на стене. Дио укрылась с головой одеялом и хотела уснуть, но не могла.
Вдруг послышалось ей, что струны звенят. Откинула с головы одеяло, привстала на ложе, прислушалась: звенят, звенят, поют:
Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,
Ныне мне смерть, как выздоровление,
Ныне мне смерть, как дождь освежающий,
Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!
Снова чья-то тень мелькнула на стене. Ужас напал на нее. Но знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости была сильнее ужаса. О, хотя бы только тень его увидеть, только тени сказать: «Прости!».
Встала с ложа, подошла к арфе. Струны продолжали звенеть тихо-тихо, но внятно. Что-то живое трепетало внизу. Дио опустила глаза и увидела: в сетке перекрещенных струн запуталась летучая мышь и билась о них.
Дио горько усмехнулась, пожалела давешнего ужаса. Глуше глухая стена смерти встала между ними, дальше ушел мертвый в смерть, как будто умер снова.
Бережно освободила она пленницу, поцеловала в головку, встала на стул и выпустила ее в длинное и узкое, как щель, окно под самым потолком.
Вернулась к ложу, легла и тотчас уснула тем мертвым сном, каким люди спят от печали.
– Ну-ка, доченька, вставай, ехать пора! – услышала над собою голос Зенры.
– Ехать? Куда? – пролепетала, еще не открывая глаз.
– В Город Солнца. Тута едет сегодня, и мы с ним. Да ну же, проснись, вот заспалась!
Дио открыла глаза. Темное утро чуть брезжило в окнах: солнце еще вставало. Но всю ее озарила внезапная радость, как солнце: «Ахенатон – Радость-Солнца!» Казалось, только теперь она поняла, что это значит.
Быстро оделась и взбежала на крышу.
Зимнее утро было туманно-тихо, и в тишине его как будто слышалось, что кончен бунт, земля не перевернулась вверх дном, крепко стоит и долго еще будет стоять. Все как всегда: так же под черно-пушистым кедром, в саду, воркуют две белых горлинки, так же доносятся издали, по воде канала, утренние звуки, слегка заглушенные туманом: крик осла, скрип водоподъемных колес, стук прачечных вальков и протяжно-унылая песенка:
Портомой, на плотине стирающий,
Добрый сосед крокодила плывущего…
Так же в утренней свежести пахнет горьким дымком кизяка, точно осеннею гарью на полях родного севера.
Вдруг сквозь холодную белизну тумана засквозила теплая розовость, как небесная радость сквозь земную грусть. «Небо с землей соединяется; на земле радость небесная», – вспомнила Дио слова Озирисова таинства.
– Радость-Солнца, Радость-Солнца – Ахенатон! – повторяла она, плача и смеясь от радости.
Зенра окликнула ее, заторопила. Дио сбежала вниз проститься с Хнумом и Нибитуйей. Хнум благословил ее, и добрая старушка Нибитуйя, обняв ее, заплакала: полюбила, как родную дочь.
Сели в лодку, спустились по Большому каналу в Ризитскую пристань, где ждал наместничий корабль. Тута уже был на нем: выехал до света.
Корабль был двухмачтовый: паруса – тканые, с шашечным узором, широко раскинутые, подобно крыльям сокола; на носу – голова газели, круторогая; на корме – огромный лотос; руль – цветочный куст; рукоять его – голова царя в высокой тиаре; палубная рубка – резная, из акацийного дерева, в два яруса, – маленький чертог, великолепно расписанный и раззолоченный, с кровельной решеткой из царских взвившихся змей; всюду разноцветные флаги. Весь корабль – живое чудо, злато-пурпурно-бирюзовое, – полуптица, полуцветок.
Подняли якорь, отчалили. Солнце встало, туман рассеялся. Свежий ветер, сквозняк из горных ущелий, надул паруса; гребцы ударили в весла, и корабль понесся вниз по реке.
Тута весь день не выходил из рубки; у него болели зубы и щека распухла. Кошка Руру тоже ходила с подвязанной лапой: камнем зашибли ее во время бунта. А когда, наконец, к вечеру, Тута вышел, то имел такой смущенный вид, что Дио подумала: «Точно ошпаренный кот!»
Шутники при дворе сложили впоследствии песенку об этом унылом плаваньи:
Бедный Тута
Стонет в рубке,
Щечка вздута,
Ноют зубки.
Грелся Тута в эту ночку
На Чарукском огоньке
И распаренную щечку
Застудил на сквозняке.
«Ну что ж, раз не удалось, в другой раз удастся, – думала Дио. – Будешь, будешь, кот, мышиным царем!»
Город Солнца, Ахетатон, новая столица Египта, находился в Заячьем уделе, на полпути между Мемфисом и Фивами, в четырехстах атэрах к северу от Фив.
Плыли только днем, останавливаясь на ночь в пристанях: ночное плаванье было опасно из-за множества мелей и омутов. Русло Нила постоянно менялось, особенно во время зимнего мелководья. Кормчий, стоя на носу корабля, все время ощупывал дно шестом.
Миновали большую торговую гавань Копт, откуда шел караванный путь через пустыню к Черному морю; город Дэндеру с великим храмом Изиды-Гатор; город Абт, где погребено тело бога-человека Озириса, и древнейший город Тинис, столицу первого царя Египта, Мэна.
Но города были редки; большею частью попадались бедные селенья с лачугами из сушеного нильского ила. Однообразно, тихо и просто тянулись по обоим берегам две полосы, желтая – мертвых песков, и черная – плодородной земли: Чернозем – Кемэт – было название самого Египта. Чернота нильского ила, влажно-блестящая, как живой «Изидин зрачок», и желтизна пустыни – жизнь и смерть рядом, в вечном союзе, в вечной тихости.
Была зима – сев. Люди пахали, двоили, боронили, сеяли. Медленно влачились волы, взрывая плугами жирные борозды. Кое-где зеленели уже первые всходы ярко-весеннею зеленью. И далеко разносилась, в молчаньи полей, заунывная песня пахаря.
Мутно-белые воды Нила то быстро текли, стесненные стенами скал, то расширялись, как тихие воды пруда, в плавни и заводи с непроходимыми чащами папирусов и зелеными коврами плавучих лотосных листьев; только вылезавшие на берег гиппопотамы да спускавшиеся к водопою львы и леопарды прорезали узкими тропами эти чащи.
Длинноногий ибис шагал по влажному илу, мерил землю, как мудрый бог Тот, Землемер. Крокодилы на песчаных косах валялись осклизлыми бревнами, и птица бэну, род цапли, расхаживая по спинам их, клевала с них водяных блох или, бесстрашно засунув голову в открытую пасть чудовища, чистила ему зубы.
Когда же падали сумерки, долго еще в вышине пламенела красно-желтая охра скал и чернели на багровом закате девиче-стройные облики пальм и угольно-черные конусы житниц.
Тихи были и ночи, как дни; только лающим воем выли шакалы в пустыне да бычьим ревом ревели на почти ослепительно-яркий месяц, ночное солнце, гиппопотамы в папирусных чащах.
А утром солнце дневное всходило, опять лучезарное. И так же однообразно тянулись вдоль берегов две полосы – желтая и черная; так же медленно влачились волы, взрывая плугами борозды; также заунывно, в молчании полей, разносилась песня пахаря.
И тихо-тихо, всё, как в лице того бога, чье имя «Тихое Сердце».
Вечером на пятый день, миновав скалистое ущелье, как бы крепостные, тесные и темные ворота, корабль вошел вдруг на залитый солнцем простор. Одни ворота – на юге, другие – на севере, а между ними – отовсюду огражденная зубчатыми, тоже как бы крепостными, стенами гор великая равнина, разделенная Нилом надвое: заливные луга до аметистово-розовых, в вечернем свете таявших, Ливийских гор – на западе, а на востоке – полукруг каменисто-песчаной пустыни, отлого подымавшейся к выжженным скалам Аравийских гор. Здесь, между рекой и пустыней, тянулась длинной, узкой полоской зелень пальмовых рощ и садов. В ней, как игральные кости, рассыпались белые домики, и над ними возвышался, тоже весь белый, исполинский храм.
«Город Солнца! Город Солнца!» – тотчас же узнала Дио и подумала с радостным ужасом: «Он здесь!»
И опять, как тогда, над мертвым телом Пентаура, в слове «он» был для нее смысл двойной: он – царь, и Он – Сын.
Вторая часть. Кто он?
I
«Я, Ахенатон Уаэнра, Радость-Солнца, Сын-Солнца-Единственный, так говорю: здесь построю город, во имя Атона, отца моего, ибо никто, как он, привел меня в Ахетатон, удел свой вечный; никто из людей не сказал мне: „Построй здесь город“, – но это сказал мне Отец мой небесный. Ни богу, ни богине, ни царю, ни царице не принадлежит эта земля, но единому Атону, отцу моему. Да процветет же град божий, как солнце цветет в небесах. Вот подымаю руку мою и клянусь: не переступит нога моя за рубеж удела сего, его же оградил Атон горами своими, и возжелал, и возлюбил на веки веков».
Надпись эта была вырублена в круче скал, к северу, югу, востоку и западу от города, на четырнадцати плитах – пограничных камнях, обозначавших Атонов удел, царство божье на земле. Их было четырнадцать, по числу частей растерзанного тела Озирисова, Великой Жертвы, ибо сам царь Ахенатон был второй Озирис.
В четвертый год царствования покинул он древнюю столицу Египта, Нут-Амон, Фивы, и основал новую.
Город строился с такою поспешностью, что едва возведенные зданья уже давали трещины; их кое-как замазывали глиною и продолжали строить. Опытные зодчие, помня мудрость отцов: «наспех – на смех», – только качали головами. Царская казна истощалась; тратились несметные сокровища из ограбленных Амоновых храмов; со всех концов Египта сгонялись десятки тысяч работников; строили даже по ночам, при свете факелов. И чудо совершилось: в десять лет вырос новый город в пустыне: так розовый лотос, некхэб, расцветая за ночь, выходит из-под воды утром; так волшебное марево встает над мреющим зноем песков; но отхлынет вода – лотос увянет; ветер дохнет – рассеется марево.
Дио приехала в Ахетатон за пять дней до великого праздника – двенадцатилетней годовщины с основания города, совпадавшей с днем рождества Атонова, зимним солнцеворотом, когда воскресает – рождается «малое солнце», бог-младенец, Озирис-Соккарис. В первый раз она должна была плясать перед царем на этом празднике.
Тута хотел ее представить ко двору тотчас по приезде; но она не захотела, и он уступил: уступал ей во всем, ухаживал за ней; видимо, ставил на нее большую ставку в большой игре; торговал «жемчужиной Царства Морей», как ловкий купец.
От неудач своих в Нут-Амонском бунте он скоро утешился. Еще в пути получил добрые вести. Друзья при дворе для него постарались: дело с бунтовщиками представили так, что слабость его оказалась благостью, трусость – миролюбьем; с поля битвы бежал, будто бы помня, что «мир лучше войны».
Пять дней до праздника Дио провела в Тутиной усадьбе, на Мерировой улице, близ Атонова храма, готовясь к пляске. Днем не выходила из дому, ото всех пряталась, а ночью подымалась на плоскую крышу храма, где должна была плясать. Здесь училась сама и учила других.
Поздно вечером, накануне праздника, она сидела одна в только что отделанной палате Тутина летнего дома; в зимнем – жил он сам со своей супругой, царскою дочерью Анкзембатоною – Анки. Из соседней половины, еще недостроенной, где днем работали каменщики, плотники, маляры и штукатуры, пахло свежею известью и краскою. Тем же запахом нового дома, казалось ей, пахло по всему городу.
Красные, с зелеными венцами пальмовых листьев, столпы поддерживали небесно-голубого цвета потолок. Нежная роспись шла по белой стене: водяные тонкие, как волосы, травы и порхавшие над ними желтые бабочки.
В забранные каменной решеткой узкие и длинные окна-щели под самым потолком веяла свежесть зимнего вечера. Сидя на низком ложе, кирпичном помосте, устланном коврами и обложенном подушками, Дио куталась в критскую шубу, волчий мех, и грелась у очага, глиняного блюда с жаром углей.
«Завтра увижу его», – думала со страхом. В первый же день по приезде начала бояться; чем дальше, тем больше; и вот, в эту последнюю ночь перед свиданьем, напал на нее такой страх, что, казалось, бежала бы, если бы дала себе волю. В жар и холод кидала ее мысль о том, как завтра будет плясать перед царем. «Руки-ноги отнимутся; споткнусь, растянусь, осрамлю бедного Туту!» – смеялась она, как будто нарочно растравляла смехом страх.
В глубине палаты две лампады теплились в двух впадинах стены, часовенках, с плоскими, на алебастровых плитах, изваяньями, налево – царя, а направо – царицы. Между ними, в простенке, бирюзово-голубые, по золотисто-желтому полю, столбцы иероглифов славили бога Атона.
Дио встала, подошла к левой впадине и заглянула внутрь, на изваянье царя. Стоя у жертвенника, подымал он два круглых жертвенных хлебца, по одному – на каждой ладони, к лучезарному кругу Солнца. Высочайшая, острая, как веретено, царская шапка-тиара казалась слишком тяжелою для маленькой детской головки на тонкой, как стебель цветка, гнущейся шее. Детское личико было неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб. Прелесть обнаженного тела напоминала только что расцветший и уже от зноя никнущий цветок:
Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты;
Ты – росток, текучей водой не взлелеянный! —
вспомнила Дио плач о боге Таммузе умершем.
Шейка, плечики, ручки, икры, щиколки ног – узкие, тонкие, как у десятилетнего мальчика, а бедра – слишком широкие, точно женские; слишком полная грудь, с почти женским сосцом: ни он, ни она – он и она вместе, – чудо божественной прелести.
На горе Диктейской, на острове Крите, слышала Дио древнее сказанье: Муж и Жена были вначале одно тело с двумя лицами; но рассек Господь тело их и каждому дал хребет: «Так режут волосом яйца, когда солят их впрок», – прибавляла, странно и жутко смеясь, старая мать Акаккала, пророчица, шептавшая на ухо Дио это сказанье.
«Режущий волос по телу его, должно быть, прошел не совсем», – думала она, глядя на изваянье царя, и вспомнила пророчество: «Царство божье наступит тогда, когда два будут одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского».
Стала на колени и протянула руки к чуду божественной прелести.
– Брат мой, сестра моя, месяц двурогий, секира двуострая, любимый, любимая! – шептала молитвенным шепотом.
Вдруг ветер пахнул из окна; пламя лампады всколыхнулось; облик изваянья померк, и засквозило сквозь чудо чудовище – ни старик, ни дитя, ни мужчина, ни женщина; скопец-скопчиха, дряхлый выкидыш, Гэматонское страшилище.
«Ступай же к Нему, соблазнителю, сыну погибели, дьяволу!» – прозвучал над нею голос Птамоза, и она закрыла лицо руками от ужаса.
В то же мгновенье почувствовала, что кто-то стоит за нею; обернулась и увидела незнакомую девочку.
Ткань, прозрачная, как льющаяся вода, обливала струйчатыми складками янтарно-смуглое тело. Верхняя одежда распахнулась спереди, и сквозь нижнюю – виднелись детские, под темною ямкою пупа, складочки кожи. На голове был огромный, глянцевито-черный парик из туго заплетенных и снизу, ровно, как ножницами, срезанных косичек. К темени прикреплена была благовонная шишка – опрокинутая вверх дном тальковая чашечка, наполненная мастью кэми из семи благовоний – «царским помазаньем». Медленно тая от теплоты тела, стекала она душистой росой на волосы, лицо и одежду. Длинный стебель розового лотоса продет был сквозь отверстие чашечки так, что полураскрывшийся цветок его, со сладостно-анисовым запахом, свешивался на лоб.
Девочке было лет двенадцать. Детское личико прелестно, хотя неправильно: слишком вперед выступающий рот, слишком назад откинутый лоб; чуть-чуть косящий взгляд огромных, с удлиненным разрезом, глаз был тягостен: такой взгляд бывает у людей, страдающих падучей. То ребенок, то женщина; жуткая прелесть в этих двусмысленных сумерках детского-женского. Вся полураскрыта, как тот свесившийся на лоб ее, водяною свежестью дышащий розовый лотос, некхэб; на ночь закрывает он чашу свою, сокращает стебель и уходит под воду, а утром опять выходит, раскрывается, и вылетает из него златокрылый Жук, новорожденный бог Солнца, Гор.
Девочка появилась так внезапно, подобно призраку, что Дио смотрела на нее почти с испугом. Долго обе молчали.
– Дио? – спросила, наконец, гостья.
– Да. А ты кто?
Она ничего не ответила, только подняла левую бровь, дернула правым плечиком и опять спросила:
– Что ты тут делала? Молилась?
– Нет, так, просто… смотрела на изваянье.
– А зачем же стояла на коленях?
Дио покраснела, как будто застыдилась. Девочка опять подняла бровь и дернула плечиком.
– Не хочешь сказать? Ну, не надо.
Подошла к ложу и взяла с него газелью шкуру, которую скинула давеча, войдя в палату.
– Холодно у тебя тут, сыро. Жара в очаге не умеешь держать, – сказала, кутаясь. – Что ж, так и будем молчать? Мне с тобой говорить надо.
Села на ложе по-египетски, охватив руками колени и положив на них подбородок. Дио села рядом с нею.
– Все еще не знаешь, кто я? – спросила девочка, уставившись на нее своим тяжелым взглядом.
– Не знаю.
– Его жена.
– Чья?
– Да ты что, нарочно, что ли?
– Царевна? – вдруг догадалась Дио.
– Слава Богу, наконец-то! – проговорила гостья. – Что ж ты сидишь, глазами хлопаешь?
– А что?
– Как что? Царская дочь, кровь Солнца, а ты и головой не кивнешь!
Дио улыбнулась и тут же, на ложе, стала перед ней на колени, как взрослые стоят перед детьми, когда их ласкают.
– Радуйся, царевна Анкзембатона, гостья моя дорогая, желанная! – проговорила от всего сердца и хотела поцеловать у нее ручку, но та ее быстро отдернула.
– Ну вот, теперь лезет к руке! Разве так царям кланяются?
– А как же?
– В ноги, в ноги! Ну да ладно, мне твоих поклонов не нужно, садись… Нет, стой, погоди!
Вдруг тоже стала перед ней на колени.
– Ну-ка, повернись к свету, вот так…
Дио повернулась лицом к стоявшей на полу, рядом с ложем, лампаде, цветочной чаше папируса из голубого стекла, на высоком алебастровом стебле. Анки приблизила лицо к лицу ее и, деловито наморщив лоб, начала ее разглядывать молча, пристально.
– Да, хороша, очень, – прошептала наконец, как будто про себя. – Румяна у тебя какие?
– Я не румянюсь.
– Ну-у!
Помочила на языке мизинец и, подняв его к лицу ее, спросила:
– Можно попробовать?
– Можно.
Анки тихонько провела по щеке ее пальчиком и посмотрела на кончик его, не покраснел ли. Нет, не покраснел.
– Чудеса! – удивилась она. – Сколько тебе лет?
– Двадцать.
– Как же такая молодая?
– А разве двадцать лет старость?
– По-нашему, да. В десять лет у нас выходят замуж, а в тридцать бабушки. Ну, да впрочем, у вас там, на севере, все по-другому: солнце старит, холод молодит, – повторила она с удовольствием, видимо, чужие слова.
Села по-прежнему, охватив колени руками, задумалась.
– Что ты смеешься? – спросила, опять глядя на нее в упор своим тяжелым взглядом.
– Я не смеюсь, а радуюсь, – ответила Дио.
– Чему?
– Не знаю. Так, просто, что ты пришла.
– У тебя все просто… Ты думаешь, я маленькая?… Что он тебе обо мне говорил?
Дио поняла, что «он» – Тута.
– Говорил, что ты умница, красавица и что он тебя любит больше всего на свете.
– Вздор! Это ты из любезности… Оба, должно быть, надо мной смеялись. Говорил, что я в куклы играю?
– Нет, не говорил.
– А вот и играю! Прошлым летом играла, и еще буду, если понравится. Мне все равно, что смеются. Царь говорит: «Маленькие лучше больших; мудрее, – больше знают. Вечность, говорит, дитя, играющее… играющее…»
Забыла, во что играет Вечность; покраснела.
– Ах, чтоб тебя, окаянный! Опять нашерстил, нагрел голову!
Сорвала с головы и отшвырнула парик. Тальковая чашечка звякнула об стену; стебель цветка сломался, и цветок повис жалобно.
– Думаешь, я для тебя нарядилась? Как бы не так! Во дворец иду, на вечерю…
Под париком обнажилась бритая голова с таким удлиненным, тыквоподобным черепом, что Дио чуть не вскрикнула от удивленья. Длинная форма голов у египетских девушек считалась особенной прелестью. Из Митаннийского царства, полуночной земли в верховьях Ефрата, откуда была родом Тэйя, мать Ахенатона, занесен был в Египет странный обычай вкладывать в лубки головы новорожденных детей, чтобы удлинять черепа. Все царские дочери были длинноголовыми. У знатных женщин, а потом и у мужчин тоже вдруг черепа удлинились: из тончайшей антилопьей кожи изготовлялись головные накладки, «царские тыковки».
Может быть, царевна Анки нарочно скинула парик, чтобы похвастать перед Дио: «У тебя, мол, румянец, а у меня царская тыковка!»
– А что, правда, говорят, ты колдунья? – спросила вдруг.
– Нет, не правда.
– За что же тебя сжечь хотели? Дио молчала.
– Опять не хочешь сказать?
– Не хочу.
– Бога Быка убила, Мреура вашего, Аписа?
Апис был Мемфисский, а Мреура – Гелиопольский бык, воплощенный бог Солнца.
– Был и у нас Мреура, – продолжала Анки, не дождавшись ответа. – В позапрошлом году умер. Я его очень любила. Старенький, слепенький. В стойло, бывало, зайду, обниму, целую в морду, а он меня языком лижет в лицо, мычит на ухо, как будто сказать что-то хочет… И такого убить, Господи! Все равно что ребенка…
Помолчала, поглядела на нее исподлобья и вдруг объявила:
– А во дворце вощанку нашли.
– Какую вощанку?
– Восковую куколку, заговоренную; сердце иголкой проколото; чье на вощанке имя, тот умирает. Имя царя было на ней: в царской спальне нашли…
Еще помолчала и спросила:
– Сколько дней, как приехала?
– Пять.
– А вощанку третьего дня нашли.
– Ну так что же?
– Ничего. Языки у людей незавязанные, мало ли что говорят… А ты что все дома сидишь, только по ночам выходишь, прячешься?
Злой огонек блеснул в глазах ее, губы задрожали, лицо искривилось, и, глядя на Дио в упор, спросила она задыхающимся шепотом:
– Ты его наложница?
– Чья?
– Тутина.
Дио всплеснула руками:
– Ох, царевна милая, какой вздор!
– Почему вздор?
– Потому что я ничьей наложницей быть не могу: жрицы Матери – вечные девы. И потом, у каждого свой вкус. Его высочество… Можно правду сказать, не рассердишься?
– Говори.
– Его высочество очень хорош, но мне совсем не нравится!
Анки посмотрела на нее, глубоко вздохнула, как человек, у которого внезапно прошла сильная боль, и прошептала:
– Правда?
– Ну, посмотри мне в глаза, разве не видишь, что правда?
Анки заглянула ей прямо в глаза; потом отвернулась, закрыла лицо руками, и вдруг худенькие плечики ее задергались, все тело затряслось от неслышных рыданий.
Дио подсела к ней, обняла ее и прижала к себе длинную, бритую головку, «царскую тыковку».
– Не веришь?
– Нет, верю. Я ведь давеча знала, что все вздор – и колдунья, и вощанка. Я все нарочно…
– Так о чем же ты плачешь?
– О себе, о себе, что такая злая, подлая! Я тебя как увидела давеча, сразу полюбила и разозлилась. Я всегда, кого люблю, злюсь на того… Ох, да ведь ты еще всего не знаешь! Я карлика Иагу, – старый слуга, верный пес, любит меня, как душу свою, – я его подговорила, чтобы тебя убил, если правда, что ты Тутина наложница. Я бы и его и себя убила, – вот я какая! Как бес в меня войдет, все могу сделать…
Опять заплакала.
– Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, солнышко мое ясное! – шептала Дио, гладя ее по голове, и вдруг вспомнила, что так же, с теми же почти словами, ласкала Эойю. – Все прошло, кончено! Будем любить друг друга, хочешь?
Анки ничего не ответила, только прижалась к ней крепче. Дио молча поцеловала ее в губы и сама заплакала от радости.
Радость, как солнце, вставала в душе ее, и таял в ней давешний страх, как тень в солнце.
«Милая, милая девочка, – думала она, – это он сам, Ахенатон, Радость-Солнца, послал тебя ко мне вестницей радости!»