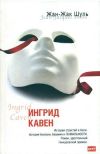Читать книгу "Роман с автоматом"

Автор книги: Дмитрий Петровский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дмитрий Петровский
Роман с автоматом
Пролог
Этот молодой человек появился холодноватым, прозрачным и бесцветным берлинским утром на Шоссештрассе около полвосьмого утра. Скорее всего, он пришел со стороны Пренцлауэрберг, сверху, а может, и со стороны центра, от Фридрихштрассе, хотя последнее кажется менее вероятным. Немногочисленные прохожие, которым люди в форме задавали потом много вкрадчивых вопросов, не смогли в достаточной мере прояснить картину.
Работник киоска с Doener-Kebap[1]1
Турецкий фаст-фуд, еда, аналогичная шаурме в России.
[Закрыть], угол Торштрассе, подтвердил, что в это время мимо его заведения прошел светловолосый парень в синей рубашке и бежевых штанах, кажется, куда-то торопился, хотя и казался рассеянным.
Женщина, прогуливавшая собаку на маленьком пятачке зелени, где Фридрихштрассе изламывается и переходит в Шоссештрассе, и видевшая молодого человека со спины, отметила, что штаны были коротковаты, а тонкая рубашка с коротким рукавом слишком легкой для такой погоды. На вопрос, нес ли человек что-нибудь в руках, женщина ответила, что, кажется, что-то нес в обеих руках, прижимая к груди, кажется, сумку или небольшой сверток.
Австралийский backpacker[2]2
Турист.
[Закрыть], возвращавшийся в это время в youth hostel[3]3
Дешевая гостиница, общежитие для туристов.
[Закрыть], видел молодого человека в тот момент, когда он переходил дорогу, и в своем описании упомянул о «странном, немного пугающем выражении лица». Цвет волос человека австралиец определил как «темный, почти черный». И только турецкий подросток, непонятно что делавший на улице в это время и не запомнивший ни рубашки, ни штанов, ни цвета волос странного прохожего, четко назвал предмет, который так интересовал полицию и который молодой человек держал в руках.
Опрос еще нескольких свидетелей показал, что больше половины из них вообще не заметили оружие, некоторые заметили, но не придали этому значения, а остальные решили, что им показалось.
В самом деле, мысль о том, что человек в гражданской одежде может спокойно, не прячась, прогуливаться по центру столицы с автоматом в руках, была настолько абсурдной, что никто, в том числе полицейские, просто не хотел в это верить. Однако чем дальше продвигалось расследование, тем становилось яснее: дело обстояло именно так. Описать лицо молодого человека никто толком не смог. Все сходились на больших темных, с сумасшедшинкой глазах, высоком росте, синей рубашке, светлых брюках и черных ботинках. Прическу определяли в основном как растрепанное каре, хотя некоторые говорили о проборе, а кто-то даже упомянул косую, падающую на один глаз челку. Составленный полицией портрет оказался из рук вон плох, и в задержанных по нему людях ни один свидетель не опознал утреннего прохожего. Только однажды, уже несколько месяцев спустя, в полицию позвонил один из свидетелей и сообщил, что видел того парня, и, более того, знает, где он работает. Парня задержали: он был низкоросл и бритоголов. Потрепанный похмельный старик-свидетель кричал, что сразу узнал его и что «эти бритые сволочи способны на все». Но из остальных восьми свидетелей ни один не опознал преступника, а кроме того, как выяснилось позже, задержанный чисто физически не мог совершить преступления, в котором подозревался. За недостатком улик он был вскоре отпущен.
Часть I
Горманштрассе – Хоринерштрассе
Когда я выходил из «Невидимки», ресторана, где работал, была уже глубокая ночь. Я поднимался наверх к Горманштрассе, – недавно здесь прошел дождь, улица была пуста, а все шумы перпендикулярной Торштрассе на ночь осели в дорожную пыль, оставив кубометры холодеющего воздуха пустыми и прозрачными.
«Невидимка» – это так называемый «темный ресторан», дорогое и исключительно странное место, непонятное мне и возможное только в этом городе, где возможны прозрачные дома, дома-пещеры и дома-скелеты.
Работал я во вторую смену, почти каждый день и почти всегда до ночи. Работу свою я, впрочем, любил. Наш ресторан был из разряда аттракционов, которые всякий должен «хоть один раз непременно попробовать». Люди приходили, пробовали и уходили, постоянных клиентов у нас не было никогда. Были, впрочем, мужчины, приводившие все новых и новых женщин, желая подарить им «незабываемый вечер». Теперь же я возвращался домой, унося в своей памяти, как обычно, десятки разговоров, слышанных мной за столами, а в ногах – усталость от многих километров, пройденных с полным подносом.
История, которую я хочу рассказать, собственно, началась в тот день, последний холодный день берлинской весны, когда я повстречал на улице этого странного человека.
По Торштрассе проехала, с шипением разрезая тонкую пленку воды, одинокая машина. Я перешел улицу и хотел уже пойти дальше вверх, к моему дому, когда вдалеке показался он. Разные люди появляются здесь в это время. Часто это не совсем трезвые панки, возвращающиеся домой, побрякивая цепочками и нетвердо ступая в своих тяжелых ботинках; запах пива и немытых волос. Иногда – компания: человек пять, с вечеринки, шумные и беспокойные, растянувшиеся по всей ширине тротуара. Или одинокий мужчина, метущий воздух полами длинного пальто; там, немного подальше, есть квартира, где живут веселые женщины в очень коротких юбках, со странными прическами и терпкими духами.
Этот человек шел очень медленно, ступал осторожно, словно боялся споткнуться, все время останавливался, собирал что-то с мокрого тротуара. Уборщик или бомж, подумал я. Человек приближался, а я остановился. Он явно боялся чего-то, приближался ко мне несмело. Но все же шел, и я понял, что он не собирает, а наоборот, что-то разбрасывает. И водянисто-тепленьким, мышиным страхом веяло от него, пока он двигался мне навстречу, поравнялся со мной, обошел, резко прибавив шагу. И ничего больше не разбрасывал. Он суетливо, хоть и и не прибавляя шагу, исчезал в холоде большой улицы, и, кажется, боялся, что его застукают. Разбрасывал бумажки. Бумажки, о которых долго еще будут здесь судачить. Подождав, пока он исчезнет, я стал подниматься по улице, к перекрестку Горман– и Хоринерштрассе.
Хоринерштрассе – улица диковинная, небывалая. Она узкая, и дома на ней огромны: некоторые напоминают глыбы, выточенные из бугристого, теплого цельного камня. Другие окружены тонкими металлическими колоннами, оплетены какой-то тканью, с них свисают веревки, сетки – в таком доме можно запутаться. Дома все выдолблены в горе, на которой стоит улица, – гора спускается к Торштрассе, зимой она замерзает, и тогда по ней можно, наверное, бесконечно катиться вниз, на санках или лыжах. На этой улице невероятное количество запахов: сверху, где начинается Паппельаллее и проходит вторая линия метро, пахнет железной дорогой, горячим металлом, колесами, смолой. От домов пахнет сухими листьями, мокрой доской, стройкой – сложный запах, запах вязкой жидкости, которая, остывая, превращается в камень и пыль. Наверху улицы есть русский магазин, оттуда пахнет солено – это, пожалуй, «капуста» и «огурцы». Внизу есть «китаец», там сладко, пряно, примерно как «корица».
Сейчас на улице работал только один ночной бар, почти рядом с моим домом – там слышались раздерганные голоса уже немолодых людей, слышно было гитарное бренчание и песня, которая, кажется, играла там каждый вечер: «saufen, saufen, saufen, saufen, saufen, fressen und ficken…»[4]4
Бухать, бухать, бухать, трахаться и жрать.
[Закрыть]. Я подошел уже к моей двери, начал искать в кармане ключ, но потом повернулся и пошел дальше – наверх, к линии метро. Что-то было там, я чувствовал издалека, что-то шевелилось в одной из подворотен.
– Крррровопролитие, – прошептал я и стал подниматься дальше.
Сверху вдруг раздался странный, сдавленный писк. С полусекундными интервалами какая-то электронная штука выбрасывала в воздух короткие вскрики. Холодным ветром дохнуло со стороны метро, и несколько капель сорвалось с карниза и упало на лицо; я шел дальше. Писк приближался, а вместе с ним приближался особый, механический, масляный жар. Какая-то строительная машина, которую, должно быть, забыли выключить, стояла у входа в подворотню и сигналила, словно звала на помощь. А в подворотне, в холодной сырости, двигалось тепло, слышалась суетливая возня. Я остановился у арки, прислонившись к ней головой. Там раздавались сухие хлопки, тупые толчки, словно уходящие в вату, уханье хватающих воздух легких, сдержанные вскрики, стоны, гиканье, предваряющее размашистый, вкусный удар. В подворотне кого-то избивали – молчаливо, равномерно, беспощадно и с удовольствием. Непонятная машина все надрывалась, электронный писк раздавался снова и снова.
– Эй, что это? – спросил голос из подворотни, и удары вдруг замолотили в такт сигналам.
– Пип! – выбрасывала машина в мокрую ночь, и в ответ чьи-то сапоги крушили ребра, швыряли из стороны в сторону мотающуюся по асфальту голову, били в живот, отнимая дыхание.
– Хватит! – задыхался кто-то, и машина точно и бесстрастно отвечала: пип!
– Кррровопролитие, – повторил я тихо, прислушиваясь к звукам, выплевываемым аркой в узкую улицу.
– Еще, еще! – гыкала подворотня.
– Пип! – отвечала машина, и снова: пип, пип, пип, – как забытый на орбите спутник, напоминающий о своем существовании.
Под сводами арки продолжали свое дело. Здесь, в Берлине, это бывает. То там, то здесь злая сила этого города показывает себя, а я нахожу в ней свое маленькое успокоение. Жаркие, хищные движения и звуки драки красивы, как грохот строительных снарядов на Постдамерплац. Послушав их, я, пожалуй, смогу заснуть.
Я оторвался от арки и стал спускаться по улице к моей квартире. Шум драки затихал, становясь на расстоянии просто смутным сгустком энергии. А электронный писк машины провожал меня до самой двери, прорезывая темноту: пип, пип!
Фотографии
Wo kommen sie den her, junger Mann?[5]5
Откуда вы родом, молодой человек?
[Закрыть] Можете показать на карте? Сколько это километров от Москвы? Нет, к сожалению, не могу, придется обойтись без карты, расстояний и прочих подробностей, даже без вещественных улик, ведь от моего детства у меня не осталось абсолютно ничего. Коллекция машинок, старый плюшевый мишка или зайчик, школьные тетрадки – все было раздарено, выброшено, оставлено. Не осталось даже фотографий, которые, наверное, где-то есть, но мне совершенно ни к чему. Несколько картинок раннего детства еще плавают в мутноватых коридорах памяти, с каждым извлечением на свет тускнея и теряя очертания.
«Прееелесть, преееелесть!» – успевает пролететь в сером сумраке вскрик, руки матери взлетают, как крылья, а вниз опускаются скелетом, худыми суставчатыми пальцами – и все поглощается чернотой.
– Мама? – спрашивал я, и голос, удаляясь, отвечал:
– Сынок, зови меня Ирра, Ирра, при других людях – Ирра! Это красивое имя, и люди не подумают… Ирра, Ирра!
Вас в детстве взвешивали? Меня – да. Первое воспоминание довольно четкое: меня взвешивают на весах-чашке. Обычно на таких весах взвешивают грудных детей, полуживых, укутанных в пеленки кукол. Я уже был побольше, мог даже сидеть, держась за мамину руку: меня раздели и, придерживая, посадили на весы. Конечно, я не помню ни лиц, ни сюсюканья врача, ни собственного недовольного рева, который, как потом рассказывала мать, я из себя исторг. Помню огромную, абсолютно белую и пустую комнату вокруг и цепенящий холод, идущий от такой же белой стальной выемки весов и прожигающий все тело. Это первое воспоминание не имеет ничего общего с последущими, более поздними: вероятно, поэтому так врезалось в память. Я родился в Краснодаре, южном городе, и остальные картинки – фрагменты моего детства освещает мягкое, теплое солнце. Пыльные улицы с высокими, как тогда казалось, деревьями, нагретые бетонные блоки домов, скамеечки во дворе, на которых мы с ровестником-соседом поедали кукурузу. И главная, самая яркая картинка: газон рядом с детской площадкой, огромное пространство, почти русское поле, сплошь покрытое одуванчиками. Мать фотографировала ФЭДом, увесистой машинкой в кожаном чехле.
– Ах, я так люблю фотографию! – говорила она, задыхаясь от восторга. – Кусочки жизни как осколки вазы! Разве не прекрасно?
Фотография была черно-белая, мутная и нерезкая – вместо пахучих цветов получились какие-то ошметки пыли, и фотография вызывала во мне раздражение.
Отец раздражался, когда соседи включали музыку. Что-то стучало и барабанило за стеной, а он пинал ногой батарею, грузно ходил по комнате, приговаривая: «Расстрелять их, сукиных детей, расстрелять!»
Следующие фотографии были уже цветными, снятыми на уродливый пластмассовый «Kodak». Мы в гостях у маминой школьной подруги, в Ленинграде: большой стол с едой в огромной, возможно, коммунальной квартире: салаты, курица в центре, длинные бутылки с вином, улыбающаяся подруга мамы с угрюмым мужем, и оба они уставились в объектив неестественно большими, красными от вспышки глазами. Рядом – седая полная женщина с круглым лицом и одним железным, выставленным напоказ в уродливой щели улыбки зубом и кустистыми бровями, нависающими над такими же, как у других, красными глазами. Мать во главе стола: худая, длинная, словно рвущаяся наружу из косой прорези платья, смуглая и остроносая, с ярко-синими тенями на веках, сверкающая хищным алым ногтем на отведенном в сторону мизинце. Слева – отец, полный, лысеющий человек, немного раскосые монгольские глаза, сверкающие на фотографии темно-рубиновым огнем. Я ближе всех к фотоаппарату, кудрявый светловолосый мальчик со слегка приоткрытым, словно от удивления, ртом, вилка застыла в воздухе: оторвали от вкусной еды и заставили смотреть в объектив. Правый глаз, как и у всей компании, лукаво светится кодаковским красным огоньком, левый же абсолютно желт, как новая пятикопеечная монетка. Мое первое фото со вспышкой.
В Ленинграде делали ремонт. Там ремонтировали улицу, днем дыра в асфальте была небольшой и неопасной, а вечером разрасталась, что-то мерно и страшно двигалось, гудело и горело красными электрическими огоньками.
– Скажи ему! – дергала мать отца за рукав, и тот, показывая в сторону ямы, монотонно говорил:
– Не ходи туда, там опасно! Упадешь…
Мать проходила рядом с краем ямы, приподнимая длинную черную юбку – мать моего соседа была бледной, толстой и рыхлой, а моя мама, которую я не мог называть при всех мамой, а только Ирой, была худой, острой и красивой.
Было все время холодно, хотя в гостях у маминой подруги, на проспекте Ветеранов, который ласково называли «Ветерок», было не так уж плохо. Напротив нашего дома была баня, днем туда ходили мыться бабушки, вечером подходили молодые люди с магнитофонами и бутылками пива в руке, иногда – с непричесанными, будто заспанными девушками под ручку. Окна бани светились желто и тепло, это были, кажется, самые теплые окна в районе. Когда мы вечером гуляли с мамой и проходили мимо, из щелей в дверных проемах сочилось тонкими струйками тепло, а когда дверь открывалась и выходили краснолицые люди, тепло становилось редким, дряблым, словно вываливалось из открытой двери полупустым мешком. Баня – самое теплое место в Ленинграде.
В центре города – мерзкие, тусклые облупленные дома, уродливые решетки, окружающие голые деревья, бессмысленно-огромные дворцы, и Нева, Нева: темный бульон, шлепающий о камни, которые, кажется, никогда не смогут стать теплыми – даже летом, которое, как говорят, в Ленинграде бывает жарким.
Зато здесь было сделано еще несколько снимков. Мы с матерью на мостике, вокруг много людей, а на заднем плане ужасная, сверкающая, как новогодняя елка блестками, постройка: Спас-на-Крови.
Я никогда не видел льющейся крови (ранка на пальце и телевизор не в счет), и поэтому всегда представлял себе это зрелище примерно так: празднично и разноцветно.
– Ах, это московский стиль, не правда ли? Сыночек, здесь убили царя! На папу смотри, сейчас вылетит птичка! – Отец отходит, целится, взводит, нажимает – вспышки нет, только сухой щелчок.
Еще фото: на дворцовой площади, у колонны, я с отцом. День особенно холодный, на площади почти никого. Мать отошла подальше, чтобы захватить в объектив всю колонну. Площадь легла в фундамент снимка огромным серым камнем, отец получился маленьким, а я почти полностью растворился в белом воздухе. И последнее ленинградское фото: вестибюль филармонии, я с родителями иду на концерт. На концерте я заснул, кажется, во время «Ночи на Лысой горе». Но на фото я получился довольно бодрым и радостным, улыбающимся непривычно высоким потолкам и потокам электрического света, рассеиваемым тяжелыми люстрами. Мой левый глаз на фото, отразивший в себе все люстры, снова светится желтым. Правый – красный, как ковер на лестнице, как глаза мамы с папой.
По приезде в Краснодар мне объявили, что скоро начнется зима, потом весна, лето, а потом – осень, и осенью мне надо идти в школу. Я был достаточно развитым ребенком, умел читать и писать печатными буквами, так что в школу меня решили отправить в шесть. Пока же я мог, как дошкольник, последний год наслаждаться ничегонеделаньем, прогулками во дворе под надзором мамы из окна, игрой в машинки на полу и маминым голосом, читающим по вечерам любимые книжки. Впрочем, к школе меня начали готовить заранее: на Новый год я в качестве подарка получил большой и невероятно уродливый китайский ранец, разноцветный, как Спас-на-Крови. Фотография: дедушка с бабушкой на переднем плане, рядом – я, недавно постриженный, почти без кудряшек, прижимающий ранец к груди. Сзади мама, с флакончиком духов в руке, застывшая в ее любимой, угловатой и словно безразличной позе, папа в новой рубашке и с толстым ежедневником, за их спинами – темная, обвешенная серебряными блестками и золотыми шарами елка с красной звездой на макушке. Звезда светилась, напоминая о главной елке страны, о Кремле, далекой Москве, светилась ярко, излучая слабенькое, редкое и ровное тепло, словно предчувствуя скорый свой конец: в следующем году ее не достанут с полки, а ее место займет серебряный, с золотыми шариками, шпиль. Сквозь плывущий, ломающий воздушные потоки вибрирующий жар свечек и теплоту жира, осевшего на новогодней индейке, красный свет звезды отражается в пластмассовой кодаковской линзе, оседает на темной поверхности пленки, а вместе с ним – восемь красных огоньков: глаза мамы, папы, бабушки и дедушки. Мой левый глаз, как поблескивание елочных шаров, снова становится желтым, правый почему-то коричневый, словно нетронутый вспышкой, но тоже с едва заметной желтизной.
После Нового года что-то поворачивается в памяти: картинки детства перестают быть отдельными, словно маленький, невидимый киномеханик нажал на кнопку: кадры замелькали, складываясь в цельную, движущуюся ленту. Кинокамера за ширмой, за занавеской, в дверной щели, в приоткрытой дырочке люка, в трещине на ступеньке лестницы, на багажнике велосипеда, на лампе в детской: снимай, этот фильм будет недолгим, но ярким.
«Невидимка»
На следующий день я проснулся рано, хотя накануне работал, и проснулся оттого, что почувствовал на лице прикосновение молодого горячего солнца. Сначала я сонно и недоверчиво повернулся к нему, а потом, когда осознал, как мощно бьют его лучи, как пахнет в воздухе нагретой пылью и стеклом, как веет из форточки еще робким, но верным теплом, – я понял, что в Берлин наконец-то пришла весна.
В то утро я с удовольствием шел под душ, стоял голый в ванной, чувствуя, как холод насквозь продергивает привыкшее к солнечному теплу тело и как в испуге захлопываются на коже поры, потом втирал в себя мыло, смывал острой струей воды, и долго-долго чистил зубы, представляя, как будет блестеть на солнце моя улыбка.
– Бомбардиррровка! – улыбаясь, рычал я в кафельную стенку, мятные волны моего дыхания отражались от стен и возвращались в лицо теплой волной.
– Бомбардиррровка! – повторял я, стряхивая крошки со стола и маршируя в комнату. – Бомбардиррровка!
В комнате моей всегда стояла сушилка, решетчатая размашистая штуковина из тонкой проволоки, на которой сохло постиранное белье – я снимал его с сушилки и сразу надевал. Тогда я выбрал широкие брюки, кажется, от костюма и тенниску «Lacostе» (выпуклый крокодильчик на груди). В коридоре стояли в ряд ботинки, я надел любимые кроссовки «Nike Air», туго и с удовольствием завязал шнурки, потопав цепко обхваченной тканью ногой по полу, громко сказал: «Бомбардиррровка!» – и открыл дверь в коридор.
Ваш покорный слуга кровожаден. Он любит сотрясать воздух громкими словами, таящими в себе десятки и сотни смертей. Два языка, которыми я владею одинаково хорошо, дают мне богатый выбор. В такое утро, как то, о котором рассказываю, я чувствую себя веселым и полным бродячей энергии, а утренняя энергия – это именно то, что есть в словах «Gasalarm», «Бронетранспортер», «Maschinengewehr» или «Siegersaule»[6]6
Химическая тревога, пулемет.
[Закрыть]. Повизгивая резиной подошв о каменную лестницу, я на бегу повторял еще какие-то слова, теперь уже тише, чтобы не напугать соседей. Лестница пахла чистящим средством, крашеным деревом и еще какой-то неопределенно-сладкой парфюмерией. Радостый и приятный утренний запах, так пахнет в хороших универмагах, в аэропорту Тегель, и в таких вот недавно отремонтированных, чистеньких парадных. Холодные камни дробились под ногами, на краске перил, остывшей за ночь, на самой поверхности пятнышками лежало свежее нежное тепло – недавно здесь прошел человек. Тяжелую дверь на себя, толчок, шаг – и я на улице.
До «Невидимки» мне идти не больше десяти минут – я прошагал их быстрым строевым шагом, вошел в «предбанник» ресторана и так же по-военному поздоровался с ребятами. Там была Аннет, принимающая посетителей у входа, Штефан и Харальд, бойцы невидимого фронта, и повар Ариан, молчаливый и вечно чем-то недовольный. В подсобке я переоделся, а на кухне, под стук ножей и тарелок, сделал себе кофе.
– Как жизнь? – быстро, со смешком спросил Харальд, и, не дождавшись ответа, исчез за дверью.
Глотая кофе с молоком, я услышал, как входная дверь звякнула. Кто-то пришел. Я услышал резкое «Hallo!» Аннет, и два голоса, ответивших ей: мужское, бухнувшее «Abend!» – и мягкое женское «Hey!». Еще одна пара. Если их не напугают цены, наверное, эту пару доверят мне. Аннет принесла меню и начала объяснять, как проходит весь этот аттракцион. Потом она прошелестела к двери, я услышал, как она вешает их одежду на крючок, и поднялся из-за стола. Сейчас надо будет улыбаться. Я попробовал вспомнить какое-нибудь любимое слово, при котором легко растягивать губы. Хиросима – припомнилось мне, но произносить его не хотелось. Дверь скрипнула, обдала волной воздуха с запахом парфюма и колготок, вошла Аннет.
– Пришли двое! Займись ими! – сказала она, и, вздохнув, добавила: – И что они здесь забыли? На улице так солнечно…
– Аннет, посмотри, я в порядке? – Я повернулся к ней, выпрямился, чтобы она посмотрела, хорошо ли сидит на мне моя униформа и нет ли на ней пятен.
– Да, все окей! – Она поправила тонкими влажными пальцами воротничок и слегка подтолкнула: иди!
Я вышел в предбанник, повернулся к столику, за которым сидели двое, и остановился. Какая-то очень слабая волна медленно пересекла помещение, и, потревоженная колыханием тяжелой занавески, растворилась в воздухе. Это была волна человеческого тепла, сгустки воздуха, стая рыбок, несущая в себе какой-то непонятный запах. Волна была именно странная: что-то совсем новое, ни на что не похожее, но в то же время отдаленно знакомое. Это была женская волна – особое, матовое, тяжеловатое, но легко плавающее в воздухе тепло.
Я улыбнулся и подошел к столику, за которым сидела моя пара. Я шел несколько медленнее, чем обычно, стараясь не колебать воздух своими движениями. Да, волна шла отсюда.
– Здравствуйте! – Я представился и начал произносить текст, который говорил ежедневно десятки раз. Я улыбался, показывал свои тщательно вычищенные зубы, старался выглядеть беззаботным и приветливым, при этом незаметно втягивая носом воздух, идущий от сидящей за столом женщины.
– Сейчас мы с вами пойдем в обеденный зал. Там абсолютно темно. Я вам покажу ваш столик и буду сопровождать вас в течение всего вечера. Если у вас возникнут какие-то пожелания, или вам нужно будет выйти – громко зовите меня. Если со стола упадет нож или вилка, не пытайтесь их поднять, скажите мне, и я принесу новые. Сейчас вы, – обратился я сначала к женщине, – положите мне руку на плечо, а вы – на плечо вашей спутницы, и так я проведу вас к вашему столику. Держите крепко, не выпускайте ни в коем случае!
Я повернулся спиной, и на мое плечо легла мягкая, округлая кисть. Она не вцепилась в меня, как это делали когтистые худые пальцы девушек, от которых пахло новыми кроссовками и теплой линией открытого живота, накладывающейся на холод синтетической ткани. Они часто хотели показать, что очень боятся и нервничают перед тем, как вступить в мое темное царство. Эта не боялась, и, кажется, была даже ничуть не заинтересована: рука легла посторонне и безразлично.
Трудно подсчитать, сколько рук лежало то на одном, то на другом моем плече за время, что я здесь работаю. Поначалу я предпочитал, чтобы это были женщины, и иногда эти прикосновения меня волновали. Потом я привык – к сухим рукам немолодых женщин, потным и прохладным, с короткими ногтями, рукам художниц или студенток института искусств, к длинным, толстым, дрожащим, нервным, расслабленным, потеющим, шелушащимся пальцам, пальцам, несущим на себе вязкий панцирь кремов, теплую шероховатость грязи и пыли, кожаное прикосновение автомобильного руля – я перестал отличать их друг от друга.
Эту руку я нес на плече с удовольствием, я боялся ее уронить, стряхнуть, потерять. Она странно пахла, эта рука, ее тепло было каким-то невероятно, невозможно человеческим – так пористо, потаенно, дрожаще, как, возможно, в самом нутре человека. Она пахла орехами, диковинными приправами и бетонной пылью. В Краснодаре, после нескольких дней плывущей и плавящей жары, в городе, где-нибудь на плитах памятников, или на море, у выхода на пляж, на ступенях – такой летний, солнечный и потусторонний запах – так пахнет бетонная пыль. Штора, отделяющая светлую часть ресторана от темной, раздалась, обвела нас своими ткаными боками и, грузно хлопнув, сомкнулась за спинами моих спутников. Я вел их за самый дальний столик, мимо шести рядов других, за которыми уже сидели разные люди. От некоторых столиков поднимался пар еды, на некоторых, в нескольких сантиметрах от скатерчатой поверхности, подрагивал в бокалах холод вина, из разных концов были слышны приглушенные разговоры и ритмичное, мягкое и мокрое движение жующих челюстей. Женщина, державшаяся за мое плечо, молчала, мужчина пару раз негромко чертыхнулся.
У столика я отодвинул стул, повернулся к женщине и легонько тронул ее за плечи, показывая, что можно сесть. Она, как все, медленно и неуверенно опустилась, и пока она садилась, я дышал ею. Мужчина был, кажется, старше ее, его тепло было неприятным: спертым и звериным, почти собачьим. Я коснулся и его – на нем был пиджак, слегка болтающийся на плечах, должно быть расстегнутый. Я спросил, что они будут пить, оба заказали белое вино, и я пошел к другой шторе, за которой была еще одна, а потом – дверь на кухню. Жар кухни чувствовался еще перед первой шторой и запах, который никак не могли изъять усердно сосущие воздух вентиляторы, струился в зал тонкими волнами.
– Белое, два! – крикнул я, открывая дверь, и кто-то, кажется, Штефан, зазвенел бокалами. Мне не хотелось там оставаться, хотелось поскорее в зал, поставить этим двоим на столик вино и хлеб, и, пока готовится то, что они заказали на светлой половине, у Аннет, постоять в темноте за ее спиной и понаслаждаться ее теплом. И много, много было еще мыслей, с которыми хотелось побыть невидимым. Штефан сунул мне поднос с вином и корзиночкой хлеба, я толкнул дверь и прошел задом, чтобы не смахнуть шторой бокалы, в обеденный зал. Голоса все бубнили, не громко, как в обычных ресторанах – темнота вызывала почтение. Людские запахи смешались, я повертел головой, стараясь отыскать тот, который был нужен мне. Да, я чувствовал его: это тепло я различал среди слабых потоков, исходивших из пор других посетителей, среди пара и упругого волокнистого трепетания, источаемого кусками мертвых животных на тарелках, среди еле уловимого колебания атмосферы теплом замороженных и снова согретых овощей; орехи и бетонная пыль. Я пошел туда.
– Да, да, это интересно… – услышал я мужской голос из-за их столика. – Я вот недавно занимался организацией чтений. Интересные авторы. Берлинале? Да, я тоже был в совете…
– Вино пожалуйста! – сказал я беззаботным голосом, словно не заметил, что прервал этого павлина как раз в момент, когда он распускал хвост. – Бокалы справа, попробуйте! Хлеб в центре стола! Первое блюдо скоро будет готово! – Я отошел на два шага за спину женщины и решил, что буду стоять вот так минут пять, пока готовят первое блюдо, а потом так же – когда они будут есть, до второго, и потом третье, и десерт, и еще предложу им что-нибудь. Но просто стоять не получалось.
– Да, Китано, конечно… – бубнил мужской голос.
Она говорила мало, иногда поднимала бокал с вином – тогда теплота вспархивала с нее, ее облака рассеивались по сторонам и снова оседали. У меня вдруг пересохло во рту, и пальцы немного задрожали. Я постоял еще, потом обошел мужчину со спины, нагнулся и аккуратно потрогал пиджак. Пиджак действительно был расстегнут, мужчина в нем неприятно двигался при разговоре. Смутная мысль блеснула и снова погасла. Телефон… нет, у меня нет телефона… тогда….
«Китано! – говорил я себе. – Китано, прекрасно! Она с этим типом. Мне с ней не заговорить. Но в темноте тип ничего не видит, и она тоже – ничего…»
Я снова обошел столик и встал позади женщины. Мне захотелось вдруг подойти, неслышно закрыть ей рот рукой, нашептать на ухо что-нибудь такое, чему она уже не сможет возразить, чем будет мгновенно покорена, и отпустить – тогда она сделает вид, будто ничего не заметила, но все уже случится…
Я повернулся и пошел в сторону шторы. Кажется, пора было принести первое. Ничего не получится – она замолотит ногами и заорет. Заорет сразу, едва я ее коснусь. И правильно сделает. Маньяк. Урод.
Я знал, что из этой идеи ничего не выйдет, но было что-то такое, что не давало мне оставить эту мысль. Этот организатор фестивалей в пиджаке, он ведь не знает, ничего не знает про орехи, не говоря о бетонной пыли, и ничего не чувствует. И темно, совсем темно, это нельзя просто так оставить… Может, он захочет выйти. Или она – женщины чаще выходят. Буду ждать. А вдруг не выйдет…
Я уже снова выходил задом в штору, неся на подносе дымящиеся тарелки. Из другой шторы в зал входил кто-то еще, кажется, Харальд, за ним, руки на плечах, входили новые посетители. Я переждал, пока он пройдет, и двинулся к их столику.