Читать книгу "Москва"
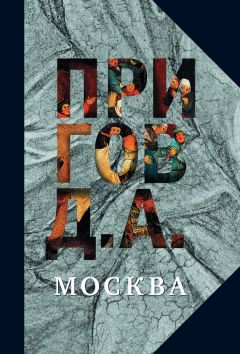
Автор книги: Дмитрий Пригов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Этапы усвоения позднеавангардной традиции и практики не случайно маркированы у Пригова именами Ахматовой или Пастернака. Эти имена соотносятся с определенными пластами времени и сознания, ощутимыми как в начальном периоде лирического творчества Пригова, так и в романе в «Живите в Москве». С одной стороны, «Ахматова» и «Пастернак» фигурируют в «Живите в Москве» как имена, относящиеся в концу 1950-1960-х гг. (не говоря уже о факте реального существования этих поэтов), как знаки еще живой культурной парадигмы. В равной мере они имеют отношение и к актуальной в тот период художественной практике. С другой стороны, в ту эпоху эти имена и связанные с ними тексты переживают «второе рождение», возвращаясь из-под гнета запретов: Ахматову и Пастернака широко читают, распространяют, постепенно публикуют. В это же время Пригов и близкие ему художники концептуалистского круга (хотя это самоопределение еще не было в ходу) ищут позицию за пределами позднеаванградной парадигмы. Так что возрождение исторического авангарда совпадает с временем сознательного отрицания его художественного кредо будущими концептуалистами. В романе «Живите в Москве» этот синхронизм пластов времени и сознания весьма ощутим, в ходе нашего диалога я еще вернусь к этому тезису, когда речь пойдет о структуре романа. Здесь важно отметить, что именно отталкиваясь от акмеистической парадигмы,
Пригов и московский концептуализм начинают существенно новый период – постмодернизм.
Подборка стихов для тома «Москва» движется далее по намеченному сценарию вдоль диахронической оси: разделы «На уровне здравого смысла», «Москва и москвичи» и «Исторические и героические песни» охватывают ядро творчества, так сказать, классического Пригова. В сборнике, вышедшем в Петербурге в 1997 году, этот период был ограничен 1979–1984 годами и озаглавлен «Советские тексты». Однако в нашем сборнике три названных раздела не ограничиваются лирикой, созданной до начала 1990-х гг. Так, например, взвешивающий, рационально оценивающий и сравнивающий все и вся «здравый смысл» доминирует не только в разделе «На уровне здравого смысла», но и в таких циклах, как «Что такое хорошо и что такое плохо» (1997), «Чего не стоит делать» (1998) и «Хорошо иметь много денег» (2007). Смысл здесь, правда, оказывается здравым не потому, что основательно усвоил советскую структуру сознания, а скорее потому, что следует правилам рынка и конкуренции. При этом, однако, нельзяупускать из виду и того, что и здесь прослеживаются связи с авангардом: достаточно вспомнить о восхищении, с которым Хлебников относился к формулам и числам, что ясно отразилось в его «Досках судьбы».
Эти связи становятся еще более явными в разделах «Продолжение рутины» и «Имя отчество» – оба они с точки зрения хронологии относятся к позднему периоду творчества Пригова. Здесь основными приемами становятся расчеты, составление списков и перечисление. Не следует также забывать, что перечисление имен и дат играет огромную роль в романе «Живите в Москве»: лирический прием здесь превращается в нарративный.
В разделе «Продолжение рутины» приемы подсчета сходятся в точке подведения биографического баланса: здесь размещены произведения, созданные уже после завершения того, что Пригов считал своим жизненным проектом. Продолжение письма и продолжение жизни понимаются здесь – так же программно, как и в начале творческой биографии Пригова – как выполнение определенной ежедневной нормы, как «продолжение рутины». В 2001 году выходит «Первый последний сборник», а в предуведо-млении к циклу «Продолжение рутины» 2002 года читаем: «Всякие стихи, после завершения моего проекта, являются как бы посмертными и суть материализация рутины, которая является в данном случае неким метастихом, уже обращая мало внимания на сами стихи с их конкретным содержанием». Создание стихов здесь становится формальным упражнением, «материализацией рутины»; однако такое понимание «поэтической миссии» существовало у При-гова давно: так как с самого начала речь шла о выполнении нормы, о подсчете написанного.
«Азбуки», по большей части, также относятся к ядру приговского творчества и отражают художественный принцип Пригова: история этого жанра в творчестве Пригова начинается в 1980-м году и проходит через всю его творческую жизнь. Мы включили в том также некоторые прозаические тексты раннего периода. В них поражает мимикрия догматических дискурсов, затрагивающая не только стиль, и в особенности, монолитная генеративная динамика, которую Пригов обнаруживает в советской культуре. При чтении этих прозаических текстов становится понятно, почему в ранний период творчества Пригов не мог найти «места для романа».
Георг Витте
Да, создание стихов Пригов с самого начала понимал как «работу». С одной стороны, это означает снижение романтических идеалов художественного творчества до прозаической сферы. А с другой стороны, сама эта работа возвышается до демиургизма. Каждая будничная мелочь и банальность, которым этот «поэт здравого смысла» дает имя, занимает свое место в мифическом космосе.
ГЕНЕРАТИВНАЯ ГРАММАТИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Бригитте Обермайр
«Здравый смысл» подводит нас ко второму важному аспекту, которым мы руководствовались при отборе стихов. Для Пригова характерно некое взаимопроникновение темы или мотивы и места их происхождения, особенно заметное в разделах «На уровне здравого смысла», «Москва и москвичи» и «Исторические и героические песни». Что касается Москвы, т. е. конкретно, цикла «Москва и Москвичи», то можно сказать, что ядро реактора генеративной грамматики – «место говорения», общее место советской культуры не только символически, но и физически располагалось в Москве. Именно это пространство всесоюзного фантазма наполняет и роман «Живите в Москве», хотя здесь речь идет преимущественно о топосах, пришедших из предметного мира (ранней) приговской лирики, о чем мы уже говорили в начале нашего диалога. При этом важно отметить, что уже в стихах специфические loci communes (общие места), являются не «отражением реальности», а продуктами лирических дискурс-анализов. Иными словами, «милицанера» в той форме, в которой он встречается в приговских циклах о «милицанере», само собой, не существовало. Только в лирике Пригова обнаруживается специфическая дискурсивная реальность этого вездесущего принципа порядка, и только в поэзии «здравый смысл» находит имя для этого принципа: М-И-Л-И-Ц-А-Н-Е-Р.
И именно на этом, в поэзии возникшем, милицанере сфокусирована центральная глава романа «Живите в Москве» – «Милицанер московский». В соответствие с поэтической моделью, заглавный герой рассматривается Приговым не столько как персонаж, сколько как ось трансцендентности. И, опять же, этот «милицанер московский» существует только в той Москве, которую Пригов уже создал в цикле «Москва и москвичи». Это касается как «пространства письма Москвы» (здесь следует напомнить о эпиграфе к нашему диалогу), так и Москвы как эпицентра всех катастроф и апокалипсисов. Показательно следующее стихотворении из цикла «Москва и москвичи»:
Когда бывает москвичи гуляют
И лозунги живые наблюдают
То вслед за этим сразу замечают
На небесах Небесную Москву
Что с видами на Рим, Константинополь
На Польшу, на Пекин, на мирозданье
И с видом на подземную Москву
Где огнь свирепый бьется, колыхаясь
Сквозь трещины живые прорываясь
И москвичи вприпрыжку, направляясь
Словно на небо – ходят по Москве
Таким образом, «Живите в Москве» еще и потому представляет собой «роман из стихов», что в основе стихов и романа лежат одна и та же топика, одно и то же поле действия, одни и те же находки и продуктивные силы inventio (нахождения, изобретения). Впечатляющим результатом этой выраженной в языке работами с топосами, как бы возвращенной «на место», осуществленной непосредственно на территории Москвы, стал обширный цикл «Обращения» (1986–1987). Эти минималистические «обращения к народу» («Граждане!»), подписанные «Дмитрий Алексаныч», Пригов развешивал в Москве (в том числе, и в Беляево) на фонарных столбах и деревьях. В том «Москва» мы включили их соответственно в раздел «Москва и москвичи», хотя в равной мере их можно было бы поместить в раздел «На уровне здравого смысла».
Рассматривая проблему преодоления социокультурной нормы в творчестве Пригова, И.П. Смирнов так описал его инновативный метод: поэт не пародирует нормальность, но трансцендирует её, однако не для того – и в этом-то суть – чтобы обозначить разрыв между бытом и метафизикой, а скорее, для того, чтобы этот разрыв нивелировать. Смирнов доказывает свой тезис, приводя в пример бытовые картины, так часто встречающиеся у Пригова, такие, как мытье посуды, борьба с тараканами, стояние в очередях и т. п.; все эти топосы потом встретятся и в романе. Смирнов пишет:
«Чтобы подчеркнуть эту неиерархизованность повседневной жизни, Д.А.П. особенно охотно протоколирует в стихах действия, минимальные по своей значимости, никак не нарушающие рутину, ничем не похожие на сенсацию…» [10]10
Смирнов И. П. Быт и бытие в стихотворениях Д.А.Пригова//Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940–2007). Под ред. Е.Добренко, И.Кукулина, М.Липовецкого, М.Майофис. М.:НЛО, 2010. С. 99.
[Закрыть]
Описанное исследователем снятие оппозиции между бытом и бытием, имеет формальные последствия: именно на этой почве и возникают «стихи в чистой прозе». Однако нельзя забывать и о том, что, несмотря на всю генеративную силу здравого смысла, роман Пригова превращает топику в фантастику. Возможно, это специфический, присущий только роману, выход за границы социальной и культурной нормы? Я еще вернусь к этому вопросу, когда мы будем говорить об отдельных главах романа.
ГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ: НАЗНАЧЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, АЗБУКИ, ПЕРЕСЧЕТЫ
Георг Витте
Да, генеративность, генеративные программы всякого рода действительно вездесущи у Пригова. Один из самых частотных мотивов в еготворчестве – «назначение»: он встречается начиная с «Куликово поле» (1976), где поэт выступает в качестве окликающего всех протагонистоврежиссера. И «Азбуки», начиная с самых ранних и вплоть до поздних, были и оставались назначающими декретами. Однако у Пригова мотивназначения постепенно менял свой характер. В раннем творчестве он касался мифического акта называния, определения имени, обладающего собственной субстанцией, вызывающего предмет к жизни. В позднем творчестве он, скорее, касается таксономического «позиционирования», помещения предмета в систему взаимо-соотнесенных значений. Демиург превратился в счетную машину.
Приговские акты назначения – это комическая, искаженная форма мифопоэтики, в которой смешное и тривиальное сочетаются с псевдо-возвышенным. Эти акты создают мифологический мир из идеологизмов и будничных феноменов. Они наполняют пустой мир так же, как «Москва» заполняет абсолютную пустоту простым актом своего наименования. Центральную роль в этой искаженной мифопоэтике играют имена. Они представляют собой «маркированные точки в опознанном и расчисленном мифо-историческом пространстве» («Поименно», 1992). Пригов изобретает все новые варианты переноса архаических магических практик именования в окружающую его речевую действительность. Он возносит отчество в оккультную область тайных имен («Имя отчество», 1993), он обращается к магии букв и таким образом иронизирует над футуристским поиском празвуков («Изучение звучания Кабакова», 1983). Он играет в древнюю игру мутации порядка букв, связанной с заклинающей и оберегательной магией («Пять палиндромов», 1991). Но главное, у него есть огромное чутье на окликающий характер имен, на призывную, приказную суть речи, обнаруживающуюся в использовании имен. Начиная с ранних концептуалистских стихов, этот аспект становится движущей силой приговской поэтики имен. Именно потому, что в именах смешиваются их мифические и реальные (общественные, частные) «области действия», они способны стать инструментами поэтического демиурга.
Семиотическое безумие нигде не проявляется столь отчетливо, как в «Азбуках». Начиная с 1980 года, Пригов создал более ста «Азбук», и казалось, нет предела его способности наполнять разделы русского алфавита новыми языковыми массами. Эта серия приобретает свою особую окраску на фоне истории жанра азбучного стихотворения. Алфавит традиционно символизирует порожденный языком порядок. Он связан с представлением о коренных, элементарных знаний, изложенных в базовом учебнике. Одновременно алфавит – эта метафора сакральных пратекстов. Первыми церковнославянскими стихотворными текстами стали заимствованные из Византии азбучные молитвы. Они олицетворяли изначальный порядок и гармониюбожественного текста и были наглядным доказательством святости кириллической письменности. Русская литература обращалась к этому жанру в разные эпохи, будь то с сатирической или пародийной целью, как в «Азбуке о голом и небогатом человеке» и в других текстах XVII–XVIII веков, будь то с морально-педагогической целью, как в «Азбуке» Льва Толстого, будь то с целью агитации, как в «Советской азбуке» Владимира Маяковского. Сатирические алфавиты XVIII столетия представляют особый интерес еще и потому, что уже в них становится очевидным превращение статического порядка законоподобного текста в рассказ: повествователи от первого лица рассказывают в этих стихах истории своего обнищания, азбуки содержат конфликты, катастрофы, драмати-ческие перипетии. Этот аспект существенен и для приговского путешествия по краю между текстом как «уставом» и текстом как рассказом. Наконец, «Советская азбука» Маяковского представляет особый интерес потому, что здесь в форме алфавита предлагается нечто вроде образцового запаса, каталога моделей для агитационных стихов. Это в свою очередь указывает на уже упомянутый генеративный потенциал языка и на поэтический текст как на привилегированную конфигурацию этого потенциала.
Азбуки образуют ось, которая проходит через все творчество Пригова от классического «соц-артовского» концептуализма («Американец это враг, англичанин тоже враг») до поздних текстов, отражающих художественное и идеологическое смятение языка постсоветской эпохи. Их можно рассматривать как своего рода трансформатор, благодаря которому комическая мифопоэтика назначения разваливается и остаются элементарные языковые операции неограниченного и не нуждающегося ни в каких мотивировках обмена знаками.
С середины 1990-х годов Пригов изобретает новые жанры – «стратификации», «расчеты», «оценки», которые конструируют новую иллюзию – иллюзию тотального обмена. Богатый инвентарь категорий расчета, распределения, «соотношений и переводов», номерных списков и классификаций, конвертируемостей, «сравнений по подобию, равенству и контрасту» заполняет эти поздние тексты. Конструируются серии эквивалентов, которые из себя самих генерируют новые серии эквивалентов. Таким образом осуществляется триумф универсальной конвертируемости: единицы времени можно пересчитать в градусытемпературы, посещения музея – в ресторанные цены, национальности – в возрастные данные. Теперь и имена, когда-то мифически нагруженные, подвергаются таким процедурам, которые манифестируют не столько их магически-окликающую потенцию, сколько их совершенную произвольность и взаимозаменимость («Смещения», 1997; «Номинация в узком смысле», 1999). Мифопоэтический принцип здесь рушится на глазах: теперь имена больше не генерируют вызванный ими к жизни мир, а вместо этого язык порождает именас помощью одних элементарных процедур количественного соотношения. Эти имена скорее виртуальны, чем мифичны: любое другое дробление исходных слов дало бы жизнь другим именам («Имена, образующиеся из чужой жизни», 2005).
ВРЕМЕНА В РОМАНЕ ИЛИ: КТО / ЧТО ЖИВЕТ В МОСКВЕ
Бригитте Обермайр
Я хочу продолжить наш разговор достаточно банально. А именно: я хотела бы сейчас просто попытаться описать, о чем говорится в отдельных главах романа «Живите в Москве», о чем, о ком и кем рассказывается. С помощью этого описания я надеюсь лучше понять миметическую реальность романа – особенно качество времени в романе. И начну я с отрывка из романа, касающегося этого вопроса:
«Я не рассказчик о событиях своей частной жизни. Но лишь повествователь о мощном общем, общественном бытии, прокатывающемся через меня».
Эти строки представляют собой нечто большее, чем автокомментарий, здесь утверждается одновременное присутствие в романе «Живите в Москве» различных временных пластов. «Я» выступает не только как личное местоимение первого лица единственного числа, но одновременно и как местоимение, замещающее третье лицо – в смысле«”Я” не есть рассказчик», «”Я” не является рассказчиком». При этом можно достаточно точно определить границы времени, в которых разыгрываются основные события романа, времени, о котором идетречь, времени истории (histoire). Роман охватывает детство в периодВторой мировой войны («Москва 1»), послевоенный период правления Сталина («Москва 2»), смерть Сталина и начало эпохи «оттепели» («Москва 3»), годы правления Хрущева, возвращение политзаключенных из лагерей, формирование поколения шестидесятников («Москва 4»). «Москва 5» простирается от оттепели до краткого царствования Андропова, кульминационном моментом этой главы становится 12 апреля 1961 года – дата полёта Юрия Гагарина. В главе «Москва 6» упоминается Горбачев, однако, хронологическое движение вперед нарушается здесь мифопоэтическим циклическим возвращениемк раннему детству. «Москва 6» так же, как центральная глава «Милицанер московский», выпадает из представленной хронологии, на чем мы подробнее остановимся ниже.
Очевидно, что это краткое описание хронологической канвы «Живитев Москве» недостаточно полно раскрывает миметическую, подражающую времени, природу романа. Возможно, ключ к роману кроетсяв процитированном выше самоописании «Я», говорящего о прокатывающихся мимо него волнах времени («Но лишь повествователь о мощном общем, общественном бытии, прокатывающимся через меня»). Важно подчеркнуть, что блок «общего общественного бытия» в том времени, о котором повествуется, – времени последних лет правления Сталина и следующих затем периодов, начиная с «оттепели» вплоть до эпохи застоя и конца советской эпохи – был наполнен действительно мощными историческими волнами, и вправду, как неоднократно указывается в романе, охватывающими целые эпохи, по меньшей мере, метафорически (особенно имея в виду историческую перспективу приближающегося конца Советского Союза). После смерти Сталина оживает не только непосредственное прошлое (последствия войны, заключенные, возвращающиеся из лагерей, и т. п.), к настоящему добавляются и более глубокие пласты, прежде всего, эпоха художественного модернизма и авангарда. В качестве представителей огромного числа еще живых модернистов в романе «Живите в Москве» часто упоминаются имена Пастернака и Ахматовой и связанные с ними анекдоты, причем необязательно возникшие именно в то время, о котором рассказывается (в том числе, и широко известная, циркулирующая во многих вариантах история о звонке Сталина Пастернаку, предположительно, в мае 1934 года, в связи с арестом Мандельштама).
Описываемая Приговым эпоха была не только временем возвращения или же открытия великих произведений русского модернизма и авангарда, одновременно, это была эпоха, когда молодое поколениехудожников взвалило на себя задачу преодоления прошлого, рассматривая глубинные пласты культурной памяти отнюдь не какнеповрежденные и поэтому работая на расширение, дальнейшее опространствливание письма и мышления. В этом отношении московский концептуализм (а время, воскрешаемое в «Живите в Москве» – это, в том числе, и эпоха, когда формируется интеллектуальная среда концептуалистов) – это постмодернизм. Московскому концептуализму было не столь важно продолжать и возрождать уже имеющееся, погребенное, запрещенное, мощно и при этом тайно носящееся в воздухе и спрятанное в архивах. Ему было гораздо важнее поставить точку, цезуру после модернизма. Эта модель, противоположная культу памяти или культуре памяти. Для этого был необходим радикальный отказ культурной памяти, понятой как идеал. Следовало создать, так сказать, путем прибавления приставки «пост», некое парадоксальное «потом», не относящееся к хронологической последовательности. Открыть пространства времени и представлений о нем и, прежде всего, пространства мышления и письма.
В романе «Живите в Москве» путь на территорию «пост» ведет через фантастику. На протяжении всего романа мы сталкиваемся с превращением нарратива в гротескное и фантастическое повествование, главным образом, в форме гиперболизации, отсылающей как к советской гигантомании, так и к апокалиптическим видениям (количество последних, пожалуй, неслучайно увеличивается в главе «Москва 5», последней главе, которую можно расположить на хронологической оси). Характерным примером распространения времени истории на уровень «прежде немыслимого пространства памяти» (Р. Лахманн), является рассказ о конфликтных отношениях между Никитой Хрущевым и интеллектуальными и творческими кругами той эпохи, также известный во многих вариантах. На примере этого эпизода легко увидеть, как Пригов расширяет пространства памяти, полностью переводя нарратив на уровень дискурса и, таким образом, прорываясь в область «немыслимого» или еще не до конца рассказанного. В центре «Москва 4» разворачивается изображение интеллектуальной среды 1960-х годов, обсуждаются и размежевания внутри поколения шестидесятых, а в конце главы возникает рассказ о конце эпохи Хрущева. Последний эпизод актуализирует более широкий постмодернистский нарратив конца, основополагающий для смены культурно-исторической ориентации в самосознании русской интеллигенции.
Как уже упоминалось, кульминационную роль в миметической конструкции романа играют две главы: во-первых, центральная глава «Милицанер московский», во-вторых, финальная «Москва 6». Эти главы являются антиподами друг друга: «Милицанер Московский» следует читать как биографию поэтического имиджа «Дмитрия Александровича Пригова» (написанную как бы от третьего лица), «Москву 6» – как автобиографию (от первого лица). В главе «Милицанер московский», образующей ось симметрии или нарративный фокус всего романа, в полном объеме разворачивается созданная автором дискурсивная реальность, вернее, взрыв советской дискурсивной системы. Согласно автокомментарию, «в отличие от предыдущих глав-описаний, мне не приходится напрягать память». Милицанер московский как «вертикальное» явление представляет собой реальность приговского универсума, «Милицанер московский» – это в особом смысле феномен «из стихов». И поэтому посвященная Милицанеру глава также больше не зависит от «мелких или крупных жизненных пертурбаций». Здесь нет, и это существенный момент, прошлого: «Здесь нет прошлого, в субстанциональном смысле». Зато здесь уже есть «поэт Пригов» о чем мы узнаем из аллюзии к предуведомлению из сборника «Сборник добавлений» (1977). В «предуведомительной беседе» к этому сборнику идет разговор о «Пригове» между «Майором» и «Милицанером». Разговор отличается радикальным непониманием ключевых слов – как например:
МАЙОР Товарищ милиционер, что читаете?
МИЛИЦАНЕР Да вот, «Сборник добавлений».
МАЙОР А-а-а. Похвально, похвально. Наконец-то молодые люди читают слова, сложенные в духе своего времени.
МИЛИЦАНЕР Вот купил, думал, добавления к закону, а это черт-те что, стихи интересного поэта. Я уже давно слежу за ним.
МАЙОР Следите?
МИЛИЦАНЕР Нет. Не в том смысле. Слежу за его творчеством. И в данном случае слежка не только желательно, но и необходима.
Кажется, что этот же или такой же «Милицанер» и «говорит» в романе, когда заинтересуется планами поэтов:
«Кто такие?»
«Мы поэты», – честно отвечали поэты. Не поверить им было невозможно.
«А куда едете?»
«Мы едем к поэту Пригову.
Пригову? – не удивился милиционер.
А что, вы знаете такого?
Знаю. Но творчество его не одобряю».
Не случайно именно в главе «Милицанер московский» плотность самоцитирования оказывается особенно высокой, а способы включения цитат особенно разнообразны. Всё начинается с цитаты, которая преподносится как самоцитата, однако она тут же оборачивается цитатой из чего – то безличного, отсылкой к пред-воспоминанию, предчувствию (нечто подобное происходит в стихотворном цикле «23 явления стихотворения после его смерти»):
«Я побежал в школу. Мне тогда пришла в голову строка, вернее, две строки, про Милицанера, написанные мной же самим, но гораздо-гораздо позднее происходивших событий:
Но Он государственность есть в чистоте,
Почти что себя этим уничтожающая!»
Продолжая свой путь в школу, повествователь и дальше цитирует Пригова – стихотворение «Когда придут годины бед», которое встречается как в цикле «Апофеоз милицанера», так и в цикле «Милицанер и другие»:
«Я шел в школу и рассуждал сам с собой:
– И вправду, вправду, когда, скажем, придут годины бед и стихии их глубин восстанут, и звери тайный клык достанут, ядовитый причем, кто же нас защитит?»
Отрезвляющий вопрос «кто нас защитит?» перекидывает мостик к диалогу, который в конце концов завершится автоцитатой из «Оральной кантаты на вопрос “Кто убил Сталина?”» (1982). Примечательно, что все эти случаи самоцитирования принадлежат к дигрессивному пласту нарратива, пласту комментариев и отступлений, они ближе к анекдоту, чем к стиху. Я еще вернусь к этому наблюдению, когда буду говорить о соотношении предуведомлений и романа.
Итак, если глава «Милицанер московский» представляет собой биографию автора Пригова, или, точнее, биографию автора «ДАП», то глава «Москва 6» маркирует подчеркнуто автобиографический пласт и личную перспективу повествования, которые присутствуют и в предшествующих главах, возникая там местами, но никогда не превращаясь в «искренне искренний» нарратив. Иными словами: «Я» в главе «Милицанер московский» является как бы «я в смысле он» (персонаж из стихов), в отношении к «нему» «я» в «Москве 6» вполне «автобиографическое». Показательно, что автобиографический нарратив возникает лишь в заключительной главе, движущейся в направлении, противоположном логике романа воспитания (по этой логике, повествование должно было бы начаться с детских лет в эпоху правления Сталина и длиться до признания Пригова в неофициальной культуре первых лет перестройки, что и должно было бы завершить роман). Вопреки этим ожиданиям, глава «Москва 6» циклически замыкает повествование, предлагая мифопоэтическую квинтэссенцию детства как своего рода метаморфозного окукливания, заканчивающегося застыванием, полиомиелитом, односторонним детским спинномозговым параличом (что основано на биографическом факте и подробно описано в начальных главах):
«Наутро меня разбил паралич».
При этом в заключительной главе есть намек, указывающий на возможность хронологического развертывания романного сюжета, согласно которому после «Москвы 5» и периода Андропова должна была бы начаться эпоха Горбачева. В отступлении, посвященном борьбе с алкоголизмом, вскользь упоминаются имена Горбачева и Лигачева, хотя при этом главные достижения эпохи – перестройка и гласность – игнорируются. Впрочем, приговский автокомментарий дискредитирует эти временные маркеры как незначительны:
«Особенная активность данного подразделения проявилась во времена Михаила Сергеевича Горбачева и Егора Кузьмича Лигачева – были такие… Ну, да ладно. Я совсем не о том. Я, собственно, о деревянном доме моей бабушки».
Таким образом происходит возвращение к детству – эти мотивы включены в нарративную рамку главы «Москва 6», описывающей поездку юного повествователя и его сестры-близняшки вместе с родителями как раз в деревянный дом бабушки, проживавшей на тогдашней окраине Москвы. При этом центральную роль здесь играют одновременно разворачивающиеся – как и во всей главе «Москва 6» – банальные ожидания родителей и «большие ожидания» детей. Ожидания, будь то детское нетерпеливое предвкушение воскресной поездки или официальное обещание «светлого будущего», появляются здесь окуклившимися, застывшими в предбудущем, которое уже закончилось:
«Мы по-прежнему грелись на солнце.
И тут, и тут выходили родители. Нет, мы не срывались с места, не подпрыгивали, не неслись сломя голову навстречу. Мы были слишком переполнены чувствами ожидания, счастья, праздника, опережающим знанием всего величия и безмерной печалью всего уже как бы заранее пережитого. Некая невероятная тяжесть прижала нас в земле, в то же время странно проявляясь в вяловато-свободном шевелении членов. Тяжесть была сжата в какой-то маленький неимоверный комок, точку, обитавшую глубоко внутри. Я чувствовал, что существую сразу в двух временах и пространствах – ожидания и уже всего этого заранее пережитого».
Эта застывшая тяжесть ожидания ассоциируется с детским параличом, а последний превращается в «свободное пространство» поиска индивидуальной позиции автора – героя. Конец неограниченной возможности движения, выраженный через описание симптоматики детского паралича, противопоставляется здесь легкому парящему движению, стереотипному для советской топики праздника:
«Так вот, бесконечно смеясь, подпрыгивая, пересекая прекрасный мост над мощной городской рекой, по дороге мы много ели мороженого… Количество мороженого, поедаемое населением за день, превышало всякое воображение».
Несовместимые временные пласты постоянно описываются в форме различных форм двигательной динамики, вписанных в человеческое тело, физически не способное их контролировать:
«Но в пределах мировой линии пространства памяти я продолжаю лететь, лететь… Я по-прежнему лечу, прыгаю, чуть поворачивая голову, замечаю себя же, одновременно охваченного другой формой движения…».
Вектор движения (вперед), конечно, немыслим без поездки на метро, подробно описанной в романе, но уже сопровождаемой первыми симптомами детского паралича. Таким образом, фантастические отступления, возникающие в этой части, мотивированы здесь психологически – приступами лихорадки и первыми признаками судорожных припадков.
Таким образом, в финале романа, мы имеем дело не с «поэтом Приговым», а с автобиографическим «Я», болеющим, лишенным способности к движению, «Я» помещенным в «нулевую точку» детства, в безжизненное нечто, располагающееся ближе к смерти, чем к игре. Но как раз в этом неподвижном изолированном состоянии («Меня нельзя было трогать») юный повествователь главы «Москва 1» (вместе со своей бабушкой!) не только встречает милиционера «дядю Петю», но и – в рамках своих возможностей, т. е. с учетом двигательно-физиологическими отклонений и искажений, в соответствии с обусловленной возрастом разницей в росте – становится буквальнымдвойником Милицанера (русское слово «двойник» не содержит имеющуюся в немецком эквиваленте «Doppelganger» сему «движения», «ходьбы»): юный, хромающий повествователь имитирует милиционера и даже идентифицирует себя с несущим «перед его окном» службу милиционером «дядей Петей», который охраняет американское посольство и защищает русских ворон от американских посягательств:









































