Текст книги "Русский литературный авангард и психоанализ в контексте интеллектуальной культуры Серебряного века"
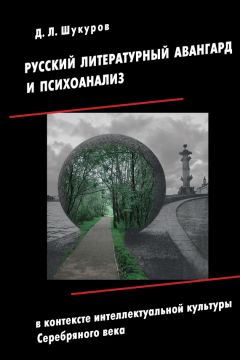
Автор книги: Дмитрий Шукуров
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
3. Звук и образ: преодоление автоматизмов
3.1. В. Б. Шкловский
В исследовании Д. Ранкур-Лаферьера «Потебня, Шкловский и парадокс “знакомого/чужого”», вошедшем в состав объёмистого труда учёного «Русская литература и психоанализ» [182], затрагивается тема методологических противоречий ранних работ В. Б. Шкловского. Эта тема уже неоднократно поднималась как историками русской литературы, так и теоретиками литературного творчества (R. Sheldon [319; 320], V. Erlich [288], О. А. Ханзен-Леве [237]). Например, В. Эрлих отмечал неоправданно резкое критическое отношение В. Б. Шкловского к теории А. А. Потебни, ставшее результатом, с его точки зрения, непонимания самой сути потебнианской концепции:
Уничижительные слова о «потебнианстве» в статьях Шкловского, хотя и не совсем неверные, кажется, свидетельствуют о том, что этот теоретик формального метода сформулировал представление об общей теории Потебни на основе различных переложений, а не работ последнего [288, p. 23].
О. А. Ханзен-Леве объяснял эту предвзятость намеренно антисимволистским настроем В. Б. Шкловского и его молодых коллег по ОПОЯЗу, столкнувшихся с необходимостью решать методологические задачи теоретического обоснования декларативных лозунгов русских футуристов, направленных, прежде всего, на размежевание с эстетикой символизма:
Поражающее в поэтической семантике раннего формализма пренебрежение метафорическими приёмами остранения, – отмечает О. А. Ханзен-Леве, – несомненно является следствием кубофутуристического антисимволизма и его отражения в ранней формалистской полемике против символистской теории образа (прежде всего, у Потебни) [237, с. 140].
Действительно, В. Б. Шкловский, быстро избавившись от научной увлечённости потебнианством, следы которого выразились, например, в такой ранней работе как «Воскрешение слова» (1914), скоро стал принципиальным оппонентом этого учения. Согласимся, что это методологическое размежевание было обусловлено ставшим актуальным для молодого учёного в определённый момент противостоянием футуризма и символизма. В этом смысле В. Б. Шкловский, как и его опоязовские коллеги, оппонировал потебнианскому учению – в его символистской интерпретации.
Однако Д. Ранкур-Лаферьер в названной выше работе предлагает концептуальное объяснение этого методологического парадокса:
Неверное истолкование Шкловским столь уязвимой – в плане усвояемости – научной поэтики Потебни привело Виктора Борисовича к действительно странным выводам, а именно: поэтический язык, в отличие от разговорного, придаёт лингвистическим структурам якобы большую ощутимость. Хотя Потебня и осознавал всю важность формы, однако он был столь поглощён проведением параллелей между языком поэтическим и разговорным, что ему не удалось совершить открытия, сделанного Шкловским [182, с. 17].
Американский учёный напоминает, что особая ощутимость лингвистической структуры поэтического произведения, его фактурность, достигаются, согласно мысли В. Б. Шкловского, при помощи приёмов «остранения» и «затруднённой формы»:
Приём остранения позволяет адресату воспринимать объект или событие как нечто совершенно новое, тогда как приём «затруднённой формы» даёт возможность осознать, при помощи каких лингвистических средств описаны тот или иной объект или событие. Указанное лицо (читатель, адресат) заново познаёт мир, язык, а пожалуй, и всё вместе. Автоматизация восприятия сделалась деавтоматизированной [182, с. 17].
Далее автор делает попытку сопоставления идей В. Б. Шкловского и А. А. Потебни с целью выявления их методологических сходств и различий, а следовательно, и обнаружения причин заочного противостояния учёных. Так, например, Д. Ранкур-Лаферьер очень остроумно находит общность принципа остранения и потебнианской концепции «синекдохичности» художественного образа. Формальный принцип деавтоматизации эстетического восприятия, достигаемый, согласно В. Б. Шкловскому, при помощи приёма «затруднённой формы» (апологетизация творческого эксперимента) имеет сходство с потебнианским пониманием подлинно художественного образа как синекдохи знакомого, известного читателю содержания:
удачный художественный образ может привести к узнаванию, может означать уже нечто известное или являться синекдохой уже знакомого [182, с. 20].
Американский учёный находит парадокс концепции А. А. Потебни в сочетании в художественном образе известного, освоенного традицией, материала и небывалого, нового содержания:
В его словах содержится явный парадокс: читатель находит в образе нечто знакомое и одновременно совершает открытие, обретая нечто новое. Ощущение чего-то уже известного и в то же время увиденного впервые сопутствуют друг другу. Но как, не попирая грубо принципа оппозиции, нечто может быть одновременно старым и новым, знакомым и чужим? Вот это я и называю парадоксом «знакомого /чужого». Сей гордиев узел можно разрубить мечом психоанализа [182, с. 21].
Этот парадокс, с точки зрения Д. Ранкур-Лаферьера, сближает концепцию А. А. Потебни с принципом остранения у В. Б. Шкловского. Однако, что же их разделяет?
Размышления о различиях Д. Ранкур-Лаферьер переводит на язык психоанализа. Остранение как приём, связанный с процессом деавтоматизации, нарушает структуру восприятия, приводит к рассогласованности отрегулированных ratio форм рецепции сознания, разрушает стереотипные формы защиты в инстанции Эго. Но именно благодаря этому, отмечает исследователь, сознание может вернуться, преодолевая механизмы «вытеснения», к ребяческому, наивному, цельному восприятию мира [182, с. 23], то есть к тому дорефлективному состоянию, в котором наше Эго ещё до конца не дифференцировано, находится в фазе формирования, в состоянии первичного симбиоза. Дорефлективное сознание неспособно различать внутренние и внешние границы, различать Я и Не-Я.
Такое состояние может индуцироваться искусством посредством приёма остранения, которое возвращает нам онтогенетическое и филогенетическое прошлое. Вытесненные в сферу бессознательного инфантильные фазы развития актуализируются в необычных образах искусства и литературы.
В. Б. Шкловский, говоря о разрушении стереотипности, заданности восприятия в эстетике и поэтике авангарда, апеллирует к сфере конструктивно-технологических средств достижения эстетической выразительности новаторского искусства и не учитывает, по мнению Д. Ранкур-Лаферьера, внутренние ресурсы художественного образа, потенциально насыщенного синкретическим единством, а значит изначально способного к преображающей функции, перформативному эффекту.
Для А. А. Потебни же «мышление образами» – изначальное условие творчества, возвращающее сознанию как автора, так и реципиента (читателя) возможность внерационального, художественного постижения мира в нераздельной слитности с ним. Состояние творческой нераздельной слитности с миром окружающей действительности сравнивается Д. Ранкур-Лаферьером с симбиотической фазой в онтогенезе сознания. В работе приведена прекрасная иллюстрация этой потебнианской мысли, определённо коррелирующая с психоаналитической герменевтикой субъекта на ранних фазах его развития:
На первых порах для ребёнка ещё всё – своё, ещё всё – его я, – пишет А. А. Потебня, – хотя именно потому, что он не знает ещё внутреннего и внешнего, можно сказать и наоборот, что для него вовсе нет своего я. По мере того, как известные сочетания восприятий отделяются от этого тёмного грунта, слагаясь в образы предметов, образуется и самое я; состав этого я зависит от того, насколько оно выделило из себя и объективировало не-я, или, наоборот, от того, насколько само выделилось из своего мира: всё равно, скажем ли мы так или иначе, потому что исходное состояние сознания есть полное безразличие я и не-я [173, с.172].
В. Б. Шкловский видит задачу искусства (и, прежде всего, новаторского искусства) в преодолении автоматизмов сознания в повседневной жизни и возвращении его к единению с аутентичной реальностью – посредством новаторских практик. Однако, по мнению Д. Ранкур-Лаферьера, учёный не удосужился задуматься, в отличие от А. А. Потебни, что подобное состояние эстетического сознания, помимо ощущения безусловной новизны и небывалости открытия новых форм восприятия действительности, обладает и преимуществом уже некогда пережитого, знакомого, известного в прошлом опыта симбиотического единства с миром:
Шкловский пишет, что художник слова помогает нам увидеть в камне камень, однако Виктор Борисович забывает добавить, что некогда все мы были способны узреть в камне камень: не метательный снаряд для пращи, не объект коллекционирования, не строительный материал, а обыкновенный камень; упускается из виду секундное единение воспринимающего лица с воспринимаемым предметом прежде, чем воспринимающий отделил себя от воспринимаемого [182, с. 23].
Д. Ранкур-Лаферьер объясняет суть методологических различий между позициями В. Б. Шкловского и А. А. Потебни разными ракурсами рассмотрения путей достижения онтологического единства слова и мира.
С психоаналитической точки зрения, художник слова возвращает наше Эго к ранним фазам развития, моделируя симбиотические формы восприятия мира. В диахроническом ракурсе эти формы оказываются знакомыми, так как представляют онтогенетический опыт субъекта. В синхроническом – чуждыми, неизведанными, непознаваемыми, вытесненными в бессознательное.
У А. А. Потебни доминирует диахроническая точка зрения, а у В. Б. Шкловского, наоборот, отмечает американский исследователь, особенно в ранних работах, практически всегда – синхроническая. Обе точки зрения необходимо учитывать как взаимодополнительные, полагает Д. Ранкур-Лаферьер, называя эту методологическую стратегию парадоксом «знакомого/чужого» [182, с. 23]:
Главной точкой спора между Потебнёй и Шкловским стал парадокс «знакомого/чужого». Тогда как потебнианская концепция «синекдохичности» предполагала, что представленный образ уже известен или знаком, понимание Шкловским «остранения» основывалось на том, что произведение искусства преподносит читателю нечто чужое. Существует свидетельство того, что поздний Шкловский знал об обоих полюсах парадокса «знакомое / чужое», хотя и не верил в общую теорию Потебни, и, разумеется, не искал решения данного парадокса в рамках психоанализа. Целью настоящей работы является попытка примирить обе противоположности: в литературном произведении определённые комплексы семантического материала кажутся странными, оттого что, с одной стороны, они эго-дистоничны – разрушительны для эго – и потому обычно подавляются (вытесняются) сознанием индивида, а с другой – совершенно знакомы, узнаваемы, будучи неотъемлемой частью чьего-то прошлого. Тем самым они порождают как «узнавание», так и «видение» [182, с. 26–27].
Д. Ранкур-Лаферьер находит научные параллели описанному лингвистическому феномену [182, с. 17]: концепция деавтоматизации разрабатывалась пражской школой структуралистов (см., напр.: B. Havranek [297]; J. Mukarovsky [313]; T. Winner [325]); также этот принцип был адаптирован психоаналитиками для описания процессов восприятия при гипнозе и схожих состояниях (см., напр.: M. Cill, M. Brenman [281]; A. Deikman [285]).
Названные параллели, действительно, имеют место, однако, с нашей точки зрения, первая из них не является самостоятельной концепцией и представляет вариант развёрнутой концептуальной формулы теории русских формалистов, а вторая – психоаналитическая – вторичным и опосредованными звеном в логике влияний.
В случае с концепцией пражской школы структуралистов речь идёт о саморазвитии идеи «затруднённой формы», которое было продолжено, прежде всего, в работах эмигрировавшего в Прагу Р. О. Якобсона.
Что же касается психоаналитического дискурса, то нельзя не вспомнить о психолингвистических экспериментах на основе теста словесных ассоциаций, проведённых Ф. Риклином и К. Г. Юнгом ещё в 1902–1904 гг. в клинике Бургхольцли в Цюрихе[5]5
Jung C. G., Riklin F. Diagnostische Assoziationsstudien, приложение № 1 к журналу «Zeitschrif für Psychologie und Neurlogie», 1904/1905. См. [302].
[Закрыть] и, конечно, предшествовавших трудам перечисленных Д. Ранкур-Лаферьером психоаналитиков. Результаты этих экспериментов дали научное подтверждение психоаналитической теории парапраксиса и объяснили бессознательную природу психических автоматизмов. Проблемы парапраксиса (речевых ошибок и афатических расстройств), которые были новаторски осмыслены З. Фрейдом ещё в ранний период деятельности, напрямую связаны с теорией деавтоматизации восприятия.
Логика метода свободных ассоциаций, практиковавшегося в психоанализе с момента зарождения, была обусловлена предположением З. Фрейда о существовании в психике человека неосознаваемых ассоциативных связей, сформировавших те или иные типы и способы (комплексы) восприятия, которые приобретают стереотипный, шаблонный, автоматизированный характер «эго-защит» и часто имеют патологические свойства. Задача психоаналитика в работе с пациентом – обнаружить логику формирования комплексов индивидуальной психической жизни и устранить автоматизмы (защиты), сложившиеся в результате психотравм и причиняющие пациенту страдания. Для этого необходимо воссоздать кажущуюся бессвязной картину словесных ассоциаций, спонтанно рождающихся в процессе психоаналитической сессии. Таким образом, проблема преодоления автоматизмов и заданности восприятия, так волновавшая В. Б. Шкловского и формалистов в контексте рецептивной эстетики, была предметом психоаналитического дискурса ещё в самом начале его зарождения.
К уникальным результатам исследований К. Г. Юнга и Ф. Риклина, позволяющим проводить более очевидные параллели между психоаналитическим опытом и поэтикой авангардистов, мы вернёмся после исторического и теоретического обзора идей ОПОЯЗа, лёгших в основу эстетики русского футуризма. Это необходимо для того чтобы уточнить и скоординировать психоаналитический контекст, обозначенный в работе американского исследователя, с учётом названного выше обстоятельства.
Декларативные положения коллективных манифестов и авторских программных статей русских футуристов основывались на творчески продуктивном движении художественной мысли, но были в большей степени интуитивны и поэтому требовали научной рефлексии. Молодые учёные «Общества по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ), созданного в 1916 году и просуществовавшего до 1925 года, предприняли попытку такой рефлексии и научного обоснования футуризма.
Опыт филологического анализа экспериментальных текстов привёл в результате к возникновению новой научной методологии, а затем при закономерном расширении предмета и объекта научного исследования к формированию небезызвестной в истории науки формальной школы литературоведения (В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, Р. О. Якобсон и др.). Определим некоторые концептуальные основы этой теории – в её отношении к футуристической концепции слова, чтобы, как уже было отмечено, конкретизировать параллели Д. Ранкур-Лаферьера.
Мы полагаем, что методологические противоречия теории формалистов, одно из которых было охарактеризовано выше, намного глубже, чем просто результат «антисимволистской» направленности или элементарного непонимания предшествующей лингвистической теории. Оно обусловлено влиянием лингвистического номинализма, скрыто присутствующего в ряде кубофутуристических деклараций, ставших предметом первоочередного анализа у представителей формальной школы. В свою очередь номиналистская тенденция в лингвистике, психологии и философии языка сближает формальную школу и поэтику русских футуристов с психоаналитическим методом понимания языковой образности и звуковой фактурности речи.
Первоначальная теоретическая задача опоязовцев состояла в том, чтобы дать обоснование языковым экспериментам кубофутуристов. Использование в поэтической речи словоновшеств, аграмматических конструкций, фонетической зауми и других авангардистских приёмов должно было, грубо говоря, получить научное оправдание. В этом смысле декларативный разрыв кубофутуристов с литературной традицией был в глазах опоязовцев явлением положительным и означал, прежде всего, освобождение художественного слова от груза литературной дискурсивности, т. е. практически возрождение в обновлённом виде изначальной образности первобытного слова.
Об этом свидетельствует название и теоретический пафос ранней программной статьи В. Б. Шкловского «Воскрешение слова» (1914). Исходя из своеобразно понятых положений А. А. Потебни об утрате словами в процессе развития языка изначальной «внутренней формы», а также теории эпитета А. Н. Веселовского, согласно которой художественная образность эпитета, постепенно истощаясь, превращается в поэтический штамп, молодой учёный формулирует собственную концепцию «воскрешённого» авангардного слова:
И вот теперь, сегодня, когда художнику захотелось иметь дело с живой формой и с живым, а не мёртвым словом, он, желая дать ему лицо, разломал и исковеркал его. Родились «произвольные» и «производные» слова футуристов. Они или творят новое слово из старого корня (Хлебников, Гуро, Каменский, Гнедов), или раскалывают его рифмой, как Маяковский, или придают ему ритмом стиха неправильное ударение (Кручёных). Созидаются новые, живые слова. Древним бриллиантам слов возвращается их былое сверкание [245, с. 40–41].
Возможно ли появление нового «лица» слова, после того как слово «изломали» и «исковеркали»? Однако оставим в стороне чисто текстовые несоответствия, так как они есть следствие более глубоких, концептуальных противоречий.
Любопытно, что в работе «Воскрешение слова» В. Б. Шкловский предпринял попытку объяснить эксцессы футуристической зауми, так импонировавшие ему, ещё в ключе органической теории слова, восходящей к А. А. Потебне, а через него к В. фон Гумбольдту [62], немецким романтикам и Аристотелю и Платону. Слово, согласно этой теории, понималось как живой организм со своим сердцем – «внутренней формой» и развивающимися органами – словоформами с присущими им смыслами и значениями. В России А. А. Потебня и его последователи (А. Л. Погодин [168], Д. Н. Овсянико-Куликовский [157]) развивали на основе данной концепции лингвистическое учение о словесном образе, органически связанном с человеческой мыслью. Символическая природа языка обусловлена мышлением, черпает в нём энергию и одновременно формирует тип мыслительной деятельности человека. Отметим, что эта двойственная взаимообусловленность языка и мышления, её реализация в символических формах художественной речи станут предметом рефлексии не только в теории символизма, но и в психоаналитическом дискурсе – от З. Фрейда и К. Г. Юнга до Ж. Лакана и П. Кюглера [119].
Действительно, учение А. А. Потебни о «мышлении образами» было чрезвычайно популярно в среде русских символистов и стало одной из основ символистского комплекса идей (А. Белый [26]). Ошибочность позиции В. Б. Шкловского обусловлена не столько неправильной трактовкой популярной лингвистической теории (как на это указывают, например, В. Эрлих и Д. Ранкур-Лаферьер, и как это интерпретировали мы в предыдущей монографии [256]), сколько внутренней противоречивостью материала интерпретации, т. е. самих экспериментальных текстов.
Футуристическая заумь не просто отрицала традиционную образность (стремление к обновлённой поэтической образности характерно и для символистов). Заумные эксперименты разрушали принцип словесной образности как таковой. Концентрируясь исключительно на звукографическом комплексе слова, кубофутуристы, по сути, объявляли символом не слово, а букву.
Означаемые буквами звуки, сливаясь со своим графическим изображением, наделяются самостоятельным «заумным» значением. Таким образом, весь звукографический комплекс экспериментального текста предстаёт как своеобразное иероглифическое письмо с той только разницей, что идеограмматическое содержание иероглифов древних культур было сакрализовано божественной санкцией, а визуальная заумь кубофутуристов – творческой волей самих авангардистов…
Забегая вперёд, отметим, что именно безмерная кубофутуристическая увлечённость звуком, «звукографией» поэтического текста – в ущерб его художественной образности – станет предметом «имажинистской» критики футуризма у В. Г. Шершеневича.
Уже в следующей своей крупной работе «Искусство как приём» (1917) В. Б. Шкловский, пытаясь избежать противоречивости концепции, отнесётся критически к потебнианству. Здесь учёный принципиально отверг положение А. А. Потебни и его школы, определяющее искусство как «мышление образами»:
…образы почти неподвижны; от столетия к столетию, из края в край, от поэта к поэту текут они, не изменяясь. Образы – «ничьи», «Божии». <…> Вся работа поэтических школ сводится к накоплению и выявлению новых приёмов расположения и обработки словесных материалов и, в частности, гораздо больше к расположению образов, чем к созданию их. <…> Образы не есть то, изменение чего составляет сущность движения поэзии [246, с. 60].
Отрицание не только традиционной образности искусства, но и самого принципа художественной образности как такового, обусловлено, как нами отмечено, экспериментаторскими поисками кубофутуристов и новым пониманием художественного слова – пониманием, которое очень близко психоаналитической герменевтике языка. Так, например, Ж. Лакан практически повторит тезис футуризма о «букве как таковой», когда будет говорить о «приверженности букве в бессознательном» [120].
Опоязовским теоретикам футуризма, исправившим терминологическую «шероховатость» деклараций, дополнившим их новыми теоретическим положениями, вряд ли удалось сформулировать непротиворечивые определения экспериментального творчества. Однако осмысление футуристических опытов в их работах привело к возникновению имманентного метода в литературоведении. (В этом смысле формалисты много обязаны футуристам, а не наоборот.)
Экспериментальное произведение могло быть проанализировано «изнутри» – с точки зрения технических средств и приёмов, с помощью которых оно «сделано», но, к сожалению, вне широкого историко-филологического контекста. Дело в том, что, несмотря на новизну теоретических задач и новаторство научных подходов, опоязовцы работали в русле хорошо известного лингвистического направления. Популярная лингвистическая теория Ф. де Соссюра, постулаты которой не остались без внимания ни В. Б. Шкловского, ни Р. О. Якобсона, обосновывала произвольный характер языкового знака.
Знаменитый «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра впервые был опубликован после смерти автора в 1916 году и стал хорошо известен в России уже к началу 1920-х гг. именно благодаря формалистам[6]6
Сборник записанных учениками Ф. де Соссюра лекций по общей лингвистике, прочитанных им в Женевском университете. К началу 1920-х гг. относится незавершённый русский перевод А. И. Ромма. Первый полный русский перевод А. М. Сухотина (под редакцией и с примечаниями Р. О. Шор) вышел в 1933 году, впоследствии, в 1970-е годы, был отредактирован А. А. Холодовичем; в настоящее время переиздаются обе редакции перевода (см.: Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977).
[Закрыть].
В этих научных материалах швейцарский учёный-лингвист изложил новаторскую для своего времени модель структурной лингвистики, включающей детально обоснованные постулаты о 1) двухэлементной структуре лингвистического знака (означающее /сигнификатор/, являющееся фонетическим образом, + означаемое, т. е. сигнифицируемый элемент) и 2) произвольном характере связи между означающим и означаемым, а также о 3) теоретическом различении понятий «язык» и «речь» и 4) двух группах языковых отношений – метафорических и метонимических.
Революционным выводом нового лингвистического учения становится понимание языка как самодостаточной системы, элементы которой продуцируют смыслы только в результате структурных взаимоотношений синхронического плана. Взаимосвязь между звуковым, изобразительным и прочими компонентами словесного знака, с одной стороны, и его концептом, с другой – исторически обусловлена и не абсолютна, т. е. является произвольной. (Отсюда происходит позитивистски-номиналистская стратегия произвольного переименования и нового наименования вещей, предметов и явлений окружающего мира, которая станет доминантой эпохальных преобразований революционной действительности в советской России.)
В этом же ключе работал и З. Фрейд: психоаналитический принцип интерпретации символики сновидений, а также произведений искусства и культуры, основан на сугубо номиналистской идее произвольности связей в структуре языкового знака. Ещё в «Толковании сновидений» (1900) З. Фрейд активно использовал термины и терминологические выражения «сгущение», «тождество и символизм» / «метонимическое смещение и синекдохическая конденсация» для обозначения работы механизмов сновидения.
Механизм «сгущения» предполагает произвольное совмещение в явном образе сновидения на основе связи по сходству латентных содержаний и работает по принципу метафоры. Механизм «смещения» формирует метонимические сдвиги в образах сновидений, происходящие по принципу контингентной ассоциативной смежности тех или иных признаков, и часто активизирует процесс фонетизации образа.
Последнее обстоятельство крайне любопытно в свете звукографических и фонетических практик русских авангардистов. З. Фрейд высказывал суждение о произвольном характере связи между звуковыми ассоциациями слов, отмечая, например, что дети
никогда не довольствуются предположением о сходстве слов, не имеющем никакого значения, а последовательно делают вывод, что если два предмета обозначаются одинаково звучащими именами, то, стало быть, этим обозначается их принципиальное соответствие [227, с. 58].
Эта мысль совершенно совпадает с утверждением русского заумника И. Г. Терентьева о том, что слово означает то, что оно звучит:
Антиномия звука и мысли в поэзии не существует: слово означает то, что оно звучит [208, с. 182]!
Таким образом, номиналистские тенденции являются общей характерной чертой развития лингвистики, психоанализа и авангарда в первой трети XX века, а их реализация в литературной теории представителей русской формальной школы, в декларациях русских авангардистов, в психоаналитической концепции и лингвистическом учении Ф. де Соссюра приводит к сходным результатам.
Вернёмся к теме ассоциативного эксперимента К. Г. Юнга, поскольку психоаналитическая трактовка его результатов удивительно близка не только декларативно выраженным футуристическим идеям о звуке, букве и слове, но и их теоретическому осмыслению в работах русских формалистов.
В рамках работы лаборатории экспериментальной психопатологии в клинике Бургхольцли К. Г. Юнгом и Ф. Риклином были проведены успешные исследования, связанные с изучением ассоциативных реакций пациентов на стимульные слова. Несмотря на то, что ассоциативные эксперименты были хорошо известны в психологии второй половины XIX века, исследования К. Г. Юнга и Ф. Риклина дали принципиально новый результат. Суть эксперимента заключалась в сборе, обработке, сопоставлении и анализе свободных ассоциаций, возникающих у пациентов на определённый набор так называемых слов-стимулов. Большое количество «погрешностей» эксперимента в виде неправильно услышанного слова-стимула, заторможенности при ответе или отсутствия ответа, реакций смеха или страха и других симптоматических реакции до опытов К. Г. Юнга не принимались психологами в расчёт и выносились за скобки экспериментальной ситуации. К. Г. Юнг и Ф. Риклин, в отличие от предшественников (например, Э. Крепелина и Г. Ашаффенбурга [277]), обратили на эти явления особое внимание и занялись их изучением.
Опираясь на данные французской школы диссоцианизма (Т. Рибо), а также на известную психоаналитическую концепцию парапраксиса (теория ошибочных действий) З. Фрейда, К. Г. Юнг предположил, что возникающие во время эксперимента отклонения и погрешности являются свидетельством неосознаваемых пациентами эмоциональных факторов и даже целых психологических комплексов, которые обладают автономным по отношению к Эго характером. Ассоциативный эксперимент стал использоваться не только в качестве метода исследования, но и как психотерапевтический способ диагностики и лечения, поскольку позволял выявлять взаимосвязи между речью пациента, его ассоциациями и симптомом, соматическими реакциями[7]7
Практическим результатом этих исследований, как известно, стало изобретение детектора лжи.
[Закрыть].
К. Г. Юнг и Ф. Риклин рассматривали свои эксперименты со словесными ассоциациями в качестве подтверждения открытий З. Фрейда в области парапраксиса, которые были представлены им в работе «Психопатология обыденной жизни» (1901). Результаты свидетельствовали о существовании в личности неизвестных психических факторов, совокупность которых К. Г. Юнг квалифицировал как комплексы («автономная группа ассоциаций, связанных общим чувственным тоном, в основе которого лежит тот или иной психический образ» [301, p. 321]). Комплексы находятся вне пределов сознания и оказывают значительное влияние на формирование сновидений, симптомов и лингвистических ассоциаций. Сам З. Фрейд признавал полученные К. Г. Юнгом данные ассоциативного эксперимента (теста словесных ассоциаций) весомым вкладом в разработку научной базы психоанализа.
Важнейшим результатом проведённых исследований, который принципиален в контексте нашей проблематики, является констатация существования так называемых смысловых и фонетических ассоциаций. Причём сдвиг ассоциаций от семантических к фонетическим обусловлен возрастанием влияния неосознаваемых факторов («автономных групп ассоциаций») на личность испытуемого.
Э. Крепелин и Г. Ашаффенбург [277] также приходили к выводу о том, что с ростом утомляемости испытуемых в ходе эксперимента заметно уменьшалось количество смысловых ассоциаций и возрастало количество фонетических ассоциаций, но объясняли этот процесс именно утомляемостью, физической усталостью участников эксперимента. Чем большая усталость накапливалась в ходе эксперимента у испытуемого, тем меньшее влияние на формирование у него ассоциации оказывала семантика слова-стимула, и тем большую роль играло сходство звучания ключевого слова и словесной ассоциации.
Однако систематические исследования К. Г. Юнга и Ф. Риклина установили иные причины возникновения фонетических ассоциаций. Было доказано, что сдвиг от семантических ассоциаций в сторону фонетических был обусловлен не столько физической усталостью, сколько ослабеванием внимания. Конечно, недостаточность внимания может быть связана с утомлением, но принципиально важный вывод, сделанный в ходе изучения данных эксперимента в Бургхольцли, указывает в качестве непосредственной причины фонетизации ассоциаций усиление влияния бессознательного:
Когда пациенту предлагают подобрать ассоциации к многим словам, например, к двумстам, то даже не испытывая физической усталости, он найдёт, что этот процесс внушает скуку и с течением времени будет выполнять задание с меньшим вниманием, чем вначале. По этой причине мы отделили первые сто ассоциаций от второй сотни; тут-то и обнаружилось, что когда задание начинает надоедать, заметно убывает количество внутренних (смысловых) ассоциаций и наблюдается пропорциональный рост числа внешних (звуковых ассоциаций). Это наблюдение привело нас к мысли, что причина перехода к звуковым ассоциациям кроется не столько в физической усталости, которая обычно не отмечается при скуке, сколько просто в недостаточном внимании… Помимо того, нами был установлен рост доли звуковых ассоциаций у лиц, способность которых к концентрации внимания была снижена под воздействием недавно пережитого ими аффекта или под влиянием психических расстройств… Поэтому можно сказать, что со снижением внимания пациента возрастает количество звуковых ассоциаций [302, p. 171].
К. Г. Юнг и Ф. Риклин пришли к заключению, что в нормальных условиях, в ситуации сосредоточенного внимания, фонетические ассоциации отсутствуют, и напротив,
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































