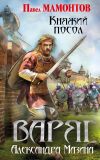Читать книгу "Третья тетрадь"
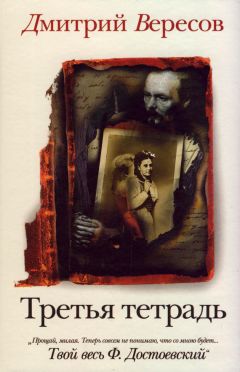
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава 7
Снова Миллионная
Придя домой, Данила залез в ванну, отчасти потому, что это и вообще было его любимое место, но сейчас скорее для того, чтобы скрыться от ласкового, но твердого и внимательного глаза Елены Андреевны. Даниле и так казалось, что дочка архитектора не очень-то благосклонно относится к его поискам всего, связанного с Сусловой, – ей, судя по дневникам, все-таки была чужда эта закусившая удила барышня-бурш. Тем более что она наверняка догадывалась об ее отношениях со столь любимым ею Достоевским – больные, обделенные люди всегда очень чувствительны к такого рода вещам, и в дневнике ее полно тому примеров. А тут вдруг – не письма, не повести, а некая вполне реальная девица с сомнительным именем. И Данила предпочел сразу же уединиться в ванной, предварительно запасшись хорошим косячком.
Зеленоватая вода лопалась пузырьками, рассыпавшимися мелкой дрожью, как уличные лужи в сумрачный, но безветренный день. И дым тоже становился зеленым, прозрачным, постепенно превращаясь в магический кристалл. Конечно, по большому счету, чтобы полностью освободить разум, сейчас следовало бы покурить не простой травки, а опиума, но его под рукой не имелось, а ехать куда-то лень.
Итак, он встретил ныне, вероятно, уже уплывшие гиппиусовские альбомы, которые, разумеется, никогда больше не попадут ему в руки, – и странную девушку-недоутопленницу по имени Аполлинария, явно знавшую Достоевского только по школьной программе, да и то через две страницы на третью. И все-таки суицид или хотя бы даже попытка суицида… Но… И только сейчас, глядя в жемчужное пространство ванной комнаты, ставшее бесконечным и бесконечно живым, Данила вспомнил то обстоятельство, благодаря которому он стоял на мостике Елагина острова. Попадание было точным: письма и дневники Сусловой. Впрочем, в данном случае это было практически одно и то же, поскольку, как известно, Суслиха вписывала в свои тетради не только события дня, но и полученные и отправленные письма вперемешку.
Вода, ставшая теперь голубоватой, нежно плескалась вокруг плеч, как море в недолгую минуту перед летним рассветом. Очень похоже на розыгрыш, но в таком случае – кто его автор? Ни один из знакомых Даха не стал бы тратить на подобное, в первую очередь, время. Деньги – хрен с ними, сколько можно заплатить неумелой девчонке за то, чтобы она вызубрила небольшой кусочек искаженного текста и подкараулила его? Музей – просто совпадение, хотя и крайне удачное, «вихрь столкнувшихся обстоятельств», как говорил Федор Михайлович. Но это могло произойти и совсем по-другому и в другом месте. Девчонка что-то плела про театр – для нее это удачная возможность попробовать себя… Прекрасный этюд – молодая утопленница. Можно попробовать сыграть даже «клинику», что ей, кстати, вполне удалось. Хорошо, с ней более или менее ясно – но платить компании на Островах? Врачам в Первом Меде[67]67
Первый Мед – имеется в виду Первый Медицинский институт на Петроградской стороне; там же расположена больница им. Эрисмана.
[Закрыть]? Деньги, разумеется, небольшие, но все-таки очень хлопотно. И Данила вернулся к первому постулату: никто не стал бы тратить на подобное мероприятие свое драгоценное время. И для чего? Чтобы разыграть его, Даниила Даха, известного в антикварной тусовке как человека жесткого, изворотливого и строго знающего свою нишу. Конечно, везучего… и это, конечно, неплохой крючок…
Данила резко сел, отчего волшебные облака рассеялись и вода вернула свой желтоватый цвет. Все, разумеется, чушь на постном масле, романтика из детского сада. А на самом деле – обыкновенная попытка сознания найти всему реалистическое объяснение. Жалкое сознание, жалкая попытка. Подлинно умный человек знает, что в мире существует тьма необъясненного, необъяснимого и необъясняемого, что и не должно поддаваться формальной логике. Именно в необъяснимом и заключается красота и прелесть жизни, ее неповторимый аромат. И надо открыто принимать неподдающееся разуму как составляющую мироздания. Данила открыл существование этих великолепных подвалов жизни еще мальчишкой и мало-помалу, только личным опытом, научился в них ориентироваться. Это был мир с другими законами, и действовать в нем приходилось, отбросив и свое внешнее «я», и нажитые уменья, и земные привязанности. Нужно было стать совсем пустым, легким, как пузырек в морской пене, ничего не знать, ничего не уметь, а только впитывать всем существом открывающееся тебе – или, вернее, явленное.
Какое-то время Данила просидел в этом странном состоянии полусна-полугрезы, но вот залаяла за стеной собака, задребезжали телефоны, вода остыла. За окнами сумерки давно сменились жидкой грязью ноябрьского вечера, мертвого, холодного, который не спасали ни фонари, ни окна, ни фары. И Данила в сотый раз пожалел о том, что старые ленинградские фонари трупно-синего света зачем-то поменяли на оранжевые московские. То, что подходило к Солянкам и Полянкам, смотрелось дико на изысканном холодном узоре оград и набережных, нарушало гармонию цвета и формы. Он почти со злостью задернул плотные шторы.
И все-таки перед тем, как отправиться спать, Данила, скорее по привычке, чем по необходимости, просмотрел все, что касалось Аполлинарии Сусловой, особенно той осенью. Той необычно теплой осенью тысяча восемьсот шестьдесят первого года. Протянув руку к полкам, он, почти как в первый раз, с удивлением рассматривал тот самый номер «Журнала литературного и политического»[68]68
Журнал литературный и политический – имеется в виду журнал «Время», издаваемый братьями Достоевскими, где была впервые напечатана повесть Сусловой.
[Закрыть], где на двести семьдесят третьей странице, между повестью самого Достоевского и романом в стихах Полонского помещалась шаблонная и плохо скомпонованная – словом, бездарная повесть «А. С-вой».
Перечитывать ее у Данилы не было никакого желания, хотя ввиду предстоящего свидания это следовало бы сделать. Однако повесть была так слаба, что искать в ней знаки судьбы просто не хотелось, и он отложил «Покуда» на то время, когда станет проверять по ней разговор, который произойдет завтра. Только проверять – и не больше.
Отложив журнал, Данила стал перелистывать Герцена, Долинина, Слонима, Петухова[69]69
Долинин, Петухов – исследователи жизни и творчества Достоевского, в том числе исследовавшие отношения писателя с Сусловой.
[Закрыть] и прочих копателей сердечной жизни великого сердцеведа. Все, в основном, крутились возле одного: сначала напечатал, а потом увлекся – или наоборот? Напечатал, чтобы иметь возможность поддерживать отношения дальше и даже более? Но Данилу всегда интересовало в этой истории иное – самый первый, самый тонкий момент узнавания, момент, когда человек, мужчина, вдруг в ослепляющей мгновенной вспышке чувствует, что именно эта женщина – его рок, его судьба, то есть, по большому счету, – его смерть? Где и когда – вторично, главное – как? Впрочем, сейчас большее внимание стоило уделить именно первым двум вопросам, и даже одному – где? Но об этом молчали все.
Впрочем, Данила давно уже знал почти наизусть все высказывания на скользкую тему их первой встречи. Кто только не прошелся по ней! Но если раньше эти изыскания ограничивались лишь академическими статьями, то в последнее время расплодилось неимоверное количество самых разных публикаций, начиная от гендерных журналов и заканчивая дамской прозой. И если в первых Аполлинария именовалась «субстратом зарождения русского феминизма», то последние слюнявили панталоны с оборками и измятую постель.
И сейчас он листал страницы лишь в смутном ожидании, что вдруг глаз или мысль его зацепится за какое-нибудь слово, манжету, дату, излом бровей – и что-то вспыхнет по-новому и… откроется. Но страницы продолжали мелькать лишь шрифтом, от которого уже начинало рябить в глазах, и он выключил свет. В последний момент скорбная улыбка Елены Андреевны просияла ему грустно, но ободряюще, и Данила неожиданно для себя решил, что завтра с утра пораньше, в сумерках, непременно еще в сумерках, отправится к Полонским[70]70
«к Полонским» – поэт Яков Петрович Полонский после второй женитьбы в 1866 году на Жанне Рюльман переехал жить по указанному адресу.
[Закрыть] на угол Николаевской[71]71
Николаевская – ул. Марата.
[Закрыть] и Фуражной[72]72
Фуражная – ул. Звенигородская.
[Закрыть]. Ведь не в Третью же Роту[73]73
Роты – Красноармейские улицы.
[Закрыть] она просто так взяла и явилась к нему! Во всяком случае, тогда она еще вряд ли была способна на такое.
С этой мыслью Данила, обладавший завидной способностью засыпать мгновенно где и когда угодно, сразу же провалился в сон.
И вот уже стриженая девушка в полумужском костюме, гневно сверкая глазами, останавливала посреди Миллионной несчастного велосипедиста, нагло отбирала у него новенький скрипевший кожей «Энфилд» и как-то неуверенно уезжала в сторону Невского, прямо в лапы бегущих чекистов. А в последний момент ее скрывало облако страстей и… времени.
Данила заворочался и коротко простонал во сне.
Глава 8
Театр Юного Зрителя
Рано утром он добрался на машине до ТЮЗа, беспардонно загнал свой серенький «опель» прямо на газон под дерево, на котором еще по-жестяному звенело несколько листьев, и медленно, засунув руки в карманы, двинулся к Глазовской[74]74
Глазовская – ул. Константина Заслонова.
[Закрыть]. Перчатки Данила, как всегда, забыл. По парку в этот утренний час шныряли только собаки, выгуливавшие хозяев, которые жалостно сбивались в кучки, преодолевая холод, раннее утро и сырость. Но Данила спокойно шел среди разномастного собачьего племени; он опасался только непредсказуемых тварей, вроде болонок или питбулей, – остальные всегда безошибочно чувствуют человека и его намерения.
Поэтому он шел не оглядываясь и уже слишком поздно увидел могучего серого кавказца, подбегавшего со стороны театра. Второй трусил сзади, словно охраняя тылы. Впрочем, пес только остановился неподалеку и, чуть склонив лобастую голову, внимательно смотрел на предполагаемую жертву. Данила немедленно вытащил руки из карманов, показывая, что безоружен, и улыбнулся. Собака, казалось, задумалась, но с места не сошла. Так они стояли долгую минуту, внимательно изучая друг друга, пока, наконец, из кустов не раздался свист, и хриплый голос не позвал:
– Ладно, Бегемот, оставь, посмотрел и хватит.
Пес напоследок шумно втянул воздух широкими ноздрями и невинной овечкой убрался туда, откуда, видимо, появился, – в голые кусты сирени. За ним исчез и второй.
Дах невольно провел рукой по лбу – ничего, могло кончиться совсем по-другому – и только потом обозлился. Какой урод гуляет с такой псиной без поводка и намордника?! Хорошо бы найти его и дать хорошенько в морду! Увы, подобное желание было абсолютно невыполнимо, равно как и вызов сюда ментов. Не подкарауливать же этого придурка с отравленной колбасой в кармане!
Он уже вышел на пустынную Фуражную и только тут осознал услышанную фразу. Мало того, что пса назвали именем фиолетового рыцаря, так получается еще и то, что его чуть ли не специально выпустили к нему. Ничего себе, шуточки! Вернуться, что ли, и посмотреть на этого шутника? Но перед Данилой уже открывался такой вид, что он совершенно забыл о нелепом инциденте.
Низкие пепельные сумерки медленно уходили вверх и в стороны над голой осенней улицей, словно клубы дыма. Не было ни трамваев, ни пешеходов, ни машин, только острые углы домов взрезали полусвет, слепо горя кое-где огнями окон. Слева темнела громада подворья Митрофаньевского монастыря[75]75
Митрофаньевский монастырь – имеется в виду подворье этого монастыря, до революции располагавшееся на углу Звенигородской и Кабинетской улиц.
[Закрыть], справа расстилался страшный, грязный, мертвый Семеновский плац, где-то звучали переливы колоколов в ожидании боя часов, готовившихся возвестить половину седьмого. Под ногами тускло блестел ночной иней, и казалось, что ничто никогда не изменит этой картины выморочного города, города, где ноги всегда мокры, а сердца – сухи. Данила передернул плечами. «И как это Яков Петрович здесь жил? Бр-р-р!» Но сразу же за удивлением он на мгновение отчетливо, как в волшебном фонаре, увидел и спешащую по пустынной улице девичью фигуру с недавно остриженными волосами, которая, торопливо поглядывая на номера домов, от поспешности путалась в широченной юбке. В руках у нее была нелепая сумочка, то и дело судорожно прижимаемая к груди. Было видно, что ей и спешно, и страшно, потому что на кругловатых щеках ее горели пятна. Но с каждым шагом все решительней она сжимала большой рот, и все ярче разгорались ее чуть близко поставленные глаза…
Казалось, еще можно было ее остановить, схватить за руку, вернуть к отцу, заставить действительно учиться в Университете, ибо впереди, уже в нескольких десятках шагов, ее ждала встреча, которой она так жаждала – и которая навсегда изломает, растопчет, отдаст ее во владение дьяволу.
Данила поспешно провел рукой по глазам, избавляясь от навязчивого видения. Ну а он-то зачем идет сюда? Неужели для того, чтобы проверить свои ощущения или, может быть, избавить от повторения судьбы другую дурочку? Циничная усмешка вдруг мелькнула на его лице, и тот, кто увидел бы Даха в этот момент, запросто поверил бы, что он способен на любую подлость. О, нет, он давно привык быть честным перед собой и, все больше обманывая других, окончательно перестал лгать себе. Сейчас он откровенно сказал себе, что идет к дому Полонского тайно, затемно, как вор, не для чего иного, как только для того, чтобы самому очутиться в раскаленном водовороте судьбы. Пусть вчера она не протянула ему ни пальчика, ни даже кончика платка, а так, дунула в смоляные волосы, но этого оказалось достаточно. Вдруг… О, Боже! Данила тряхнул головой и остановился на углу.
Этого он почему-то не ожидал: справа был дом, а слева зиял пустырь, на скорую руку превращенный в чахлый скверик. Черт, как это он не удосужился справиться и притащился сюда наобум? Единственный оставшийся на углу дом казался унылым и скучным: грязная охра стен, ни колонночки, ни портика, ни рустовки. Безликий доходный дом. Не может быть, чтобы в нем жил один из пронзительнейших русских лириков, которого обожал Блок! Скорее всего, дом был разрушен во время войны, большинство таких сквериков сделаны в этом городе именно на месте прямых попаданий бомб. Данила обошел дом с двух сторон, сунулся во двор, не почувствовав ничего, и перешел в сквер. Там тоже было пусто, никаких исторических ощущений, а ведь след от любой старинной значительной постройки обладает неким своим послевкусием, этаким своеобразным послезапахом, который опытные люди безошибочно считывают. Может пройти сто, двести, пятьсот лет, но, стоя на месте уничтоженного, скажем, монастыря, понимающий человек всегда будет чувствовать значительность и значимость места. Сейчас же Данила не чувствовал ничего – и, значит, в чем-то ошибся.
Дах отправился позавтракать в бывшую пельменную, в Казачий переулок, более приличные заведения в этот час не работали. Он сидел, смотрел в окно, курил, не думая уже ни о чем, и постепенно утренние миражи рассеялись, как тучи над городом. Данила до того впал в какое-то разморенное теплом и покоем состояние, что едва не опоздал к назначенному времени. На Сенной, как всегда, было столпотворение, в котором его, как ни странно, больше всего раздражали торговки творожными сырками. Почему-то эти невинные колбаски, так напоминавшие Даниле эскимо его детства за одиннадцать копеек, вызывали в нем прилив почти животной ненависти, и каждый раз, проходя мимо цветастых лоточков, он с трудом удерживался от желания пнуть, разбросать, растоптать все это безобразие. И сейчас, проходя мимо, он с привычной легкостью стянул несколько штук, чтобы за углом сладострастно размазать их о стену. Впрочем, на Сенной уже лет двести ничто никого не удивляет.
Над Канавой[76]76
Канава – этим словом герои романов Достоевского называют Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова).
[Закрыть] висело облако смрада, а в бурой воде плавало все, что может выхаркнуть из себя многомиллионный город. Ощущение мерзости усиливалось и липкими от сырков пальцами. Но, едва взойдя на середину моста, Данила замер и забыл об окружавшей его дряни: Аполлинария стояла не просто у дома Астафьевой[77]77
Дом Астафьевой – дом на Казначейской ул., 1, где Достоевский жил с сентября 1861 по август 1863 года.
[Закрыть], но возле самой парадной, откуда ведет лестница на второй этаж, в квартиру Достоевского.
* * *
Картинка за окном изменилась: теперь вместо глухого переулка открывался вид на крышу небольшого двухэтажного домика, и от этого почему-то становилось легче. За крышами синели купола собора. Правда, Маша поначалу настаивала на первом этаже, но он все-таки уговорил ее перебраться повыше. Но ее окна выходили не на собор, а снова в затрапезную улочку, отчего она испытывала болезненное удовлетворение, постоянно попрекая его столь мизерным видом.
И действительно, страшно было заходить к ней: душный запах лекарств мешался с ароматами «Coeur de Jannette», ее любимыми духами, от которых теперь у него подступала к горлу тошнота. Повсюду батистовые платки с кровавыми пятнами, тазы с водой, разведенной уксусом, страшная изнанка женской жизни. Но даже она бывала порой фантастически хороша: нежная фарфоровая кожа, высокие скулы, жадный, луком изогнутый рот…
Смесь вожделения и омерзения овладевала им, и потом он еще долго не мог успокоиться, куря дешевые папиросы и меряя шагами комнату.
А Маша с каждым днем становилась все требовательней – и не только в любви. Вчера, например, приказала, чтоб непременно привел к ней Тургенева, он, мол, к ней расположен, отметил ее еще на постановке в зале Руадзе[78]78
Зала Руадзе – зала дома, принадлежавшего домовладелице М. Ф. Руадзе (ныне наб. р. Мойки, 61), где устраивались литературные вечера, на одном из которых в 1862 году читал и Достоевский.
[Закрыть]. А сегодня с утра и думать запретила об Иване Сергеевиче, зато достань ей хоть из-под земли сирени. А какая в мае сирень?!
Он тяжело прошелся по вытертому ковру. Ощущение пустоты и беспросветности давило душу. Журнал спасал плохо, да еще и когда он будет, тот журнал. А пока ни дела, ни денег, ни видов на будущее. А хуже всего, что нет ничего начатого, чтобы хоть на время уйти в писательскую маяту. И писать, честно говоря, не хочется.
В соборе зазвонили к обедне; синий гул плыл по воздуху кругами, медленно и гулко стуча в окна, в охладевшее ко всему сердце. Ах, Господи, опять он забыл закрыть окна – ведь Маша последнее время не выносит колокольного звона, у нее начинается мигрень или, того хуже, нервные припадки.
И тотчас из ее комнаты послышался сначала тихий, а потом душераздирающий вопль:
– Черти! Черти, вот они, черти!
Он ворвался в комнату, задыхаясь, и увидел, что Маша стоит на кровати, прижавшись к стене, и дрожит крупной дрожью, уродующей ее белое, как маска, лицо.
– Теодор, вот они, вот, на занавеси… и еще там, за трельяжем… Теодор, мне страшно, страшно!
Он с трудом сохранил серьезное и спокойное выражение лица и принялся делать вид, что выгоняет бесов в окно. Маша следила за каждым его движением, и глаза ее, казалось, становились все больше и отчаянней. Наконец, окна были закрыты, и она тихо сползла на подушки.
– А часы? Ты опять забыл часы? – вдруг выкрикнула она и заломила костлявые страшные руки.
С некоторых пор Маша стала требовать, чтобы все часы в доме заводились до такого предела, что лопались пружины. Остались только ходики в ее комнате, и их мерный стук, успокаивая ее, доводил его до сумасшествия.
Но он покорно завел последние часы, сам суеверно веря, что с ними остановится и ее жизнь.
– Ты успокоилась, Маша? – тихо спросил он и осторожно присел на край кровати.
О, этот чудовищный запах больной женщины! Он до боли прикусил губы.
– Успокоилась?! – взвизгнула она. – Так ты ждешь, чтобы я успокоилась? Навеки, конечно? О, да, да, ты только этого и ждешь!
– Зачем ты так?.. Мы же любим друг друга, Маша. – В его словах прозвучали тоска, боль и, может быть, действительно любовь.
– Любим? – Она отшатнулась и презрительно расхохоталась: – Неужели ты и вправду возомнил, что я могла полюбить тебя – каторжника?! Ха-ха-ха! Да ни одна женщина, хоть немного уважающая себя, не может любить такого! Любим! И ты думаешь, что можно любить подлеца, который заманил, наобещал златые горы! Писатель! Гоголь! – Худое тело сотрясалось не то в смехе, не то в рыданиях. – Ни денег, ни квартиры порядочной! О-о-о! За что, Господи, за что?
Он нежно провел дрожащей рукой по спутанным распущенным волосам.
– Прости, если сможешь. Я уйду, не могу…
Маша вдруг стиснула его руку с такой силой, на которую иногда способны чахоточные.
– Не уходи! Слышишь, ты, каторжный, не уходи! – Она привстала на коленях и схватила его за плечи. – Да я никогда никого не любила так, как тебя, а ты, ты… – Кашель начал душить ее, и розовые пятна вспыхнули на щеках. – Я знаю, все знаю, я тебе противна, омерзительна, ты избегаешь меня, ты вместо того, чтобы быть со мной, ночами все ходишь и ходишь… О, я сойду с ума от твоих шагов…
Истерика продолжалась несколько часов, и только к вечеру Мария Дмитриевна, всхлипывая и повизгивая, затихла.
Он вышел к себе и долго курил, глядя в незакатное небо. Так жить ужасно, но ведь и умирать не лучше. У бедной не осталось ничего, кроме болезни и своих фантазий. Боль за нее, за ее обреченность жгла душу. Сколько еще ей осталось – и на сколько хватит его исстрадавшегося сердца?
Ах, если бы дети…
Он вспомнил, как долго и честно пытался перенести не растраченную еще любовь к ней и нерожденным детям на Пашу. Пасынку, быть может, еще тяжелей, чем ему: без отца, при такой матери, – но, увы, он не находил в себе чувств не только родственных, но и просто дружеских. Мальчику семнадцать лет, а ничего серьезного, фатоват, пошловат, самомнение, как у наследного принца. С утра опять за деньгами, причем с таким видом, будто он обязан ему кругом, как у должника требует…
Нет семьи и уже не будет. Ах, эта бездомность в собственном доме, бесприютность, безнадежность.
Он смял недокуренную папиросу и, сам не зная зачем, вышел на улицу. В двух шагах за углом, в Первой роте, сел за грязный столик в дешевом трактире и неожиданно для себя заказал полпива.
Так неужели никогда уже не видать ему счастья, неужели он настолько сроднился со страданием, что никакие неожиданности не способны ничего изменить в его обреченности?
Трактир к ночи все больше заполнялся мастеровыми, рабочими с военных складов на противоположной стороне и проститутками, промышлявшими около Главного лазарета[79]79
Главный лазарет – имеется в виду здание бывшего Госпиталя Семеновского полка (Лазаретный пер., 2).
[Закрыть].
Напротив сидел какой-то смуглый малый, судя по иссиня-черным длинным волосам, цыган, пил водку, и в лице его были такая тоска и такая неопределенность, что хотелось закричать, ударить по столу кулаком или сделать еще что-нибудь, окончательно бессмысленное и непристойное.
Он с отвращением глотал тепловатую жидкость и уже готов был увидеть среди этих простоватых мессалин существо чистое и возвышенное.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!