Текст книги "Третья тетрадь"
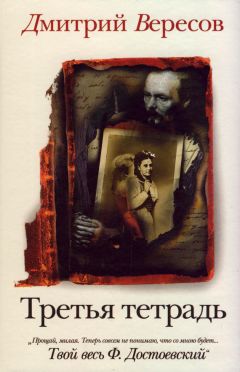
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 9
Казначейская улица
Апа стояла у безликого, пыльного дома, из-под арки которого тянуло не только кошачьими, но человеческими запахами, и удивлялась сама себе. Зачем она притащилась сюда? Надо сказать, что Апа, выросшая на купчинских просторах, вообще не любила и не понимала центра города. Какому нормальному человеку могут нравиться эти скопления улиц, где и ходить-то, кажется, надо согнувшись? Эти страшные дворы размером с пятачок, гниющие помойки, фыркающие тебе буквально в нос машины? Да и в расхваленных парадных местах нет уж ничего такого особенного. На Невском вечно толчея, на набережных – ветрище, в Летнем саду – платный вход. А что касается проживания там всяких великих людей и совершения исторических событий – так ведь это было давно, и никто ведь не живет в музеях.
Правда, после того как она сменила свой маникюрный салон на Бухарестской на крошечный подвал театрика в центре, ей пришлось чаще и плотнее сталкиваться с жизнью этой части города. Надо отдать должное – для переживаний там было уютнее, интимнее и как-то удобнее. Маленькие загазованные скверики таили свое очарование, разномастные дома развлекали, и все было доступней. Но в целом Апа все-таки оживала только тогда, когда возвращалась на вольные выпасы Будапештской, где все было ясно, четко, понятно. Подгулявшая шпана была своя, манера общения в магазинах тоже, и только недавно Апа вдруг поняла, что на самом деле Питер давно уже не Питер, а какое-то странное скопище нескольких совершенно различных городов, волею времени вынужденных существовать вместе. И города эти не только разные, но и находятся друг с другом в постоянной и очень сложной борьбе, если не сказать ненависти, несмотря на то что обречены все время пересекаться, переливаться, спутываться. Еще полгода назад она несомненно встала бы в этой войне на сторону откровенной простоты окраин против жалкого снобизма центра. Однако сейчас что-то стало притягивать ее к этим серым плешивым домам, мутным улицам и загаженным речкам. И Апа не боролась против этой не очень понятной и приятной ей симпатии, поскольку когда-то услышала, что актер должен переплавлять в себе все. И пусть до актерства было еще неизвестно сколько, она честно пыталась поступать именно так – впитывать в себя все что можно и каждый вечер перед сном раскладывать увиденное, услышанное и почувствованное по полочкам.
И вчера она точно так же, как обычно, закрылась у себя в комнате, включила Кипелова, который особенно раздражал родителей, и, свернувшись в клубочек на тахте, начала для начала загибать пальцы на левой и правой руках, раскладывая минувший день для начала просто на плохое и на хорошее.
Набралось поровну, было только непонятно, к плохому или хорошему отнести то, что она не встретилась с Колькой. С одной стороны, не придя в кафе, она правильно показала ему, что не очень-то в нем и нуждается, а с другой, актер он очень и очень неплохой, у него есть чему поучиться, а теперь он, чего доброго, еще возьмет да и пошлет ее подальше. Ну и фиг с ним! Апа, вполне довольная подсчетом, вытянула перед собой кулаки и вдруг с каким-то тоскливым холодком в животе вспомнила, что придется подумать еще и о странной встрече в музее. Честно говоря, она не знала, что о ней думать, и потому думать не хотела. Сейчас, из ясной простоты дома, та пара часов в музее, на улице и в ресторане казалась ей каким-то маревом, призраком, туманом. Или лучше, как бывает в деревне: надышишься в болоте багульником с голубикой – и такая начинается муторная тоска, и с одной стороны на сердце словно камень, а с другой – смех и желание выкинуть что-нибудь этакое. «Ну, надудонилась», – говаривала в таких случаях бабушка и заставляла или пойти искупаться, или вылить на себя ведро холодной воды. Морок и в самом деле сразу проходил. Но сейчас не было рядом бабушки, а лезть в душ, недавно оттуда вылезши, просто не хотелось.
Апа вдруг честно решила поразмышлять. Да, дядька был очень странный… И даже, наверное, интересный, хотя и староват: ему никак не меньше сорока. Это был совершенно запредельный возраст, возраст ее родителей. Но одет как молодой. Странный, одно слово.
Увы, дальше этого скупого и ничего не объясняющего определения мысль не двигалась. Апа прикрыла глаза и заставила себя снова вспомнить черные матовые глаза на сухом, песочного цвета лице, ниспадающие волосы, как у индейцев из фильмов, не очень высокую, какую-то бескостную фигуру – нет, ничего это не давало. Вот голос… голос – да, глуховатый, но бархатный, прямо так и влезающий в душу. И вообще, от него шло тепло, не жар, как от мальчишки, который тебя хочет, а именно тепло, сухое, ровное и обволакивающее. Честно говоря, она ощутила это тепло, еще стоя в музее, ощутила спиной, нет, затылком. Странный…
Из музея мысли Апы перенеслись на улицу. Как это он ее окликнул? Полина? Почему Полина? Может быть, она просто напомнила ему какую-то старую знакомую из времен молодости? Старики ужасно сентиментальны, отец вон до сих пор, как выпьет лишнего, вспоминает одноклассницу из шестого «б», в которую был влюблен. Про маму и говорить нечего – кажется, из всей жизни она и помнит только свои увлечения. Апе это казалось ужасно смешным, ибо она всегда мечтала о большем: об известности, даже о славе. Но о конкретном поприще она не задумывалась до того самого дня, когда побывала у гадалки. И правильно, значит, делала: жизнь сама все расставляет на свои места. Но дядька, дядька… И отчество у него какое-то дикое, не выговоришь… Драганович, Драгованович, чушь какая-то. Она снова почти услышала тихий, но удивительно внятный голос, каждое слово произносивший очень раздельно, округло, вкусно.
Но это все ерунда – главное понять, что он от нее хочет? Предположение о том, что она понравилась ему чисто по-женски, Апа почему-то отмела сразу. Даже интеллектуалы в компании Жени приставали совсем по-другому. Почему же тогда она согласилась встретиться с ним?
И вот этого-то вопроса Апа никак не могла себе объяснить.
«А и черт с ним!» – вдруг махнула она рукой и с головой ушла в мечты о том, как завтра лучше сделать грим Ольге Петровне, и еще о том, что надо поправить парик второму мажордому собачки. Эти и тому подобные заботы начинающего гримера в начинающем театрике, показавшиеся ей сейчас главнее всего на свете, окончательно умиротворили уставшую девушку. Она все прекрасно придумала, а теперь надо просто спать. Однако в самый последний миг, уже на границе сна, вдруг вновь взмыло над курткой цвета хаки черное крыло волос. Странный…
Глава 10
Университетская набережная
– Апочему вы стоите именно здесь? – вместо приветствия обратился к ней Дах.
– Не знаю. Просто я пришла чуть пораньше, обошла дом, и здесь мне понравилось больше всего. Вообще-то неприятное место.
– Почему?
– Очень печальное и унылое. Особенно второй этаж, окна, как мертвые. В смысле, на склеп похоже.
Данила задрал голову и посмотрел на окна словно впервые – да, та пятикомнатная квартира действительно напоминала могилу. Здесь умирала и все никак не могла умереть до переезда в соседний дом Мария Дмитриевна, умирала в чудовищных фантазиях, как и жила, здесь умерло «Время», а рядом ушел из жизни и его издатель[81]81
Его издатель – имеется в виду издатель журналов «Время» и «Эпоха», брат Достоевского Михаил.
[Закрыть].
– Возможно, вы и правы, Аполлинария. – На лице Апы промелькнула какая-то тень. – Но, подумайте, за столько лет, может быть, здесь происходило и что-то хорошее?
Однако девушка словно не услышала его слов.
– Пожалуйста, не называйте меня так – мне не нравится. Все зовут меня Апа или Лина.
– Полина.
– Ну, если вам так хочется. А насчет хорошего в этом доме… Нет, здесь даже хуже, чем склеп, здесь – ужас. Мне трудно объяснить, но правда, лучше бы тут кого-нибудь пытали и били. – Апа зябко передернула плечами под цветастым шарфом. – Что ж, мы так и будем стоять здесь?
Но теперь ее не услышал Дах. Да, не ошиблись ни он, ни она: в этом доме Аполлинария пережила ад. Адское зрелище того, как твою великую, чистую, грандиозную любовь превращают в черную страсть. И это чувство уже не окрыляет, не ведет к солнцу, а бросает тебя в такие пучины, о которых ты даже не подозревала, оно превращает тебя в ничто, в мразь, в смерть, и, в конце концов, чтобы выжить, ты оборачиваешься к миру самой темной, самой страшной своей стороной, ты становишься безжалостной, дьявольской, мстящей. И ты остаешься жить, но жить уже навсегда закрытой для тихой и ясной жизни, осужденной до конца дней лишь ненавидеть, губить и погибать…
Он быстро оглядел стоявшую перед ним девушку. Нет, кругловатое лицо было открытым, глаза с любопытством распахнуты… Вот, может быть, только эта легкая тень между бровями…
– Что вы сказали?
– Может быть, пойдем куда-нибудь?
– Ах, да, разумеется. Но куда? – невинно поинтересовался Данила. – Куда бы вам хотелось?
– Честно говоря, мне все равно. И гораздо больше меня интересует, чего вам от меня нужно.
– Ничего. Мне интересно за вами наблюдать…
– Я вам не подопытный кролик!
– …и слушать. Последнее даже больше. Можно я возьму вас под руку, и мы просто пойдем куда ноги поведут?
На мгновение Апе показалось, что она очутилась в столбе горячего темного воздуха, но это ощущение тут же исчезло, и она рассмеялась:
– Ну, пошли. Какой вы странный.
И эти последние слова, вырвавшиеся у нее случайно, словно прорвали что-то, и стало просто и весело.
День, в отличие от вчерашнего, стоял солнечный, черные деревья казались гравюрами, и Дах от дома к дому, от улицы к улице плел свою паутину и упрямо разматывал клубочек ее жизни, ловя каждое слово ответа. Однако сегодня Апа оказалась всего лишь простой девочкой с окраины, и в ее речах ничего нельзя было поймать, кроме, пожалуй, хорошо развитого здравого смысла. Впрочем, именно здравый смысл Данила уважал меньше всего.
Они вышли на Васильевский остров. Здесь Даниле ловить было и вовсе нечего, Федор Михайлович почему-то не жаловал сей район. Но на углу Соловьевского садика ему вдруг пришла в голову спасительная мысль: Университет. Навстречу, как всегда, валила плотная толпа студентов, и они медленно пошли им навстречу, став похожими на островок, обтекаемый рекой.
– А, кстати, я до сих пор не поинтересовался, чем вы занимаетесь, Полина?
Она улыбнулась.
– Мы же не в Москве! – усмехнулась девушка и тут же поспешила объясниться. – Это мне в одной компании говорили. Что, мол, в Москве первым делом интересуются, чем человек занимается, а у нас, в Ленинграде, – что он из себя представляет.
– Собой представляет, – автоматически поправил Данила. – А в остальном все верно. Так что же?
– Вообще-то я маникюрщица, но потом… То есть недавно… В общем, я пошла работать в театр. Типа гримершей.
– Славно. Но почему вдруг – театр?
Девушка опять вспыхнула, а Данила вспомнил ту компанию, в которой увидел ее в первый раз. Неужели это их влияние? Снова опыты над простушкой? И каждое поколение ставит их по-своему, сейчас, вероятно, еще гораздо расчетливей и подлее. Его охватила злоба, и он, сам того не замечая, стиснул локоть Апы до боли. А ее реакция оказалась еще более непредсказуемой.
– Чего?! – крикнула она, вырываясь. – Чего вы от меня все хотите? Чего выпытываете?
– А вам есть что скрывать? – невозмутимо парировал он.
– У каждого человека есть свои тайны, – как-то неестественно, по-книжному произнесла девушка.
– Тем более, у женщины, – драматично поддакнул Данила. – Но Бог с ними, с вашими тайнами, не из-за них же вы подались к Мельпомене.
– Мельпомене? Ах, вы про театр. Да нет, я всегда этого хотела, – почему-то вновь сразу успокоилась Апа, и она почти не лгала: теперь ей казалось, что она всю жизнь и вправду мечтала быть актрисой, вне зависимости от пророчеств той тетки. – Там, как в сказке!
Дах, будучи подростком, волею судеб немало времени провел за кулисами Оперной студии и прекрасно знал, какие там живут сказочки.
– Так вы в театре совсем недавно?
– Два месяца.
– Я думал, судя по вашему восторгу, что два дня, но, видимо, вы счастливица.
Они миновали Меншиковский дворец, всегда поражавший Данилу своей неизменностью, невосприимчивостью ко всему новому, и шли теперь мимо Манежа, с которого неслись призывы послушать каких-то диджеев. Толпа, валившая навстречу, становилась все гуще.
– Странные они, эти университетские, – неожиданно произнесла Апа. – Почему они считают, что они не только всех умнее, но и лучше? Чем лучше-то? – Апа снова вспомнила Женю и то, как все у нее считали поучившихся в этом своем Универе какой-то избранной кастой. Обида и боль вспыхнули в девушке с новой силой: – Мне вот один наш актер, он совсем старый, старше, наверное, вас, рассказывал. Собрались они как-то и решили жить по-иному, не как все люди, и заниматься только философией. Сняли квартиру огромную, стали жить ничего не делая, и девочки были общие, чтоб без обид. Уж я не знаю, как там у них было с философией, он не говорил, но скоро одна девочка залетела, и тогда они, представляете, решили, что надо, чтобы нашлась одна, которая пожертвовала бы собой для общей пользы, ну, для траха…
Данила слушал эту историю вполуха, поскольку сам в ранней юности застал такие коммуны на излете их популярности и неоднократно живал в них, но каждый раз уходил оттуда, причем не из-за общих девиц – девчонки там, кстати, всегда были из хороших семей, отличные, умницы и, как правило, очень интересные, – а из-за общих зубных щеток. Но фраза об общей пользе неожиданно заставила его насторожиться.
– И такая женщина, которая решилась пожертвовать собой для общей пользы, нашлась, – почти механически закончил он.
– Да. Какая мерзость!
Но Дах в ответ только рассмеялся. Вот уж точно: второй раз история повторяется всегда в виде фарса. Можно было даже не сверяться – он прекрасно помнил письмо Аполлинарии графине де Салиас, писанное из Иваново в шестьдесят шестом году. Когда Данила читал его впервые, его поразил, конечно, не сам этот факт из студенческой жизни более чем столетней давности, а то, как быстро Суслова стала ненавидеть то, чем раньше так увлекалась. С каким восторгом ходила она в Университет еще пять лет назад – и вот теперь такая злоба, такое презрение. Недаром письмо заканчивалось горькой фразой: «А у нас так не душа, а… пар».
– Прелесть, милая Полина! То есть я хочу сказать, вы – прелесть! Черт с ним, с Универом! – Данила бросил косой взгляд на незакрывающиеся двери филфака, где до сих пор всегда можно было встретить знакомое лицо. – Пошли-ка кофе пить в «восьмерку»[82]82
«Восьмерка» – жаргонное название старинной (с середины XIX века) студенческой столовой СПбГУ, находящейся за главным зданием.
[Закрыть]. Ах, впрочем, нет, лучше в БАН[83]83
БАН – Библиотека Академии наук.
[Закрыть].
По дороге Данила с неподдельным любопытством наблюдал за девушкой, которая явно попала на территорию «русского Оксфорда» впервые. Есть же счастливчики, которые в первый раз видят бесконечный багрец Двенадцати Коллегий[84]84
Здание Двенадцати коллегий – Главное здание СПбГУ.
[Закрыть], античную простоту истфака, легкость издательства Академии[85]85
Издательство Академии – имеется в виду здание издательства «Наука» на Менделеевской линии, 1.
[Закрыть], тяжелый модерн института Отта[86]86
«…модерн института Отта» – здание Института акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта (Менделеевская линия, 3).
[Закрыть], сталинскую громаду Библиотеки Академии наук… впервые вдыхают одновременно бесшабашный, академический и романтический воздух аллеи…
– А это что за сопля? – вдруг прервала его полет девушка.
– Что? Где? Какая сопля?
– Ну вон, почти посередине.
– Господи, Полина, это же памятник Сахарову.
Боже! Какой теперь у этих двадцатилетних безжалостный взгляд! В его время памятник приняли бы, скорее, за старое дерево или, на худой конец… Из уважения к академику Дах не стал продолжать сравнения.
– Так вы хотите посвятить свою жизнь сцене?
– Зачем посвятить? Я просто хочу играть! – И Апа горячо, но довольно бестолково стала излагать свои взгляды на театр, игру актеров, мастерство постановки и прочее.
Они сидели под окном, расположенным так высоко, что казалось, будто здесь подвал, и пили бесконечный кофе. На сей раз Дах почти не слушал ее полудетский бред – он позволил себе смотреть. За всей легкой округлостью форм сидевшей напротив него девицы он уже видел грядущую дерзкую стильность. Это было заметно по некоторым движениям кистей рук, по особому сочленению плеча и шеи, по скулам, обещавшим стать чуть выше. Волосы потемнеют, тело станет сухим и жадным, глаза займут пол-лица…
– Так вы решительно хотите на сцену?
– О, да, да!
– Это не так сложно, как вам кажется. Я могу поговорить с приятелем…
– И мне за это как бы придется с ним спать?
– Почему же вы не спрашиваете в первую очередь, не придется ли вам спать со мной? Это было бы логичней, – усмехнулся Данила, еще более вгоняя Апу в краску. – Но вы не краснейте. Правильно сделали, что спросили. И я вам так же честно отвечу. Разумеется, нет.
– Спасибо. Но все-таки скажите, почему вы так? Ну, встречаетесь со мной, готовы помочь? Должна сразу предупредить вас: я не верю в бескорыстность, в благотворительность…
– Вообще-то вы, конечно, правильно делаете. Но в данном случае… Впрочем, считайте, что у меня есть свой интерес. Ведь, согласитесь, не все интересы заключены в постели.
Апа растерялась.
– Ну да, конечно.
«Надо же! А наши девчонки, двадцать лет назад, не задумываясь, отвергли бы такое утверждение, – снова усмехнулся Данила. – Хотя и были бы неправы. С другой стороны, это ее „ну да, конечно“ – самое натуральное отрицание, а не согласие».
– И мой интерес, скажем так, метафизический. – Уточнять, что такое «метафизический», Апа, как Дах и рассчитывал, не стала. – В таком случае, завтра я переговорю с приятелем, а послезавтра мы с вами снова встретимся. Место встречи опять назначаю я: Мойка у Полицейского моста[87]87
Полицейский мост – Народный мост.
[Закрыть].
– У Полицейского?
– А, черт, ну у Народного.
– Народного?
– Вы что? – С губ Даха едва не сорвалось подлинное ругательство, но он вовремя вспомнил, что ныне, пожалуй, едва ли не все, переходящие Мойку по Невскому, действительно не думают о том, по какому мосту идут. Всем достаточно одного прославленного Аничкова. Так, кондитерскую Беранже[88]88
Кондитерская Беранже – имеется в виду бывшая кондитерская Вольфа и Беранже, где в первой половине XIX века бывали все российские литераторы; ныне кафе с одноименным названием на углу Невского пр. и наб. р. Мойки.
[Закрыть] она, конечно, тоже не знает, «Сумасшедшего корабля»[89]89
«Сумасшедший корабль» – имеется в виду дом, который описывает О. Форш в одноименной книге (ныне Невский пр., 15).
[Закрыть] – тоже, Строгановский дворец[90]90
Строгановский дворец – барочный дворец архитектора Растрелли (Невский пр., 17).
[Закрыть] – вряд ли… – В общем, это мост через Мойку по Невскому, понятно? И не опаздывайте.
– Хорошо, спасибо вам, Даниил Дра… Дрог…
– Ах, Полина, пусть лучше будет просто Даниил.
И Апа сама по себе вдруг словно перестала существовать для Даха: он весь уже перенесся туда, где жизнь шла по каким-то другим законам, где девушка в клетчатом пледе до изнеможения бродила по мокрым темным улицам, не понимая, не принимая и не будучи в силах отказаться…
Они молча, дворами, дошли до «Василеостровской». Скоро действительно пошел дождь.
Глава 11
И снова Миллионная
Дома, выключив все телефоны и накинув на портрет Елены Андреевны дивную, но ветхую шаль, бессовестно купленную у старухи за сущие гроши, Данила лег на ковер. Он долго глядел в потолок, по которому неслись отсветы фар, и, в конце концов, грязно выругался. Зря он втянулся в эту историю, зря – потому что сегодня, увидев в неразвитой простушке с окраины одно неуловимое движение плеча и представив по нему, во что она может превратиться, он вынужден был признаться себе: дело здесь не только в Сусловой, не только в странных отблесках ее мыслей и чувств. Сама живая девушка тоже любопытна. Разумеется, интересно не ее глупое желание стать актрисой, не ее доверчивая невинность – по-настоящему интересен ее настоящий интерес к настоящей жизни. Это редкий огонь, особенно сейчас. И… этот поворот плеча…
Данила быстро пролистал все бывшие у него изображения Сусловой и, прикусив ноготь, впился глазами в ранний портрет. Нахмуренные бровки, смелая стрижка и трогательный бант на белом воротничке… Еще совсем круглое личико и эти крошечные пуговички на юбке. Раз, два, три… десять, двадцать, и две скрыты под кофточкой… Данила слишком явственно ощутил, как скользят у него, под длинными тонкими пальцами антиквара, эти дешевые костяные пуговки…
Он отбросил папку и взялся за письма.
«В конце прошлой зимы несколько петербургских юношей горевали о том, что они, студенты, проживают в день по тридцать копеек, тогда как простые работники… только 15, следовательно, студенты проживают лишнее и чужое. Собралось этих студентов двадцать человек, и решились они во что бы то ни стало заплатить… народу эти 15 коп. Положено было бросить Университет… основать колонию… Теперь рассуждалось: каким образом устроить свои любовные дела… Решено было взять каждому по женщине, которая бы могла работать вместе с мужчинами… Но потом подумали, что через год народонаселение может увеличиться на двадцать человек, и работы двадцати женщин прекратятся. Задумались, но, не подумайте, не упали духом нисколько. После разных вычетов и соображений решили ограничить количество женщин: пришлось взять одну женщину, и такая, которая решилась пожертвовать собой для пользы общей, нашлась…
Теперь скажите, что мы не изобретатели. И что может сравниться с изобретением таким, как эта колония, какие открытия и выводы современной науки? Это стоит изобретения пара… „У нас душа, а не пар“, – говорит одна женщина в комедии Островского. А у нас так не душа, а, должно быть, сам пар…»
«Да, уж у нас-то, должно быть, точно», – зло подумал Данила и отложил письмо.
Впрочем, с параллелями мыслей все было более или менее понятно; два совпадения – это еще, конечно, не система, но Данила был почти уверен в том, что подобные совпадения будут происходить и дальше. Причем, чем дальше, тем больше. Значит, перед ним лежало огромное поле для интеллектуально-психических игр, отгадок, открытий и тайн. Здесь Данила чувствовал себя в своей стихии: многолетняя работа с клиентами отточила его способности в этом направлении, и, кроме наслаждения, даже в случае неуспеха, он ничего уже не испытывал. Другое дело – настоящее живое существо, которое он сегодня неожиданно почувствовал в девушке.
Отношения Даха с женщинами почти всегда были вполне утилитарны, впрочем, это ограничение – «почти» – здесь, пожалуй, было даже лишним. Но сегодня проклятые пуговки выбили его из равновесия, и, ругая себя на чем свет стоит, он словно через силу поднялся и подошел к старинному неотреставрированному дамскому письменному столику из крымского ореха.
Столик был из дома Штакеншнейдеров. Данила запустил руку в его неглубокие недра и на ощупь вытащил нечто круглое, сразу плотно и холодно легшее в руку. Не глядя на кулак, он вернулся на ковер и еще долго не решался разжать пальцы. Наконец, холод предмета сменился теплом, и Данила медленно, как лепестки, раскрыл пальцы – на ладони, просвечивая и вспыхивая сразу всеми цветами комнаты, лежало стеклянное яблоко. Тонкий серебряный черенок с одиноким серебряным листком дрожал в такт дрожанию Данилиной руки, и ему, как и много лет назад, казалось, что от него исходит печальная манящая мелодия…
Когда-то это яблоко подарила ему женщина. Женщина, в два раза старше его, женщина его отца, отдавшаяся ему, семнадцатилетнему, на той же кровати, с которой только что встал Драган, вызванный куда-то на съемку. Женщина, слаще которой не было на свете. Это она в первый раз привела его в печально известный плавучий ресторанчик «Фьорд», где старые антиквары играли в рулетку не на деньги, а на изделия Фабера. Это она окончательно втянула его в тот мир, где он потом мог быть уже не один раз убит и тысячи раз унижен, обкраден, растоптан. Но Данила ни разу не пожалел об этом. Он только убрал это яблоко, выигранное ею и подаренное ему в первый день их любви, с глаз долой, когда они неизбежно скоро расстались. И старался не смотреть на него уже долгие двадцать с лишним лет.
А вот теперь он всматривался в эти золотые огни, мерцавшие внутри плода, и неизвестно кого хотел в них увидеть. На мгновение у него даже возникло желание стиснуть пальцы и швырнуть яблоко о стену, чтобы никогда уже больше не возвращаться к мороку тех страстей, о которых оно напоминало с такой настойчивостью.
Впрочем, игрушка стоила слишком дорого.
Да и наваждение постепенно рассеялось.
Однако на этот раз Данила не убрал яблоко обратно в столик, а будто тайком положил его на подоконник, за пыльную гардину. Потом он открыл портрет Елены Андреевны и набрал номер однокурсника, давно и небезуспешно подвизавшегося в качестве режиссера полупрофессионального театра. Убеждать Данила умел, а однокурсник, будучи человеком восторженным, умел поддаваться убеждениям, чаще всего не столько головным, сколько эмоциональным.
– Послушай, Дах, а ты знаешь, как обычно производится кастинг? – вдруг спросил его приятель.
– Откуда мне знать, я этим не занимаюсь, – огрызнулся Даниил.
– Хочешь, расскажу?
– Только покороче, пожалуйста.
– Короче некуда. Приходит молоденькая блондиночка пробоваться на роль инженю. Режиссер смотрит ее и говорит: «Так, повернитесь боком. Хорошо. Теперь другим. Так. А теперь снимите кофточку. Отлично. И юбочку. Что, что? Юбочку снимите. Так. Теперь трусики… Ого-го. Да вы не инженю, вы характерная», – рассмеялся Борис в трубку.
– Знаешь что, Боб, давай-ка без этих штучек, – зло сказал Дах.
– Да я шучу. Ты что, не понял? Это ведь анекдот.
– Знаем мы все эти ваши анекдоты, – огрызнулся Данила.
– Да ладно. Ты-то сам спишь с ней или нет? А то мне лишние проблемы на голову не нужны, сам понимаешь.
– Не сплю и не собираюсь. Но и ты, Боречка, этого делать не будешь. Мне эти проблемы тоже не нужны.
– Я вижу, возня в могильной пыли лишает вас здорового отношения к жизни, – пробурчал режиссер, по тону Данилы понявший, что дальнейший разговор бессмыслен.
– В могильной пыли археологи возятся, Боря, а мы больше по помоечкам, по помоечкам. Ну, все равно благодарствую. Значит, девушка явится к тебе завтра к восьми.
– А ты?
– Нет уж, меня уволь. Я в современные ваши театры десять лет не хожу, а если, бывает, и оскоромлюсь, то потом год отплевываюсь. Но позвонить – позвоню, потом. Пока.
Ночью ему снился бобовский театрик, но на высоких скамьях виднелись не безмозглые плоские лица, а одушевленные люди, разражавшиеся то и дело бурей криков и рукоплесканий. Окна и сотенные люстры дрожали, публика топала ногами в ритм, и казалось, что всем грозит лиссабонское землетрясение. Он сам, оглушенный и придавленный происходящим, топал со всеми, но в то же время прекрасно понимал, что происходит какая-то двусмысленная вакханалия, нечто болезненное, истинная бесовщина. И в какой-то момент среди всего этого ора и глумления он вдруг увидел огненные глаза, смотрящие на него с восторгом, с таким восторгом, вынести который редко кто может. И глаза эти были крыжовенного цвета.
* * *
Дни таяли сквозь пальцы, крепясь только встречами по поводу затеваемого журнала. Сначала собирались по вторникам у Милюкова, того самого Милюкова, что провожал его в Сибирь, а теперь издавал «Светоч».
Компания была разношерстная и колючая, что, однако, не мешало разговорам интереснейшим. Неуловимый, ускользающий, как вода, Аполлон Майков, чистая душа Яков Петрович, насмешливый Минаев, начинающий Данилевский, а главное – Страхов. Вина не пили – не Боткины и не Некрасовы, мол, – но после частенько уезжали к Излеру или на Черную речку. Впрочем, скоро для удобства собрания перенесли к Михаилу, на угол Малой Мещанской и Екатерининского.
Главное было – цели и направление нового журнала, если таковой позволено будет издавать. И название уже придумано – «Время». Быстро состряпали в цензурный комитет прошение о разрешении журнала ежемесячного – и выиграли. Больше того, повезло несказанно: цензором журналу дали Ивана Гончарова, автора важного и достойного, спокойного и рассудительного.
Можно было составлять и объявление о подписке. Но тут мнения разошлись. Николай Николаевич требовал привлечь будущих подписчиков громкими именами, да и от прочих рекламных трюков не отказываться.
– Помните, как Николай Алексеич на пару с Панаихой писали эту ахинею несусветную «Три страны света», бесконечную, но с продолженьицем, – и достойнейший публикум клевал. Тиражи-то какие у журнала были, до девяти тысяч доходило!
– Вы бы еще, господин Страхов, – рассмеялся Минаев, – вспомнили, как тот же Некрасов редактировал-редактировал роман с продолженьицем, а потом вдруг надоело сердечному, или игра в тот день не пошла, он возьми да напиши в самом неподходящем месте: «Он умер». То-то скандал был на весь Пибург.
– Нет, господа, главное и единственное, чем надо привлечь читателя, – это программа, из которой сразу станет понятен и дух, и направление наши, – возвращался к серьезному разговору Михаил. – Основная наша идея – необходимость выработать в сознании общества новые начала государственного развития. И главный вопрос времени – это вопрос крестьянский, слияние образованности с народом.
– Да, господа, мы не Европа, у нас не должно быть победителей и побежденных…
– Реформа Петра слишком дорого нам обошлась, Аполлон Николаевич, – она разъединила нас с народом. Соединимся же!
– Реформа! – опять влез насмешник Минаев. – Вспомните-ка!
– Как вам не стыдно! Прекратите!
По всему получалось, что журнал-то выходит не литературный, а политический. И Достоевский не выдержал. Он вскочил, закашлявшись папиросой, и нервно запахнул расстегнутый сюртук.
– Я не готов отказаться от литературной направленности, господа. Литература, истинная литература и есть выражение всей жизни, сила могучая, которая и сотворит то, о чем мы все мечтаем! Прочь тот грошовый скептицизм, которым у нас прикрывается всякая бездарность, прочь тот дух спекуляции, который грозит превратить журнальное дело в коммерцию! А ведь многие посредственные литераторы обретают в наше время репутацию авторитетов, особенно когда их дурацкие мнения высказываются дерзко и нахально. – Он обвел подозрительным взглядом слушающих, ожидая отпора, но все благоразумно молчали. – Мы оснуем журнал независимый от так называемых литературных авторитетов, большей частью дутых, но мы не уклонимся ни от полемики, ни от критики.
Решено было, что «Время» будет выходить каждый месяц книжками от двадцати пяти до тридцати листов большого формата.
Восьмого сентября объявление с программой нового журнала появилось почти во всех газетах, а в январе вышел и сам журнал.
Праздновали почему-то у другого Аполлона – Григорьева, на Знаменской[92]92
Знаменская – ул. Восстания.
[Закрыть]. Полуседой красавец, похожий на опального боярина, при первом знакомстве не понравился Достоевскому – может быть, в первую очередь оттого, что сам он на его фоне выглядел совсем неавантажно. Лицо без бороды какое-то круглое, даже глупое, а усы делают его похожим на унтера. Хорошо еще, не на каторжника, как говорит Маша. Надо бы бороду отрастить, право слово.
Но, узнав критика поближе, он проникся к нему самыми теплыми чувствами. Вот и сегодня снова вспыхнувшая было неприязнь из-за слишком своеобразных манер через полчаса исчезла, особенно после того, как Григорьев сел за рояль, а потом взял и гитару. Тяжелые, но одновременно тонкие, почти женские руки, порхали неуловимо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































