Текст книги "Долиной смертной тени"
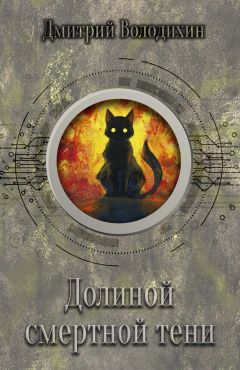
Автор книги: Дмитрий Володихин
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ее образ…
К свиньям образ! Глаза и кожа. Запах. Грудь. Голос. Пропади оно пропадом!
С другими я проводил ночь, но не помнил на утро, как выглядит их тело, не помнил имен и лиц. Да и они, впрочем, вряд ли вспоминали обо мне, – вплоть до следующего приступа естественных надобностей. А эта бледнолицая ворона теперь мерещилась мне буквально всюду. И даже умудрилась поссорить меня с одной энергичной партнершей, не прилагая к тому ни малейших усилий…
Я не знал, что и подумать. Какое лихо стряслось со мной? Раннее проявление серьезных чувств? Или нездоровая психическая зависимость? Вот, раньше многие писали о любви. Сейчас все больше о своих страданиях и о половом акте. Но любовь и половой акт несоединимы. Первое – старинное чувство, тонкое и благородное, сейчас его можно только сыграть. Второе – быт. А я застрял точно посередине…
Погружаясь в томительную маету, я написал семь строк:
Когда я размышляю о любви,
Всякий раз пытаюсь представить себе
Что-нибудь возвышенное.
Но в голову лезет
Одна только женская кожа.
Белая кожа,
Натянутая округло и звонко…
Или сходить к врачу?
Самое время завести знакомство с недорогим психоаналитиком…
Я не пошел к Лоре Фридман. Я не пошел к психоаналитику. Я не придумал, как остудить кипящие мозги. Но семь строк о любви я исправно загнал в сеть. По привычке. Машинально. Это было худшее из всего, что я мог сделать!
За неделю случилось очень многое. Главным образом, плохое.
В день первый мне закатили пощечины три студентки, не обладавшие белой кожей, – по очереди, с интервалом примерно в час. Потом «довесила» совершеннейшая беляночка. Дабы никто не подумал, что белые женщины остались равнодушны к моей расистской выходке. На выходе из университета ко мне подошел накачанный афр в майке и с серьгой в ухе. Ничего не говоря, он двинул меня в скулу. Я его. Он опять – меня. И я. А он все то же. Пришлось повторить. И получить ответ… В общем, мне досталось больше. Он все время молчал, но по гневному выражению его лица я понял, что кожа есть и у мужчин.
На второй день я получил только одну пощечину, забыл от кого. Тогда же на меня подала в суд Ассоциация «Равноправие». За расизм. В сети меня почтил открытым письмом признанный лидер канатоедцев Зизи Пегая Свинья. Зизи не хотел бы жить в одном городе с таким моральным уродом, как я. К Пегой Свинье вяло присоединились пять негодующих поэтесс из Аристократического клуба и чудовищный Рёмер Гарц, признанный император графоманов, отметившийся во всех стилях, обществах и академиях.
На третий день никто уже не пытался устроить моим щекам проверку на прочность. Однако из суда дистрикта пришло сообщение еще о двух исках: от всепланетного Фонда «Власть Женщин» и от регионального Союза сексуальных меньшинств «Доминирование». Оба иска – с формулировкой «за сексизм».
На четвертый день мой тьютор Джордж Байокко, приторно улыбаясь, завел осторожную беседу о неких разногласиях в руководстве университета по поводу меня. Что за разногласия, он так и не объяснил. «Вы ведь сами все понимаете…» Беда! Я как раз ничего не понял и хотел переспросить, но постеснялся. Зато Байокко посоветовал мне помедитировать на досуге над шестой строчкой злосчастного стихотворения о любви. Нужна ли она? Как взрослый, умный и не лишенный способностей человек, я должен понимать, где именно проходят невидимые пределы дозволенного вольномыслия. Все здравомыслящие люди, оказывается, видят эти пределы с полпинка…
На пятый день менеджер группы «Малахерба», практиковавшей камерный турбо-рок, связался со мной и предложил порядочные деньги за право использовать семь строк о любви в качестве припева в какой-то их «Садо-брутальной композиции»… Единственная хорошая новость. Садо они там, бруто или нетто, а деньги пригодятся. Лора Фридман, как бы случайно встретив меня в коридоре, опять глянула пылающими глазами и вполголоса высказала ужасную крамолу: «Молодец, мальчик! Народ Авраама, Моисея и Соломона создал все, что сейчас называют культурой. А он тоже бел, и умные люди всегда помнят об этом». Знала бы она, до чего права! Ведь ее декольте наследует по прямой и Аврааму, и Соломону, и Моисею… «Мы будем вас защищать!» – добавила Лора Фридман.
На шестой день доктор философии Жан-Пьер Малиновски прочитал публичную лекцию о рецидивах тоталитарных настроений в студенческой среде. Я там не был. Но мне рассказывали, что выражение «например, Эндрюс» прозвучало раз двадцать. В тот же день я нашел перед своей дверью окровавленную куриную голову. А на самой двери анонимная рука вывела фосфоресцирующей краской: «Очистим наш мир от уродов». Смыть краску можно было только вместе с дверью. В сети появилась моя физиономия. Очень сердитая. И еще там нетрудно было различить мой кулак, расплющивающий нос тому самому афру с серьгой… Все остальное – будто в тумане, нечетко. Ниже неведомый доброжелатель разъяснял суть дела: «Эрнст Эндрюс избивает чернокожего».
На седьмой день перед домом, где я жил, встал пикет из трех человек. Двое смущенно улыбались, а третья хмурила брови и сжимала в руке самодельный плакатик: «Кукуклан – не пройдет!» На тыльной стороне «Кукуклана» красовалось: «Любовь не различает цветов!» Они проторчали до вечера. После заката ко мне поскреблась совершенно незнакомая девушка. Прямо с порога она заявила: «Хочу разок попробовать, как это делают фашисты». Не помню случая, когда секс выходил бездарнее и скучнее… Минуло десять минуло после ее ухода, и мне на чип пришло сообщение от поэтической артели «Глаксинья». Вот начало: «Мы, современные молодые поэты, с презрением отвергаем наглые выходки фашиствующих молодчиков…» Всего одиннадцать подписей в конце. Вчитавшись как следует, я понял, что настоящий живой «фашиствующий молодчик» всего один, и это я. Но относительно выходки оставалось сомнение: что они имели в виду – пресловутую шестую строку или сексуальный опыт с любительницей фашистов? Вероятно, обвинение предъявлялось по совокупности.
Я загрустил.
Но апогеем моих печальных приключений стала встреча с джентльменом в черном…
Я только-только устроился за столиком в «Цехине», отхлебнул невыразительного кофе и принялся мечтательно мусолить салфетку. И тут, откуда ни возьмись, явился человек, одетый явно не по погоде. Строгий черный костюм, черная рубашка, черный галстук, черные запонки. Безупречность и дороговизна.
Он подсел, не спросив разрешения, и без предисловий начал разговор:
– Мистер Эндрюс, я представляю серьезных людей. Буду рад, если вы уделите мне десять минут своего драгоценного времени.
– Конечно же… Как мне вас называть?
– Никак. Послушайте, с недавнего времени публика стала обращать на вас внимание. А слава имеет как лицевую, так и оборотную сторону. Люди, на которых я работаю, способны избавить вас от неприятностей… по поводу кожи… и тому подобной ерунды.
– Что ж, я искренне благодарен. Чем потребуется заплатить за такую услугу?
– Это ваше? – он прочитал одно из первых моих стихотворений в стиле романтического минимализма. Я как раз побывал на посмертной выставке Пола Корда. Странный был человек, но добрый, все ждали от него какого-то главного дела всей жизни, сверхдостижения. И он на протяжении семи лет писал эскизы к картине «Старинные чудаки, такие скоро исчезнут». А потом умер, оставив семьдесят эскизов, но так и не окончив работу…
Я люблю одного художника:
Его картины
И его судьбу.
Это был хороший человек,
И он хотел сотворить
Нечто сверхъестественное,
Чудесное.
Но ему не было позволено.
И он тихо умер,
Никого не оскорбив
Злой бранью.
Я печалюсь о нем.
У моей грусти
Привкус полыни.
Несотворенное чудо разбилось,
Остались осколки.
Они хранят горечь,
У которой нет имени
И священный отряд
Уходящих душ.
Джентльмен в черным читал это бесцветным голосом. Некролог, сводку новостей или, скажем, кулинарный рецепт уместно читать именно так… Впрочем, я не обиделся.
– Мое.
– Мистер Эндрюс, с вами должны были связаться люди из организации, которая называет себя «Мастерской переливания крови». Я не ошибаюсь?
– Да, они… а кто…
– Благодарю вас. Полагаю, предметом обсуждения были три строки…
Он воспроизвел «Перед грозой…» все тем же омерзительным голосом. Я боялся его, но одновременно во мне росло раздражение. В конце концов, не кулинарные рецепты я пишу!
– Вы правы, но… – я так не сумел сформулировать это самое «но», а мой собеседник терпеливо ждал завершения реплики. Повисло неловкое молчание.
– Мистер Эндрюс, вероятно, вы хотели бы знать побольше, однако я здесь не для этого. Меня уполномочили сделать вам предложение. Мы избавляем вас от нынешних сложностей, а также от избыточных порций внимания со стороны Братства. А вы навсегда исключаете из своих литературных опытов мотив уходящих душ… да и вообще каких бы то ни было душ. Будьте самую малость реалистичнее, вот и все.
– Вы ставите запрет на слово «душа»?
– Можно сказать и так.
Меня подмывало задать вопрос, кто они такие, чтобы вмешиваться в мою жизнь, чтобы диктовать мне, как и о чем писать! Но я боялся, и с каждой секундой все больше погружался в пучину холодного, совершенно необъяснимого ужаса. Обычный день, солнышко светит, птички поют, напротив меня сидит унылое чучело в черном, так почему ж мне так страшно?
Я так и не задал вопрос «кто такие?» Но моего мужества хватило на вопрос попроще:
– А если нет?
– Если вы скажете «нет», мистер Эндрюс?
– Вы правильно поняли меня.
– Ваши сложности возрастут многократно. Вы – дитя мегаполиса и привыкли к определенному уровню бытового комфорта. Лишение малой его толики станет для вас настоящей катастрофой. Допустим… только допустим на секунду, что вы окажетесь в месте, где вам не позволят мыться ни горячей водой, ни холодной, в течение значительного периода… А кормить будут весьма скудно. Например, один раз в два дня.
– Я все еще колеблюсь. Вы не были в достаточной степени убедительны.
– Возможно, у вас просто слабое воображение, мистер Эндрюс. Вы можете представить себе, хотя бы чисто теоретически, что неподалеку от вас, в том же самом месте, окажется ваш отец?
Я почувствовал себя раздавленным. Червяк под сапогом, да и только…
– Я согласен.
– Со своей стороны, заверяю: все обещанное нами остается в силе.
Джентльмен в черном встал из-за стола и покинул кафе. Больше я его никогда не видел.
Он не лгал. За двое суток истцы отозвали все три иска. Нападки в сети моментально улеглись. Пикет пропал. Университет начисто забыл о моем «вольномыслии». И даже безголовая курица не пришла за своей головой… Правда, на протяжении нескольких дней я худо спал. Снилась чушь, однажды под утро явился все тот же черныш и потребовал чаще смазывать дробовик, угрожая в противном случае выбить мне последние зубы. И ведь видел я тот самый дробовик, но к чему он появился в моей жизни, так и не понял…
Было во всем этом нечто гораздо более жуткое, нежели угрозы моего собеседника – и в реальности, и в сновидениях. На минуту-другую мне вдруг показалось, что я кем-то стал. Или становлюсь кем-то. Обретаю вес, материальность… Я почувствовал дыхание жизни, совершенно отличной от того существования, которое я веду изо дня в день. Это нестерпимо!
Нельзя жить, требуя от себя столь многого. Шаг в сторону принес мне облегчение.
Как раз начался месяц флореаль, и в городе стало худо. Каждый год команды упитанных менеджеров насмерть бились друг с другом и с избирателями за Самый Богатый Контракт. Этот контракт делал команду победителей правительством планеты, а «призеры» могли еще побороться за отдельные ведомства и мэрии… Месяца на полтора Сервет превращался в истинный бедлам. С раннего утра город швырял в тебя миллионами разномастных криков. Их тон, дизайн, продолжительность и настойчивость различались бесконечно. Их суть из года в год одна и та же. «Купи нас! Мы недороги и эффективны! Другие хуже!» Так что я убегал из Сервета в гавань Двух Фортов чуть ли не каждый день. Занятия. Потом часа два дома, у инфоскона. Затем Цехин. Напоследок – гавань. На следующий день то же самое, и снова, и снова, и снова. Я задерживался там до глубокой ночи. Тогда город стихал, и можно было вернуться, не опасаясь утонуть в волнах страстей. Страстей чужих и фальшивых…
Гавань Двух Фортов стала в те весенние дни самым любимым моим местом. Там всегда было тихо и безлюдно. Я мог делать там все, что хотел. Но чаще всего я лежал на песке и размышлял, чего хочу, не двигаясь с мечта и подолгу не меняя позы, однако неизменно приходил к выводу, что ничего не желаю с такой силой, как продолжать процесс лежания…
Имя этому месту дал я.
Гаванью оно никогда не было и быть не могло. На Совершенстве давно никто не строил корабли – ни, надводные, ни подводные. Антигравы лишили их права на существование…
Дно округлой мелководной бухты устлано было галькой. Над нею возвышались рябые глыбы валунов, поросших длинными мочалами водорослей. Вот откуда взялись «кудри зеленые»… От остального побережья заливчик отгораживали два грязно-серых чудовища из эпохи титанов. Отвесная скала с тремя пятнистыми соснами на макушке, а неподалеку – ее родная сестра, чуть пониже и с двумя соснами. Счастливы те деревья, до которых не может дотянуться рука человека… Благо, альпинисты на нашей планете не водятся. Два циклопических монолита как будто сторожили бухту от вторжения с моря и суши. Мне иногда казалось, что я различаю на самом верху пушечные стволы и людей в латах. Да-да, мне чудилось отдаленное посверкивание меди. Поэтому я называл каменных сестер фортами. Они появились здесь за много тысячелетий до того, как человек пришел на Совершенство, и, может быть, переживут нас. Время размягчило камень, избороздило титанические тела шрамами, подточило их снизу, высверлив глубокие каверны, но еще не победило, еще не повалило двух стражей бухты.
Мне нравилась их непреклонность. Кажется, они готовы были умереть, но не уступить, не сдаться.
Иногда я представлял себе, как в гавань Двух Фортов на всех парусах влетает фрегат… И тут же поправлял себя: допустим, он даже влетит, хотя поискать бы того идиота-капитана, который поведет свой корабль под всеми парусами на мель, но, предположим, нашелся такой псих; каменные зубы валунов сейчас же вопьются в деревянную плоть фрегата и прикончат его! Наверное, дело было так: вражеский фрегат долго обстреливали меткие канониры. Капитан, штурман и рулевой погибли, а штурвал заклинило… заклинило… э-э-э… заклинило осколком чего-нибудь. Осколком мачты, например. Или реи… одной из рей. Вот и попала бедная посудина валунам на обед. Совершенно не склеивались начало и конец этой сказки: фрегат – и посудина, на всех парусах – и заклинило штурвал… Ерунда какая-то. Возвышенное и бытовое плохо сочетаются друг с другом. Низкие обстоятельства лучше бы вовсе презреть. Да, влетел на всех парусах. И никто по нему не палил из пушек, потому что это наш фрегат, незачем его калечить. И на камни он вовсе не напоролся. Потому что… потому что… взлетел перед самыми камнями. Ну да. Иногда у него получалось летать. Иногда у всех получается летать. Он сделал круг над побережьем и ушел за горизонт.
Я постеснялся увечить Сказку о летучем фрегате стихотворением. Пусть останется, как есть. Не стану ее ни с кем делить.
Галечная полоса оторачивала линию прибоя, но в некотором отдалении от моря начинался песок. Сероватый крупный песок с камушками и ракушками. Там я и полеживал, там и предавался мечтаниям. Порой я сам себе казался точкой, где стихии смешиваются друг с другом, не заводя споров.
Бывало и так: я вскакивал, начинал какие-то дикие пляски, прыжки и кружения на песке, бегал по берегу, выкрикивал стихи и тут же их забывал. В такие минуты меня подмывало записать на чип все то, что выкрикиваю, вероятно, тогда у меня получалось лучшее… Но даже если я поддавался этому соблазну, потом все равно тщательно стирал записанное. Запыхавшись, я останавливался и принимался писать на песке; писал, пока оно само лилось из меня, прекращал при первом же затруднении. А остановившись, немедленно смешивал слова с песком, так, чтобы от слов не осталось и следа.
Должно быть, во мне просыпался древний инстинкт, запрещавший выносить все сколько-нибудь ценное за пределы гавани Двух Фортов. Не знаю, откуда он взялся. Но я ни разу не нарушил табу.
Однажды я задумался о смысле странного внутреннего запрета. Именно так: сначала он явился и подчинил меня, потом я осознал его существование и попытался понять.
Мне очень хорошо здесь, в бухте. Я как будто просыпаюсь от иной жизни. Там, в городе, в университете, даже в моем жилище, даже в «Цехине», я сплю. Все происходящее со мной, окружающие меня предметы и люди не вполне реальны, они – часть моего сна. Иллюзорного в них намного больше, чем действительного. Изредка я ненадолго выныриваю из глубин дремы, вижу что-нибудь настоящее и до смерти пугаюсь его. Единственный способ существовать в мире снов – сливаться с общей виртуальностью, быть на беспутье, избегать пути. Наверное, по рождению и самой природе мне не дозволено приобретать нечто настоящее или становиться его частью. А в бухте всё действительно. Мир наполняется весом и материальностью. Однако мне ничуть не страшно здесь и даже уютно. Значит, может существовать истинный мир, где мне позволительно жить, не рассекая кожу об острые грани… и тут затерян маленький его кусочек. Сделав шаг за его пределы, я вновь с головой ухожу в Иллюзию. И если я попытаюсь вынести отсюда хоть что-то: песчинку, слово или мечту, там, за границей реальности, они станут ненастоящими. Хорошо, если просто исказятся; не исключено, что они перестанут существовать. Пусть уж лучше здесь проживут короткую истинную жизнь, чем там – длинную и фальшивую…
Конечно, мне никогда не приходила в голову мысль искупаться. Этой роскоши я позволить себе не мог. Море у побережья между Серветом и Бэконом отравлено до такой степени, что никакое живое существо не протянет в нем и пяти минут… Такая красота, и так загадили! И всего-то за несколько десятилетий.
Именно там, в гавани Двух Фортов, я попал в ужасно неудобную ситуацию. Страшный день, 9 флореаля.
До лета оставалась сущая ерунда, наша звезда, Либидо, палила немилосердно, антизагарный крем ничуть не защищал от нее, и лишь в сумеречный час я осмелился стащить с себя все, кроме плавок. А потом на меня напал бес кружения и плясок. Город выходил из меня вместе с потом. Я облился чистой водой из бутылочки, вытерся полотенцем и упал на колени. Закрыв глаза, я чертил пальцем по песку отдельные слова и странные знаки, выкрикивал безо всякого лада и порядка отдельные фразы. Потом эти фразы слились в нечто цельное, однако все еще бессмысленное. В словесную гору как будто не вдохнули душу, и она оставалась вроде голема, еще не приведенного магом в движение… Голем, это глиняный человек, мне про него рассказывала одна девушка… Вдруг ко мне пришло одно-единственное слово, я вставил его, куда надо, и тем самым как будто повернул невидимый ключ. Невнятная куча фраз стала живым созданием, красивым и нравным. Она начала вести себя, и это было прекрасно…
Не поднимая век, я ровным и торжественным голосом продекламировал в пустоту стихотворный орнамент.
– Браво!
Кто-то хлопал в ладоши.
Я вскочил на ноги. Я почувствовал себя одновременно оскорбленным, обворованным и застигнутым за каким-то постыдным делом.
Девушке можно было дать на вид лет семнадцать или восемнадцать. По моде неосуфиев она отрастила длинные волосы. По моде артмаргиналов выкрасила их в семь цветов радуги, не забыв расплескать поверх радужных полосок фальшивые грязные брызги. По моде турбо-рокеров обезобразила живот блуждающей татуировкой: нечленораздельный набор индустриальной атрибутики. По моде боди-редакторов превратила свое тело в набор палочек, едва обтянутых кожей: «Ни грамма жира, ни грамма мышц!» – так, кажется, они говорят. Груди ее явно подверглись дорогостоящей операции на уменьшение. Теперь лишь огромные темные пятна вокруг сосков выдавали тайну: здесь когда-то была грудь, а рядом вторая, и если провести археологические раскопки, то в нижней части культурного слоя обнаружатся их фундаменты… Пупок хирурги-косметологи зарастили вставкой телесного цвета. Глазной белок закрыт слоем живого серебра. На щеках переливались красной медью изображения двух янтр, уж и не вспомню, каких именно. Бедра искрились: сейчас многие, как она, вставляют себе прямо в плоть тонкие золотые нити, но никто не вставляет столько… На каждом ногте красовался миниатюрный портрет его владелицы. Десять разных портретов… впрочем, то, что они отличаются друг от друга, я разглядел позднее. Смуглая кожа, чуть раскосые глаза, мощный подбородок, крупный, идеально прямой нос, тяжелые, чувственные губы и плоские скулы выдавали настоящий коктейль рас в ее генах. Из одежды на ней был только набор из тонких белых ремешков, хаотично перекрещивающихся и сплетающихся в узлы.
Королева стиля. Что рядом с ее телом – истинным произведением искусства – моя провинциальная миловидность и мои стихи! Я почувствовал безнадежное ее превосходство.
Я не люблю женщин-тростинок. Предпочитаю варианты, приближенные к венерам каменного века. Тела, «выточенные» по последнему фасону, нередко вызывали у меня робость, страх и даже гадливость.
Но на этот раз тело незнакомки пробудило прямо противоположную реакцию. Совершенно необъяснимо я возжелал ее. Почти сразу. То есть, по прошествии пяти или десяти секунд после того, как впервые увидел. Наверное, труд, вложенный ею в собственную плоть, сделал недоброе технологическое чудо. Все маленькие косметические хитрости до такой степени фокусировали взгляд на теле девушки, что его просто невозможно было не захотеть. А плавки – худший занавес для пьесы об устройстве мужчины.
Итак, мне было стыдно, я злился и одновременно испытывал сильнейшее желание… Что за несчастье!
Одним своим появлением незнакомка получила надо мной власть. И теперь в ее воле было повернуть ситуацию как угодно.
– Солнечный мальчик.
– Что?
Я не поверил своим ушам. Слишком красиво это было сказано. Слишком большой подарок она делала мне с высоты своего совершенства.
– Солнечный мальчик! Ты – мой солнечный мальчик.
Слово «мой» вселило в меня восторг.
– Я…
– Ты – Эрнст Эндрюс, и ты, оказывается, мне нужен, – не дала она мне закончить.
Незнакомая госпожа подошла ко мне вплотную. Она ничем не пахла. Вернее, пахла тем, что было вокруг нее: песком и морем. Восхитительный аромат! Провела пальцами косую черту по моей груди – от ключицы к солнечному сплетению…
– Меня зовут Эйша Мабуту, но те, кто ближе ко мне, пользуются истинным именем – Кали.
– Кали?
– Я убиваю любовью, убиваю без пощады. Ты попробуешь на себе, Эрни, как это бывает. От тебя останется только тень. Веришь мне?
– Я? Не знаю… почему…
Кали дотронулась до моей шеи. Мой рассудок полностью растворился в точке касания.
– Послушай, Эрни, первый раз будет у нас совсем простым. Сбросим энергию, да и все тут. Более сложное и более длительное взаимодействие – чуть погодя, когда ты сможешь пойти на второй заход. Ты ведь простой человек, если я не ошибаюсь?
– Что?
Я ничего не понял. Слушал ее и не слышал.
– Парень! Сделай это быстро, грубо и незамысловато.
– Прямо сейчас?
Она сделала неуловимо быстрое движение, и я полетел на песок. Кали моментально избавила меня от плавок, раздвинула свои ремешки и легла сверху. Ее объятие оказалось неожиданно крепким.
– Долго болтаем… – прошептала Кали.
Первый раз у нас получился… как бы поточнее выразиться? наверное, технологичным. Кали сделала несколько провоцирующих движений, и я в ответ исторг томительный избыток себя. Вот и все.
Едва мы отдышались, как она принялась учить меня дыхательным упражнениям. Одному, второму, третьему…
– Все это, в сущности, чепуха, Эрни. Но на твоем уровне даже такая мелочь может дать сильный эффект.
– Да… Учи меня.
Когда она углубилась в тантроинструкции по пропусканию воздушного столба через чакры, я неожиданно подумал: «Какого фига она сюда явилась? Какого фига ей понадобился именно я?» Но именно в эту минуту желание вновь начало восставать из пепла. Кроме того, Кали ни на секунду не отпускала моего взгляда. Глаза в глаза, на расстоянии предпоцелуя, только так она позволяла общаться с собой, – с первых минут знакомства и до той ночи, как мы расстались.
– Не отвлекайся, весь будь здесь и сейчас, – уловила она мое секундное колебание.
«Вероятно, все у нас вышло случайно… И еще ее темперамент…» – я не сумел додумать эту успокоительную мысль до конца. Прошло уже полчаса с тех пор, как мы впервые соединились; она говорила и прикасалась ко мне; мой рассудок вновь распался на составные части, и я утратил способность не то что удерживать в голове сколько-нибудь сложную мысль, но даже просто концентрировать внимание…
Я было потянулся к ней, но Кали резким движением остановила меня.
– Делай в точности то, что я велю. Уверяю, Эрни, ты не пожалеешь.
Я делал. Кали беспощадно дрессировала мое желание, отсекая лишние протуберанцы. Оказалось, ее любимая фраза: «Не торопись!» И я пытался не торопиться.
Пытался…
Пыт-тался…
Пытался!
А потом со мной стряслось цунами. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного…
Потом я долго лежал ничком, приводя в порядок расстроенные чувства. Я был поражен, я почувствовал себя бабочкой, наколотой на иголку. Именно так: игла роскошного соблазна продырявила мою личность. Выходит, я ничего не знаю о жизни… И стою ничтожно мало.
Кали сидела рядом, поглаживала меня, как маленького ребенка, и приговаривала:
– Ну-ну, это всего лишь начало. Это всего лишь начало, Эрни…
Наконец, я осмелился спросить:
– Как я тебе, Кали?
Она усмехнулась:
– Я знала, каков ты, еще до того, как мы начали. Мой диагноз оказался верен. Не сердись, милый, но пока ты… дерево.
Видимо, она хотела сказать «бревно», однако в последний момент сжалилась надо мной.
– Впрочем, Эрни, у тебя неплохие задатки. Просто придется тебя подучить. Иногда это будет жестоко, иногда больно, иногда страшно. Но моя цель – не мучить, а совершенствовать тебя. Я требую абсолютного послушания, пока ты со мной. Ты мне понравился… мне понравилось твое безумие. И я буду возиться с тобой даром, но только при одном условии. Повторяю: аб-со-лютное послушание, ни единого слова, ни единого жеста поперек. Либо ты веришь мне, либо – до свидания.
Кали говорила ровно и почти бесстрастно. Правда, при этом она улыбалась, и улыбалась дружески, ободряюще. Мол, не дрейфь, парень, какие проблемы? Я вновь заколебался. Не хочется быть в плену, хотя бы и в таком. Но ее глаза, ее улыбка, в которой заранее читался мой ответ, покорили меня.
– Я твой. Делай, что сочтешь нужным.
– Отлично. Курс молодого бойца считаю открытым…
Так я стал одной из ее игр. На больший статус я не претендовал. Может, я и хотел бы, но результат любых моих поползновений в сторону повышения статуса было очень легко предугадать…
Первую неделю мы почти не расставались и почти не вылезали из постели. Я не ходил на лекции, не встречался с тьюторами, не посещал библиотеку, не писал стихи, не бывал в «Цехине» и гавани Двух Фортов. Иная жизнь пожирала мое время без остатка, но я не чувствовал себя обделенным.
То, чем мы занимались, не всегда влезало в рамки старого доброго понятия «секс». Иногда Кали говорила:
– Ты всего-навсего учишься управлять энергией, спрятанной внутри тебя.
Я досадовал в такие моменты: каскады сложных и болезненных упражнений, обрушившиеся на меня, ничуть не вписывались в мои чаяния. Я надеялся на более простой и… и… адекватный вариант. Но высказывался намного мягче:
– Кали, а надо ли все это, чтобы мы с тобой могли наслаждаться друг другом?
Она строго отвечала:
– Свою порцию удовольствий ты получаешь, милый. Надеюсь, за нашей гимнастикой ты когда-нибудь увидишь нечто большее…
– Что?
– Возможно, смысл жизни.
Время от времени она разрешала мне оргазм. Всякий раз выходило ослепительно! Но потом Кали насмешливо ухмылялась и отпускала язвительные шуточки:
– Все, чего ты хотел, – плюнуть спермой в бесконечность?
Очень быстро я сделался наркоманом. В любое время суток мне требовалась доза Кали. Я испытывал настоящую ломку в ее отсутствие. Промежутки от одного периода блаженно-удовлетворенного состояния до другого делались все длиннее и длиннее. Наконец, они заполнили собой все. Мне стало трудно поймать даже сам момент наслаждения, в лучшем случае, я мог ненадолго приостановить ломку. Мое тело как будто захлебывалось криком: «Еще Кали! Еще Кали! Я не могу без Кали!» Орала кожа, вопили внутренности, возбужденно хрипел мозг… Каждая частичка меня словно протягивала руку за подаянием. Моя боль познала градации: настоящий кошмар, когда Кали нет рядом; ужас, когда она здесь, в шаге, но недовольна мной; очень худо, когда она всем довольна, но не собирается начать игру в постели…
На второй неделе нашего знакомства она, как нарочно, стала покидать меня и отсутствовала чем дальше, тем больше. В перерывах между Кали и Кали я просто стенки грыз… За десять дней я влил в себя больше успокоительных, нежели за всю прежнюю жизнь. Способность работать разрушилась. Я не мог справиться с собой, не мог забить тоску тупыми и незамысловатыми развлечениями. Сутками я не ел, – мне не хотелось… Сон не шел ко мне, если она не лежала около меня. Из зеркала на меня смотрел тощий нечесаный субъект, под глазами у него двумя бесформенными клоками собралась тьма.
Ревновал ли я? Да нет же. Вернее, ревность моя относилась не к кому-то конкретно – пусть она спит хоть со всем Университетом! – а ко времени, которое Кали тратит не на меня.
Я очень просил ее не оставлять меня, во всяком случае, пока я не привыкну к новой жизни и не смирюсь с отлучками моего наркотика. Кали говорила:
– Теперь ты никогда не привыкнешь и никогда не смиришься.
Однако первое время она снисходила к моим просьбам. Потом мое положение изменилось к худшему. Чем больше страсти и унижения вкладывалось в мольбы к ней, тем суше и злее она отвечала:
– Эрни, дурень, пойми, это часть обучения. Ты не должен привязываться ни ко мне, ни к чему-либо еще. Ни к кому и ни к чему, Эрни, балбес, запомни навсегда! Ты должен уметь разорвать любую связь в любой момент. Разорвать и уйти!
Я отчетливо понимал безобразие собственного падения. Я отлично видел себя со стороны: качусь по наклонной, стремительно разрушается все то, что было во мне цельного и здорового. Впоследствии, по всей видимости, в пустой оболочке родится совсем другой человек, а от меня нынешнего и впрямь сохранится одно имя. Но мне заранее противен был урод, которому предстояло занять мое место в этом мире.
Мне требовалось за что-то зацепиться и выскочить из ловушки. На любом, даже самом обрывистом склоне, растут деревья, бывают уступы и ниши… Надо схватиться хоть за что-нибудь!









































