Текст книги "Белые тени"
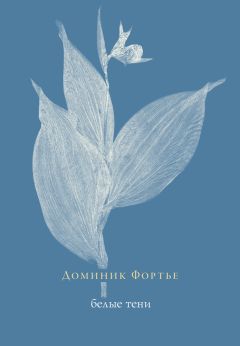
Автор книги: Доминик Фортье
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Вот только имеет ли она право составить книгу стихов Эмили, ведь сестра не хотела их публиковать. Она никогда не боялась просить – требовать – то, чего хотела. Если бы она пожелала, чтобы стихи бросили в огонь, почему не сказала об этом Лавинии? Может, не в силах сама принять решение, она хотела предоставить право выбора младшей сестре? Но Эмили никогда никому не позволяла решать за себя.
Мы можем представить, как Лавиния день за днем пытается отыскать какие-то указания, обшаривает карманы, переворачивает матрасы, исследует щели между половицами, перетряхивает книги, чтобы выпало спрятанное между их страницами. Все напрасно. Эмили бросила на произвол судьбы и свою сестру, и свое творчество. А возможно, сделала им подарок: доверила их друг другу.
Лавиния Дикинсон принадлежит к тому же типу людей, что Макс Брод, который предпочел проигнорировать последнюю волю своего друга Кафки и не стал сжигать, не читая, все его бумаги, как обещал; что и Отто Франк, решивший опубликовать дневник дочери, погибшей в лагере Бельген-Бельзен[2]2
Речь идет о дневнике Анны Франк.
[Закрыть]. Она из тех редких творцов, ставших – волею случая – авторами великих произведений, которых не создавали.
Сколько людей необходимо, чтобы возникла книга? Сколько среди них существ из плоти и крови и сколько призраков? А что, если пишут именно призраки? Когда сегодня я говорю «я», кто говорит на самом деле?
* * *
Какая-то часть меня все время пытается оторваться и ускользнуть. Я не то чтобы пытаюсь вернуть ее, прикрепить, но раз пятнадцать-двадцать на дню взлетаю вслед за ней. Я готовлю еду, веду машину складываю одежду но другая часть меня отправляется в покинутый Эмили дом на поиски какого-нибудь слова или образа. Это похоже на попытку вспомнить обрывки сна через несколько часов после пробуждения или поймать рукой клочок тумана; но хрупкая, непрочная материя все время ускользает между пальцев.
В голове моей постоянно звучит тихая музыка, ее невозможно разложить на ноты и записать, ведь мелодия едва различима, к тому же на нее накладываются всякие помехи. Как почувствовать, что вот оно – целое, что все куски соединились? А каково чувствовать, что существуешь полностью, целиком в одном-единственном месте, – это чудесно или ужасно? Почему некоторым необходимо проживать в одно и то же время множество жизней, в разных придуманных местах? Может, потому, что не хватает таланта прожить как подобает единственную жизнь?
«Пучков»[3]3
«Она собирает стихи в „пучки“ по нескольку десятков страниц. Потом просит у Лавинии корзинку для шитья, вдевает нитку в иголку надевает на палец серебряный наперсток и очень аккуратно, стежок за стежком, сшивает эти маленькие книжечки в единственном экземпляре.
Слово fascicule (связка, пучок), которое обычно употребляется, когда говорят о ее маленьких рукописных сборниках, означает в фармации „количество растений, которые можно обхватить рукой, согнутой на уровне бедер; равно двенадцати горстям“» (Фортье Д. Города на бумаге. СПб., 2022).
[Закрыть], собранных Эмили, всего сорок – как дней, проведенных нашим Господом в пустыне. А сами стихи Лавиния считать отказывается, их слишком много и они слишком объемные, чтобы уместиться в один или несколько конвертов.
Она подумала было запихнуть их в большой бумажный пакет, но это представилось ей в высшей степени неправильным, каким-то грубым нарушением этикета, хотя объяснить это она бы не смогла. Контейнер для молока не подходит тоже, как и полотняная сумка, в которой она хранит иглы для вышивания, пяльцы, клубки шерсти и вязальные спицы. Сундук слишком тяжелый, поднять его получится только вдвоем. В него можно убрать обернутый старыми газетами фарфор, новые платья, аккуратно сложенные пополам в больших картонных коробках, но в чем, черт побери, нужно хранить стихи?
В конце концов, за неимением лучшего, она находит на чердаке старый чемодан из прессованного картона, тот самый, который Эмили брала с собой в последнюю поездку в Бостон. Аккуратно раскладывает и расправляет стихи, чтобы не помялись. Ей кажется, будто она отправляет сестру в путешествие против ее воли.
Она задается вопросом, что следует сделать с разбросанными по миру посланиями Эмили, которые сестра в большом количестве адресовала тем, кого любила, даже если не видела их ни разу в жизни. Может, просто предать огню? Ведь пока они не собраны вместе или не уничтожены, получается, что сестра тоже рассеяна и разделена на множество частей по стольким чужим домам.
* * *
На следующий день Лавиния приходит к Сьюзен, которая знала Эмили лучше, чем кто бы то ни было; она – главный адресат ее писем, сотни конвертов летали по-соседски из дома в дом. Невестка стоит с опущенными глазами, потухшим взглядом. Она как будто переоделась в собственную мать, а то и бабушку.
– Мне нужна помощь, – говорит Лавиния.
Сьюзен почти не реагирует, продолжает смотреть в окно, за которым не видно ничего особенного. Наверное, она ждет Остина, который опять ушел к той женщине.
Лавиния вновь обращается к ней, стараясь, чтобы голос звучал громче и четче:
– Вообще-то помощь нужна не мне. Я хотела с тобой увидеться из-за Эмили.
Сьюзен вздрагивает. По лицу пробегает тень, оно будто закрывается ото всех. Эти Дикинсоны все никак не могут оставить ее в покое: обманывают, лгут, а то и вообще умирают. И эта такая же. Но отказаться Сьюзен не может.
* * *
Стихи Эмили искрятся и сверкают, вспыхивают так ярко, что Сьюзен обжигает руки и глаза. Все утро, а затем и вечер она медленно перечитывает их, порой по двадцать – тридцать минут держит в ладонях одни и те же несколько строк, не в силах отпустить, сжимает так сильно, что чувствует, как пульсирует кровь в кончиках пальцев.
Они складываются в строфы некого тайного Евангелия. Это магические заклинания. Произнесите их в определенной последовательности, в нужном ритме, и вспорхнет голубка, из шляпы взметнется пламя, появится гирлянда ромашек; скажите их в обратном порядке, и набежит саранча, солнце раздвоится, на небе погаснут звезды, мир уничтожит сам себя.
* * *
Ближе к ночи Сьюзен делает над собой усилие, и даже несколько: надевает светло-голубое платье, приталенное, с пышными рукавами, которое так выгодно подчеркивает фигуру, кладет на щеки румяна. Ставит тушить цесарку, готовит пюре из топинамбуров, аккуратно снимая кожуру с клубней, немного напоминающих детские ступни. Вот-вот будет готов яблочный пирог, и к тому времени, когда Остин наконец открывает дверь, одуряющий аромат корицы заполняет весь дом. Уже восьмой час.
Увидев накрытый для него ужин, Остин как будто раздражен, он предпочел бы, как обычно, взять блюдо с холодными закусками к себе в кабинет и оставаться там, пока Сьюзен не заснет.
– Ты где был?
– Работал.
Она знает, что он лжет. Она может почувствовать духи той женщины на расстоянии десяти футов. Почему он даже не пытается придумать что-нибудь правдоподобное, за что она могла бы зацепиться? Она недостойна даже лжи?
– Над чем?
Он пожимает плечами.
– Тебе это не интересно.
Они усаживаются по краям стола, два чужих человека. Цесарка перестояла, сухая плоть с трудом накалывается на вилку. Остин ест, не поднимая глаз от тарелки. Он делает невероятное усилие над собой и тоже спрашивает:
– А ты?
– Я весь день провела с Эмили.
Она указывает рукой на стопку стихов на посудном шкафу Остин вздрагивает. Он встает, берет кусок надорванного конверта, читает несколько строк, смотрит на Сьюзен, будто только сейчас заметил ее присутствие.
– Не знал, что она столько написала, – произносит он глухим голосом.
– Лавиния решила их опубликовать, – сообщает Сьюзен.
Его брови ползут вверх, он кладет вилку, которую до сих пор держал в руке.
– Что?
– Ну да, и это не будет вразрез с волей Эмили, ведь она просила уничтожить письма, а про стихи ничего не говорила.
Ее воля. Когда-то Остин мог читать ее мысли, словно в открытой книге. Она даже не соизволила сообщить ему о существовании этих стихов.
– Почему ты мне об этом говоришь? Лавинии нужно мое одобрение?
– Да в общем, нет.
– Тогда что?
– Она попросила меня помочь подготовить издание.
Сьюзен ожидает возражений, вопросов, даже насмешек, но он просто спрашивает, весьма удивленный:
– Правда? Почему тебя?
Это сказано спокойно и беззлобно, без всякой задней мысли, в его вопросе лишь искреннее непонимание. И это непонимание – неужели кто-то выбрал ее, ее, для выполнения столь важной задачи, это неверие в ее силы, в то, что кто-то мог оказать ей доверие, – ранит ее сердце так сильно, что она даже представить не могла такой боли.
* * *
В записке, которую подруга адресовала ей лет сорок назад, Сьюзен прочитала:
We are the only poets, and everyone else is prose[4]4
Мы одни – поэты, все остальные – проза (англ.).
[Закрыть].
Что она сделала со стихотворением своей жизни?
Остин берет пальцы возлюбленной в свою большую руку: кукольная ладошка в медвежьей лапе. Оба еще дрожат, две струны продолжают вибрировать уже после того, как смолкла последняя нота, – так говорит она, а он взволнован: она остается пианисткой даже сейчас, в самозабвении и забытьи.
– Любовь моя, – говорит он, – как бы мне хотелось стать двадцатилетним, чтобы жениться на тебе.
Мейбел смеется звонким хрустальным смехом.
– Но у меня есть муж. – Задорный тон сводит его с ума. Она высвобождает руку и касается обручального кольца на безымянном пальце Остина. Оно здесь так давно, что палец стал тоньше между первой и второй фалангой, словно дерево, чей ствол стискивает железный обруч, но которое все растет и растет вопреки препятствию.
Она продолжает:
– А у тебя есть жена.
Остин вздыхает. Сьюзен и вправду его жена? Эта женщина, что сидит – все реже и реже – за одним с ним столом вечерами, имеет так мало общего с девушкой, с которой он сочетался браком тридцать лет назад. Неужели она та же? Или в один прекрасный день человека заменяет его ухудшенный двойник?
Он пытается сдвинуть сжимающее его палец кольцо, но мешает сустав. Какое-то мгновение Мейбел смотрит на то, как он старается, потом осторожно берет его палец в рот, смачивает слюной, драгоценный металл скользит по еще более драгоценной коже. Она протягивает ему кольцо, и он примеряет его по очереди на каждый из ее тоненьких пальцев. Слишком велико. В конце концов он надевает его на большой палец.
– Ты, возможно, мне и не супруга, но ты моя жена.
Она не отвечает, сомневаясь, что вообще хочет принадлежать кому бы то ни было, но ей до головокружения льстит то, что происходит сейчас, в этот момент, и этот символ у нее на пальце. Это кольцо она станет носить с гордостью, хотя все в Амхерсте узнают его, ведь в течение многих лет они видели его на руке ее любовника. Она и будет носить это кольцо, чтобы каждый его узнавал.
Лишь посреди ночи, когда Мейбел, лежа в постели с мужем, мучительно пытается уснуть, она задает себе вопрос: а что, если это кольцо у нее на руке, то самое кольцо, которым Остин когда-то обменялся с другой женщиной, означает скорее загадочную и чудовищную печать, какой она скрепила свой союз со Сьюзен.
* * *
Мейбел никогда ничего не выбрасывает. Словно стремясь задокументировать собственное существование, она аккуратно хранит, сортирует и разбирает использованные театральные билеты, приглашения, полученные ею письма и черновики собственных писем, посланных кому-то, даже ленточки, которыми были обвязаны подаренные ей букеты. Она трудится с упорством безумного архивариуса над книгой своей жизни, произведением, которое не хочется завершать.
Особенно тщательно хранит она письма многочисленных воздыхателей, которые складывает в розовую картонную коробочку, перевязанную шелковой лентой. Раз в несколько месяцев достает их оттуда, перебирает и перечитывает. Они лежат там подобно геологическим наслоениям, своего рода свидетельские показания тех, кто на протяжении многих лет отдавали дань ее красоте, уму, обаянию. Иногда она их перечитывает, и тогда у нее наконец возникает ощущение, что она героиня романа, то есть в самом деле существует.
В этой коллекции, которую она собирает с детства, есть несколько писем, имеющих в ее глазах особую ценность. Если спасти можно было бы только несколько, она сохранила бы именно эти, короткие, сбивчивые, написанные торопливыми каракулями Эмили Дикинсон, в которых она благодарила Мейбел за игру на рояле в гостиной. Развернув их, она на мгновение чувствует, будто возносится к небесным высям, где, вероятно, ее ждет Эмили.
Возможно, одна из этих записок ей чуть менее дорога, нежели остальные, в ней говорится о Милисенте; Эмили видела ее мельком один-единственный раз и описала так: странная девочка с бездонными глазами, которые с каждым днем все пронзительней. Между поэтессой и ребенком, который никогда ее не видел, эти слова установили некое таинственное родство, и Мейбел всегда будет чувствовать себя непричастной к этой общности.
Посреди ночи, посреди сновидения Милисента вдруг просыпается. Ей снилась какая-то незнакомая дама, высокая, вся в белом, а рядом мальчик ее возраста – возможно, лет восьми, белокурый, с улыбкой на губах, – он молча сидел на облаке, от которого они оба отрывали кусочки и лепили из них фигурки. Милисента тоже, когда кухарка замешивает тесто, любит лепить из него маленьких зверушек. Закончив очередное творение – собачку корабль, кита, – женщина и ребенок клали фигурку на раскрытую ладонь, дули на нее и отпускали в небо. Они не разговаривали друг с другом, но Милисента чувствовала, что между ними царит такое глубокое согласие, что во сне глаза ее наполнились слезами.
Она отбрасывает одеяло, встает и подходит к окну Который сейчас час, она не знает, но луна, почти полная, уже висит высоко в небе и льет с высоты молочный свет. Отец много раз объяснял ей, что луна не испускает света, а лишь отражает солнечный посреди тьмы. Милисента категорически отказывается в это верить. Она не доверяет зеркалам.
Снизу доносятся голоса родителей, они ссорятся. Она различает имена: Сьюзен, Остин. Отец кажется грустным, мать раздраженной. Иногда наоборот, иногда и то и другое одновременно. Она отходит от окна, на цыпочках крадется по комнате и толкает дверь, бесшумно спускается по лестнице и выходит из дома, вступая в сумрак сада. Близкий Хомстед вырисовывается на полотне ночи, как силуэт театра теней. Куда бы она ни пошла, ей кажется, будто этот дом всегда остается в поле зрения, так глаза некоторых персонажей на картинах следят за вами, когда вы перемещаетесь по комнате. Этот дом всегда будет на нее смотреть.
Внезапно она ощущает на щеке легкий укол. Подняв голову к небу, она разглядывает облака – собаку, корабль, кита, – которые скользят, закрывая луну. Из облаков падает снег, мелкий и ленивый, словно тополиный пух. Она берет на кончик пальца упавшую на щеку крошечную снежинку, совершенную, с шестью кружевными лучами и отходящими от них симметричными веточками.
В этот момент октябрьской ночи 1886 года на свете нет ничего прекраснее, чем кусочек белого неба, падающий на землю штата Массачусетс в Соединенных Штатах Америки.
Милисента вытягивается на ледяной траве. Ей кажется, будто она падает в огромный, наполненный звездами водоем. На подушечке пальца не тает снежинка. И даже наоборот: она обжигает, это крошечный белый огонь.
* * *
Год назад Дэвид научил дочь понимать цифры на трубке термометра, вывешенного перед окном гостиной. Каждое утро, вскочив с кровати, она бежит смотреть температуру и гордо объявляет ее домашним, а потом записывает в блокнотик, подаренный как раз для этого.
Она может сказать, что утром на Рождество в 1885 году было ровно 24 градуса по шкале господина Фаренгейта, то есть минус 4,4444 по шкале господина Цельсия. Ей еще трудно делать подсчеты для перевода одной системы в другую, но формулу продиктованную отцом, она запомнила твердо: от температуры по шкале Фаренгейта надо отнять 32, потом разделить на 1,8.
Блокнот ее выглядит идеально, цифры ровные-ровные, начертанные уверенной рукой, ни одного дня не пропущено. Переворачивая заполненные страницы, она любуется прожитыми днями, а созерцая пустые страницы, радуется дням, которые ей предстоит прожить.
* * *
Утренние записи позволили Милисенте осознать эту свою страсть. Если ее мать ведет дневник, пишет статьи и сочиняет музыку, отец делает научные доклады и выводит формулы, то она будет составлять списки, это станет ее способом структурировать мир, слишком огромный, про который она еще почти ничего не знает. Во второй тетради, купленной на собственные карманные деньги, она составляет список любимых месяцев (декабрь, январь, февраль, март), овощей, которые ненавидит (репа, овсяный корень, цветная капуста), любимых звезд (Сириус, Бетельгейзе, Стелла Марис, Венера, которая, вообще-то, и не звезда вовсе, но пусть будет), а еще стран, которые хотела бы посетить (все). На других страницах – список птиц, замеченных в течение дня, любимых растений, ночных шумов, оттенков цветов, которые удалось различить в одной-единственной перламутровой ракушке, самых сочных яблок, лучших качеств собак, любимых прилагательных, писателей, которые ей нравятся больше других.
Страница, озаглавленная «Мои лучшие подруги», осталась пустой.
Что можно сделать из снега
Крепости
Ледяные хижины
Снежки
Снеговиков
Ангелов
В доме Дикинсонов, где сейчас больше призраков, чем живых людей, царит мертвый покой. К счастью, есть кошки, они принадлежат двум мирам одновременно. Лавиния сидит в гостиной. Часы бьют десять, впереди у нее целый день. Перед тем как начать какое-нибудь дело, требующее некоторого времени или необходимости уйти из дома, она по привычке заходит в комнату матери на случай, если той что-нибудь нужно. Это рефлекс. Но комната пуста. Пусты все комнаты, кроме спальни Лавинии. Теперь у нее нет никаких забот: не нужно готовить овсяную кашу с медом, не нужно варить яйцо всмятку для Эмили, не нужно ходить на почту отправлять письма, которые сестра продолжала писать до последних дней жизни, по нескольку в неделю.
Никто больше в ней не нуждается.
Она медленно идет на кухню, надевает рабочий фартук, наливает воду в ведро, вооружается щеткой, флаконом жидкого мыла и принимается скоблить одну за другой ступеньки высокой лестницы, словно полируя клавиши огромного рояля.
Порой она задается вопросом: а вдруг они сейчас все вместе. Отец, мать, сестра и племянник, может, они живут где-то высоко, в небесной обители? А если это так, кто приготовит им ужин?
Небо над верхушками деревьев из серого войлока. Лавиния мечтала бы натыкать туда булавок, чтобы все не распоролось, не распалось, надо успеть вскарабкаться по лестнице и поправить шитье. Каждый божий день она что-то мастерит или чинит. Она вышивает, вяжет, штопает, латает, кладет заплаты и даже выполняет мелкие столярные работы. После ужина она заканчивает шить чепчик для внука подруги юности, осталось только обвязать тесемкой.
На кухне целый ящик комода забит обрывками лент, кусками кружев, мотками тесьмы. В отдельной коробке разрозненные пуговицы: медные, кожаные, железные, перламутровые, деревянные; в банке остатки ниток и ворсинки шерсти, некоторые из них такие короткие, что, роясь в этих сокровищах время от времени, Лавиния задается вопросом, могут ли они пригодиться, разве что пойдут на гнездо для дрозда, но она никогда ничего не выбрасывает. Обрезки ткани аккуратно сложены в большую картонную коробку, такое лоскутное одеяло. В другом ящике горсть ключей, она и сама не знает, какие замки ими открываются, но как можно выбросить ключ?
Из свернутого мотка лент она выбирает бледно-желтую, длиной в две ладони. Она прекрасно подойдет к ярко-синей ткани, но один край слегка растрепался. Лавиния открывает второй ящик, где валяются огарки свечей, – она в буквальном смысле экономит на спичках. И на свечках. Совсем короткие огарки откладывает в отдельное ведерко, дожидается, пока их накопится побольше, растапливает воск, а потом делает фитили. Ей приходится сдерживать себя, а то она хранила бы и сгоревшие спички, сожалея о том, что их нельзя зажечь дважды.
Она берет первый огарок, осторожно проводит основанием свечи по ниткам с краю, чтобы они не трепались дальше. Каждая вещь, какой бы она ни была маленькой, имеет свою пользу Ничего никогда нельзя выбрасывать, это грех. Это не только расточительство, но и отсутствие изобретательности.
Порой ей кажется, что весь дом держится благодаря этим странным разнородным остаткам, они каким-то странным образом являют некий строительный раствор. Избавь этот дом от обмылков, кусков мела, обрезков картона, отрезков ткани, огрызков карандашей, пустых пакетов из-под сахара и муки, останется лишь пустая раковина. Ничего удивительного, что сестра записывала стихи на обрывках конвертов и обертки. Нет ничего долговечнее остатков, они выжили и уцелели, когда все остальное исчезло.
На подоконнике в блюдце с водой стебель сельдерея, лук-порей и три луковицы, зеленые, упрямые, они медленно пускают ростки в осеннюю стужу, движимые невидимой силой, которую она до конца не понимает. Может быть, это сила света, а может, сила какого-то непреложного закона овощей.
Вечером Лавиния обрывает с засохших стеблей цветки лаванды, и они мелкими благоухающими градинами падают на стол. Она берет несколько щепоток таких цветков и помещает в саше, сшитое из остатков яркого поплина в полоску, завязывает шнурком. Она делает это снова и снова, пока на столе не истает горка сухих цветов. Закончив работу, она рассовывает саше по шкафам и сундукам, наполняя ароматом белье, он отпугивает моль. По привычке она сделала слишком много. В большом доме половина шкафов теперь стоят пустыми, три четверти комнат закрыты. Она аккуратно высыпает содержимое лишних саше в миску, выносит в сад и в сумерках размашистым движением разбрасывает сиреневые цветы, словно зерна для птиц. Ничто не должно пропасть. Теперь еще несколько недель синицы будут пахнуть лавандой.
* * *
На кухне, которая до мелочей похожа на кухню в Хомстеде – большой деревянный навощенный стол, плита с шестью конфорками, медные кастрюли, подвешенные к потолку рядом с косичками чеснока и гирляндами шалфея, эстрагона, лавровым листом, – Эмили и Гилберт насыпают в котелок сахар-сырец, сахарозу, наливают патоку, добавляют немного воды, уксуса, кладут несколько кусочков сливочного масла. Они похожи на клоунов-кондитеров, в волосах и на кончике носа – мука. Смеясь, перемешивают все огромной деревянной ложкой. Смесь кипит и меняет цвет: из грязно-белой становится рыжей. Они снимают котелок с огня, добавляют немного белого порошка – должно быть, питьевую соду, – переливают содержимое в стеклянную миску и ненадолго оставляют. Потом берут кусок массы размером с грейпфрут, начинают ее размеренно растягивать и вытягивать, формируя длинные, все более и более тонкие и упругие волокна. Они сверкают у них в пальцах, и кленовый сироп становится похож на нити жидкого золота.
Поскольку действо, которое наблюдает Лавиния, лишено запахов, она понимает, что это сон.
Впрочем, если бы ее спросили, она бы ответила, что никогда не видит снов. По правде сказать, она совсем не верила в сны; это всего лишь выдумки, измышления, плоды воображения, свойственные умам более изобретательным, а возможно, более праздным, чем ее собственный. Она смутно подозревала, что некоторые люди утром придумывают сны, чтобы казаться более интересными. Что до нее, она была лишена воображения, но это не доставляло ей никаких неудобств. Зато она обладала рассудительностью, сметливостью, умела разговаривать с кошками, а из целой пирамиды дынь инстинктивно выбирала самую сочную и ароматную. Это вполне компенсировало недостаток воображения.
Но вот уже несколько недель в снах к ней приходит сестра. В сущности, в этом нет ничего удивительного. Даже у мертвой Эмили воображения хватает на двоих.
Куда бы она ни шла, призрак Эмили следует за ней, а порой и обгоняет. Ее полупрозрачная, просвечивающая сестра превратилась в самого живого из всех призраков.
Лавиния так и не смогла решиться бросить в огонь гербарий, как велела ей поступить с личными бумагами Эмили. Но переворачивая страницы, на которых покоятся увядшие цветы, она прекрасно понимает, что проникла в тайну мертвой сестры глубже, чем если бы прочла ее дневник. Ей кажется, что она вскрыла живот, и там, где у прочих смертных находятся внутренние органы, сердце, легкие, печень, она обнаружила красный пион.
* * *
Утром, при пробуждении, Лавиния осознает, что у нее давно нет месячных. Она пытается вспомнить, когда они были в последний раз. В мае? Или в июне? Когда она убрала свое тряпье? Она не знает. Этот клубок плоти в ее чреве, что каждый месяц формировался, разрушался и потом истекал у нее между ног, этот теплый поток иссяк. У нее нет и больше не будет детей. Она произносит эти слова вслух: «У меня нет и больше не будет детей», силясь осознать эту фразу, в которой сошлись настоящее и будущее, – возможно, столкнувшись, они уничтожают друг друга?
Она хватает Джинжер, что трется возле ее ног, подносит к лицу и утыкается носом в мягкую шерстку. О чем обычно сожалеют люди? Если Лавиния о чем-то и сожалеет, то лишь о том, что у нее мало кошек.
Сьюзен давно питает недоверие к книгам, словно предчувствуя: если бы люди не умирали, то и не писали бы. Книги – знак смерти, как маяк, предупреждающий о рифе. И в том и в другом случае это свет, без которого хотелось бы обойтись. На бледных страницах томов, обтянутых шкурой животных, мертвые говорят с живыми – и с другими мертвыми. Книги – это призраки. Письма стоят не многим больше, ведь они знаменуют отсутствие тех, кого любишь. Даже самые прекрасные, самые нежные и самые волнующие беспрестанно нашептывают: меня здесь нет.
Письма и стихи Эмили тянут Сьюзен в разные стороны: в сторону света и в сторону тьмы, они заставляют чувствовать тоску по любви, которой больше нет, а возможно, никогда и не было. Ибо по прошествии пятидесяти лет она знает: бесполезно искать идеал в путешествиях, в книгах, в вере, в морфине, в объятиях тех, кого любишь, или в звездном небе, как этот несчастный Дэвид, его можно найти лишь в смерти. Порой по утрам, открывая глаза, она чувствует такую усталость, что ей кажется, будто она сделана из того же дерева, что ее кровать.
Народная мудрость гласит: время лечит и в конце концов скорбь становится не такой острой. Это ложь, думает Сьюзен, ей сказали неправду. Совсем наоборот – каждое утро лишь усугубляет горе, обостряет потерю, дыра в груди становится все глубже, и она в любой момент может упасть в эту пропасть. Она носит траур не только по Эмили и Гилберту Она оплакивает свою молодость, свою наполовину истекшую жизнь, отчасти разочаровавшую ее, сокрушается о приближающейся зиме, а ведь она только-только начала привыкать к осени.
Съежившаяся, свернувшаяся клубком в кресле, она достигла того возраста, когда человек начинает уменьшаться. Она смотрит на дверную раму, где каждое первое января они с Остином делали зарубки, отмечая рост детей: вот Эдвард, который давно ее перерос, Марта, уже почти женщина, Гилберт, чей рост навсегда остановился на уровне ее сердца. Сьюзен уверена, что если бы она тогда догадалась измерять и свой рост, сейчас зарубки пошли бы вниз, вычитая то, чего она лишилась.
* * *
Проходят дни, недели. Сьюзен ничего не делает, Лавиния теряет терпение, приходит к ней, убеждается, что дело не двигается, уходит каждый раз разочарованная и слегка раздраженная.
Наконец, как-то утром, когда они обе сидят в гостиной Эвергринса, Сьюзен признается:
– У меня не получается.
– Что не получается? – спрашивает Лавиния.
– Ничего.
Она обводит рукой все, что ее окружает: гостиную с роялем, книгами, весь дом, сад, что обступает все это: и ее, и гостиную, и дом, потом город, расстилающийся вокруг, мир за его пределами, – все напрасно, эксцентрические круги пустоты расходятся все дальше и дальше.
Сьюзен знает, что не стоит и пытаться рассказывать Лавинии про бездонную дыру в ее груди, которая забрала все самое дорогое, хрупкое и самое живое. Она по-прежнему встает по утрам, завтракает, иногда даже смеется, но сердце умерло прежде нее самой. Оно покоится под землей на кладбище, а она считает дни, когда сможет с ним воссоединиться. Однако слова сами вылетают у нее изо рта, они падают, словно мелкие камешки:
– Я встаю по утрам, и моя первая мысль о нем, о Гилберте, он следует за мной, или я за ним, целый день, я разговариваю с ним вслух, спрашиваю, что приготовить на обед, нужно ли ему что-нибудь, может, он хочет, чтобы я ему почитала, вечером перед сном я молюсь, чтобы увидеть его во сне.
Голос дрожит. Лавинии хочется обнять невестку но она знает, что та отодвинется. Боль сделала ее слишком хрупкой для любых прикосновений. Стоит до нее дотронуться, она разлетится на осколки.
Сьюзен отводит взгляд от Лавинии, отвернувшись к окну, продолжает, словно разговаривая сама с собой:
– Наверное, ему сейчас так холодно. Вот уже несколько дней я не могу думать ни о чем другом. Ночью заморозки, по утрам иней, а у него всегда мерзли ноги, перед сном я подкладывала ему в кровать грелку.
Лавиния собирает в охапку стихи Эмили, которым не удалось согреть Сьюзен.
Когда на следующий день она возвращается, чтобы забрать то, что осталось, Сьюзен отказывается ее впускать. Так проходит день, два, неделя. Через закрытую дверь она объясняет, растолковывает, обхаживает, она даже привлекает Остина, чтобы тот попытался убедить Сьюзен отдать оставшиеся рукописи, все напрасно. Сьюзен не хочет терять Эмили во второй раз.
Лавиния задается вопросом, похожи ли стихи на игральные карты и непременно ли нужно собрать всю колоду, чтобы сошелся пасьянс. Стоя перед закрытой дверью на десятый день, она, по зрелом размышлении, решает, что это неважно, пусть карт не хватает: к черту пасьянс, можно просто построить домик.
* * *
Лавиния достает вязальные спицы, самую тонкую нить, какую только могла найти, шерсть ягненка с длинными шелковистыми волокнами, и принимается за работу. В течение трех дней ее спицы постукивают, как стрелки на часах. Видя, как из клубка шерсти создается творение, она испытывает счастье скульптора, который наблюдает за тем, как из куска дерева возникают птица, лошадь, лицо, таившиеся там с незапамятных времен. Она аккуратно разматывает нить, быстро соединяя петли, словно читая книгу, в которой каждое слово на своем месте и в то же время неясно. Каждая такая петля словно отнята у хаоса и уродства, это звено цепи, связывающей живых и мертвых.
В воскресенье на кладбище она, недолго постояв у памятника Эмили, сворачивает на узкую тропинку, ведущую к могиле Гилберта, и кладет на землю шапочку, шарф, пару митенок, которые связала, чтобы ему было тепло ноябрьскими ночами.
Милисента, которая любит все книги без исключения, отдает предпочтение атласам. Она с удовольствием скользит пальцем по раскрытым страницам, обводя извилистые линии – границы между странами, водные пути больших и малых рек. Дэвид показывает ей путь, который проделал, чтобы присутствовать при последнем солнечном затмении, – а это почти половина планеты.
Она смотрит на пузатую глыбу Бразилии, страны огня, сверкающей на солнце, на тонкую полоску Чили, продолговатую, как перец, название которого носит, Аргентину, которая в ее представлении сделана из серебра, аргентума, где на деревьях растут монеты, а в реках течет серебристая вода, на Эквадор, названный так в честь тонкой линии, опоясывающей планету. Она вполголоса повторяет названия городов, напоминающие имена сказочных персонажей: гигант Монтевидео, карлик Киото, отъявленная кокетка Кордова, монахиня Росарио, неотразимая красавица Асунсьон, в которую все влюблены, но она смотрит лишь на Ориона, который где-то высоко в небе охотится за невидимой дичью.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































