Текст книги "Белые тени"
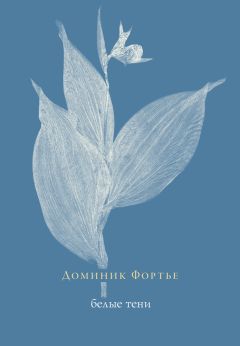
Автор книги: Доминик Фортье
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Доминик Фортье
Белые тени
Dominique Fortier
Les ombres blanches
* * *
Издание публикуется по договоренности с Éditions Alto при содействии Books and More Agency (#BAM) Париж, Франция. Все права защищены
© Dominique Fortier and Éditions Alto, 2022
© А. Н. Смирнова, перевод, 2024
© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2024
© Издательство Ивана Лимбаха, 2024
* * *
Ее стихи – белые тени, это тексты, вытканные из тишины между словами, дом, состоящий из одних окон.
Доминик Фортье
Эмили Дикинсон родилась 10 декабря 1830 года в Амхерсте, штат Массачусетс, и скончалась 15 мая 1886 года в том же доме, где когда-то появилась на свет. Последние годы жизни она провела в затворничестве, в своей комнате, где вела переписку и сочинила сотни стихотворений, которые отказывалась публиковать при жизни.
Я решила представить ее существование, написав книгу «Города на бумаге». А затем, год спустя, почувствовала необходимость воссоздать историю женщин, переживших ее и в каком-то смысле подаривших ей еще одну жизнь: этими женщинами стали сестра Лавиния, лучшая подруга и невестка Сьюзен – супруга брата Остина, его любовница Мейбел и дочь последней Милисента, которая в ту пору была еще ребенком.
Лавиния в сотый раз проводит щеткой по волосам сестры, где среди медно-красного не видно ни одной серебряной нити, собирает их в пучок, стараясь не слишком стягивать, так и строго, и красиво. На нее надели одно из ее белых платьев. Лавиния выбрала самые красивые туфли, лакированные, на невысоком каблуке. Это туфельки для танцев. Потом осторожно проводит пальцами по лицу Эмили, медлит на спинке носа. Кожа век, испещренных синими прожилками, такая тонкая, что сквозь нее, кажется, можно увидеть темные зрачки. Лавинии мнится: там, под веками, глаза еще открыты.
У Эмили сомкнуты губы, зубов не видно, а под кожей не видно костей, всей этой конструкции цвета слоновой кости, из которой состоят скелеты и живые люди. В длину мертвая Эмили кажется ей больше, чем живая, может, это потому, что лежа мы занимаем больше места, чем стоя. Ей не дашь больше тридцати пяти – смерть ее омолодила.
Лавиния поправляет завиток на лбу сестры, в последний раз расправляет кружевной воротничок, потом убирает Библию, которую предусмотрительная служанка положила на стол. Эмили больше не будет читать.
Лавиния выходит в сад, возвращается с охапкой цветов. Из фиалок сплетает ожерелье и обвивает им шею сестры, просовывает между ледяных пальцев два гелиотропа, еще хранящих солнечное тепло, и клочок бумаги со словами: «Нашему дорогому другу Чарльзу Уодсворту».
Даже в отношениях со смертью не следует пренебрегать учтивостью.
* * *
Хотя полагается, что при кончине известной персоны гроб из катафалка в церковь и на кладбище несут именитые горожане, на этот раз всё не так.
– Никаких нотариусов, врачей и учителей, – велела Эмили за несколько дней до смерти.
Она не просто желала отогнать их от своего изголовья, ей хотелось быть уверенной в том, что не они проводят ее в загробную жизнь. Ей претила мысль доверить свое тело белым рукам адвокатов и докторов, привыкшим к финансовым договорам и стетоскопам. Она хотела, чтобы ее несли те же руки, что изо дня в день приносили ей яблоки, молоко, солому.
Лавиния не нарушила воли сестры. Белый гроб на вытянутых руках несут крестьяне и сезонные рабочие. Они держатся прямо и, похоже, совершенно не ощущают веса своей ноши, будто в гробу лишь горстка травы.
Мейбел склоняется над гробом. Она так долго играла на рояле в гостиной Хомстеда для закрывшейся в своей комнате Эмили, так трепетно собирала – будто бесценные сокровища – малейшие приношения, которые порой передавала для нее эта загадочная сестра Остина, и вот теперь впервые может увидеть ее собственными глазами. Она кажется лет на двадцать моложе. Кожа словно мраморная: гладкая, холодная, без единого дефекта. Ничего удивительного, Мейбел втайне догадывалась, что Эмили в последние годы жизни постепенно превращалась в собственную статую.
Покойная в белом гробу из мягкой древесины одета во все белое, и Мейбел приходит в голову мысль: а вдруг в этом теле таятся другие сгустки белого: легкие, внутренности, снежное сердце.
Она чувствует дыхание на шее и, не оборачиваясь, знает, что за ее спиной стоит Остин. Это все знают, и все взгляды обращены к ним. Так смотрят на молнию или на чью-то гибель. Смотришь, пока не потемнеет в глазах, даже если понимаешь, что от этого зрелища можно ослепнуть.
Сьюзен, супруга Остина, сердечная подруга покойной, два дня и две ночи составляла некролог для «Шпринген репабликен». Она ничего не писала уже много месяцев, и эта задача потребовала от нее невероятных усилий – так немощный калека пытается встать с кресла и отправиться в долгий путь. Чтобы заставить себя взять в руки перо, ей пришлось освободиться от груза последних лет, отыскать в себе ту пылкую и доверчивую молодую женщину, которой она была когда-то и которой Эмили написала сотни писем.
С поседевшими волосами, расплывшейся талией, постаревшая двадцатилетняя девушка с бьющимся сердцем села за стол и принялась писать про умершую подругу.
Она выплеснула в этот текст все, что знала об Эмили, оттачивая до блеска фразы, до бесконечности перебирая слова. Так на пляже среди тысячи агатов выбирают камни определенного – самого красивого – цвета.
С течением лет ее чувствительная натура все решительнее отказывалась от соприкосновений с внешним миром, а сама она, черпая лишь из собственных неиссякаемых источников, довольствовалась единственным обществом – самой собой, озаренной, как говорили, «светом собственного огня».
Все так, но все равно не то. Сьюзен была недовольна. Никакое похвальное слово не воздаст должное Эмили, наверное, у пчел или дроздов получилось бы лучше, а еще лучше – написать этот некролог бледными чернилами облаков. Или просто оставить в газете пустую страницу.
* * *
Выполнив свой долг, написав некролог и организовав похороны, Сьюзен замыкается в горе словно в тюремной камере. Физические страдания – это о запертом в темнице узнике, душевные – о человеке, потерявшем любимое существо.
Вечер. Лавиния возвращается с кладбища и запирает за собой дверь. Ее поглощает пустота. Дом недостаточно большой, чтобы вместить такое огромное горе. Она обходит комнаты: из кухни в кабинет через гостиную, столовую, все спальни, и в каждой распахивает настежь окна, впуская майский вечер и песню дрозда.
В оглушительной тишине отмеряют такт настенные часы. Лавиния машинально открывает коробку механизма дедушкиных ходиков, по которым Эмили упорно отказывалась определять время, вставляет ключ в отверстие циферблата, заводит часы. Баланс мерно качается слева направо, а Лавиния все проворачивает и проворачивает ключ, даже когда он сопротивляется и застревает. Она упорствует, пока механизм наконец не уступает и время не останавливает свой бег.
Не раздеваясь, она ложится, свернувшись клубком, на кровати Эмили. Льняные простыни еще хранят запах сестры: смесь скисшего молока и ванили, так пахнет головка новорожденного младенца. Она спит всю ночь не просыпаясь.
На следующее утро ее будит свист дрозда, взгромоздившегося на подоконник. На стекле блестят капли росы. Если всмотреться в одну из них близко-близко, можно увидеть свое перевернутое лицо и опрокинутую вверх тормашками комнату.
Дрозд, одна из тех прирученных птиц, которых Эмили привыкла кормить по утрам, по-прежнему прилетает к окну получить свой корм. Лавиния берет с прикроватного столика сухое печенье, крошит его между пальцами. Приоткрывает окно, высыпает крошки на подоконник, замечая птицу, которая тоже замечает ее и начинает клевать. Эта оранжевая грудка, выпуклая, бархатистая, – ее второй солнечный восход.
Все по-прежнему, но и уже совсем по-другому Дом похож на театральную декорацию, готовую опрокинуться при малейшем дуновении ветра. Все комнаты кажутся чужими, воссозданными в несколько ином масштабе, со стенами из папье-маше, будто они чуть-чуть поменяли свое положение в пространстве и свет из окон падает теперь под немного другим углом. Спальни выглядят обезличенными, ничего из себя не представляющими, как и всякие комнаты, куда входят впервые. Их покинула жизнь, и они умерли тоже. Сколько человек нужно, чтобы дом стал домом, домашним очагом? А кошек считать?
После полудня Лавиния достает из погреба курицу, оставленную для нее соседями и друзьями Мерсе. Птица уже ощипана, выпотрошена, подготовлена. Потроха – сердце, печень ярко-бордового цвета, почки размером с вишню – завернуты отдельно в бумагу, завтра она сделает паштет. Она заполняет полость нарезанным луком, морковью, тимьяном и розмарином, обмазывает кожу топленым салом, обильно солит и перчит, натирает четверть мускатного ореха. Теперь осталось только связать крылья и кончики лап, чтобы конечности не обгорели, и засунуть в печь. Час, два, три часа, время от времени она вытаскивает птицу, поливает ее собственным соком, возвращает в печь.
Вскоре по дому начинает распространяться восхитительный аромат. Лавиния ставит на огонь картофель, зеленый горошек, первые в этом сезоне. Принимается накрывать на стол: одна тарелка, один нож, одна вилка, одна салфетка, один стакан для воды.
Она перекладывает овощи в миску, вытаскивает из печи курицу, раскладывает ее на большом блюде и относит в столовую. Кожица чудесно-золотистая, хорошо прожарена и хрустит. Церемонно, с помощью длинного тонкого ножа отделяет два крылышка, кладет к себе на тарелку, добавляет одну картофелину и горстку зеленого горошка. Заставляет себя жевать и глотать.
Когда она заканчивает, на тарелке остаются половина картофелины и горошек, одно нетронутое крылышко. Она отделяет мясо от костей, чтобы отдать кошке, которая не спускает с нее глаз, следя за каждым движением.
Потом берет остатки курицы и, вместо того чтобы чем-нибудь накрыть их и спустить обратно в погреб, относит к черному ходу – в дар ночным созданиям: енотам-полоскунам, опоссумам, голодным призракам.
* * *
Что делать с одеждой Эмили? Лавиния не решается ее раздать, это было бы предательством. Но выбросить или отнести в кладовку не хочет – она экономная. Вещи должны служить. А что, если из платьев, юбок, блузок умершей сестры сделать стеганое одеяло? Довольная, что нашла наконец себе занятие, она раскладывает на кровати все, чем была богата Эмили перед смертью, то есть ничего. Ну или почти ничего. К тому же – Лавинии это было известно, конечно, но сейчас она вдруг осознала с особой остротой – все было белым. Вы когда-нибудь видели белое-белое стеганое одеяло? Это как пытаться сшить покрывающий поля снег нитью, вытканной из облаков.
Вздыхая, Лавиния аккуратно собирает одежду. Так укутывают ребенка в колыбели.
Разбирая вещи сестры, Лавиния откладывает отдельно предметы, которые не собирается оставлять или отдавать неимущим. Любимая в детстве куколка Эмили, ее письменный прибор, калейдоскоп.
Остин зашел ближе к вечеру. Он иногда так делал – не то чтобы хотел встретиться с сестрой или собирался поговорить, а просто откладывал момент, когда придется вернуться в Эвергринс и увидеть там Сьюзен. Сидя за столом со стаканом холодного чая, он вертит в руках калейдоскоп.
– Ты помнишь то Рождество? – спрашивает Лавиния.
Он пожимает плечами.
– Не уверен. Сколько нам тогда было?
– Тебе, кажется, тринадцать. Тебе подарили почтовый несессер, а мне коробочку для шитья. Я страшно завидовала.
Он удивился:
– Почему это?
– Да потому, что отец и мать считали, будто я не могу связать на бумаге и трех слов и уж тем более написать хоть сколько-нибудь интересное письмо. Эту коробочку для шитья мне хотелось просто бросить в печку – как будто до конца жизни я должна была что-то шить и штопать.
– А я думал, тебе нравится шить, – по-прежнему удивленный, произносит Остин.
– Я потом пользовалась ей, конечно, мне хотелось научиться вышивать. Но тогда я мечтала, чтобы мне подарили бинокль или глобус. Что-нибудь такое, с помощью чего можно было бы видеть далеко-далеко.
Остин напрягает память, пытаясь вспомнить другие праздники Рождества, когда он получал в подарок бесконечные книги, а сестры – ленту и красивую шелковую пряжу.
– У меня дома есть глобус. Хочешь, я тебе подарю? – наконец спрашивает он.
Лавиния закатывается смехом.
Он поднимается, несколько раздраженный. Показывая на калейдоскоп, Лавиния предлагает:
– Отнеси детям, им будет интересно.
Он предпочитает не напоминать сестре, что и Эдвард, и Марта давно уже миновали тот возраст, когда подобные игрушки могли их позабавить, и уходит, размышляя о том, что еще он не знает о своей, теперь уже единственной, сестре, у которой, как всегда ему казалось, никогда ни от кого не было тайн.
Калейдоскоп Эмили Остин относит Милисенте, дочери Мейбел.
Девочка тихо благодарит его, подносит к глазу окуляр – и у нее перехватывает дыхание. Она осторожно поворачивает золотой кружок: комната словно дробится, распадается на осколки, раскачивается, опрокидывается. Милисенте кажется, будто на нее обрушиваются сразу все звезды, о которых ей давно рассказывал папа-астроном, но она едва отличает одну от другой. Попадая в комнату девочки, звезды там и остаются.
Она кладет калейдоскоп на кровать, в шкатулку с самыми ценными своими сокровищами: прекрасно сохранившимся крылышком кузнечика, гнездом дрозда, черным шероховатым камнем, подобранным Дэвидом на склоне вулкана, размером с кулак, пористым, легким, словно клубок шерсти, игральной картой (король треф), еловой шишкой, словарем – это ее собственный калейдоскоп, призма, сквозь которую она смотрит на мир.
В библиотеке отца двадцать томов четвертого издания «Британской энциклопедии», универсального словаря искусств и наук, книги в светло-коричневом кожаном переплете, от пожелтевших страниц которой исходит запах листьев, устилающих тропинки леса, где Милисента любит затеряться.
Она погружается туда с таким наслаждением, с каким другие девочки расставляют мебель в кукольном домике: это же целый мир, скроенный по ее размеру, который она может исследовать медленно, не торопясь. Длинные научные термины не пугают ее, напротив, она тщательно выписывает их, чтобы потом отыскать в словаре, но довольно быстро осознает, что может догадаться об их значении по греческим, латинским или французским корням. Маленькие головоломки, которые надо разгадать, чтобы понять смысл.
Ее первое слово, произнесенное в год, было таким же, как у всех младенцев: мама. А вот второе, несколько дней спустя: книга.
Остин по-настоящему увидел Мейбел, когда впервые услышал, как она играет. Он давно уже заметил супругу нового преподавателя астрономии из колледжа Амхерста, но не выделил ее среди жен других преподавателей. Говорили о ее красоте, но по этому вопросу у него a priori не могло быть собственного мнения. Лишь когда ему рассказали, что она играет на пианино, он в конце концов пригласил Мейбел поиграть в Хомстед по настоятельной просьбе Лавинии, у которой было так мало развлечений.
Она села перед инструментом гостиной дома Дикинсонов, просто и строго одетая, с прямой спиной, с вьющимися прядями на выпуклом затылке, занесла над клавиатурой красиво округленные пальцы, и зазвучали первые такты шопеновского ноктюрна. Лавиния почти тотчас же прикрыла глаза, чтобы лучше чувствовать музыку. А вот Остин ловил малейшие движения пианистки. Когда она, аккомпанируя себе, принялась напевать нежным мелодичным голосом, по его спине пробежала дрожь.
Все это время Мейбел, ни разу не сбившись, с математической точностью отсчитывала ритм. Не то чтобы она была нечувствительна к музыке – она наслаждалась созвучиями, – но еще более она была чувствительна к тому какое воздействие ее игра производит на публику Сидя в гостиной перед братом и сестрой, в тот вечер она все же играла для третьей, невидимой слушательницы: Эмили этажом выше на какое-то мгновение приложила ухо к полу чтобы лучше слышать доносившуюся до нее мелодию, а потом обратилась к той, другой, музыке, отчетливо звучавшей в тишине ее комнаты.
* * *
За несколько лет до этого Мейбел совершенно не собиралась перебираться в Амхерст, который по сравнению с бостонской пышностью представлялся ей невероятно убогим и провинциальным. Но Дэвид получил место преподавателя колледжа, стабильную, хорошо оплачиваемую работу, хотя и без особой надежды на продвижение по службе. Она старалась скрыть свое разочарование – от мужчины, страстно увлеченного звездами и бесконечными тайнами космоса, она ожидала большего.
Тем не менее они принялись готовить ящики и коробки, упаковывать книги, мебель и одежду. По правде сказать, у них было не слишком много вещей, и, оглянувшись на свою жизнь, уместившуюся в несколько контейнеров, Мейбел почувствовала неудовлетворенность и странное ощущение некой досады, какое испытывала даже от собственных успехов, и тем более успехов мужа.
Однако после первого дня в колледже Дэвид вернулся воодушевленный. Жестами и мимикой он изобразил ей всех своих новых коллег, а также руководителей заведения, среди которых особенно выделялась личность Остина Дикинсона, казначея и адвоката, человека образованного, представителя одного из самых известных семейств Амхерста; признанного авторитета для всех и вся.
Уже на следующий день к Мейбел зашла супруга одного из преподавателей, предложив показать город. Полноватая женщина с розовыми щеками и ослепительно-синими глазами немного напоминала фарфоровую куклу, но оказалась довольно эрудированным гидом, которая как свои пять пальцев знала историю Амхерста и его обитателей. Показав, где находится универмаг, ателье модистки, чайный салон и почта, она повела гостью по самым красивым улочкам, предлагая полюбоваться большими чудесными домами в тени раскидистых кленов.
– Кто здесь живет? – спросила Мейбел, указав на здание из светлого кирпича с темно-зелеными ставнями.
– Это Хомстед, дом Дикинсонов, – торжественно провозгласила Саманта, как будто демонстрировала Белый дом. – Первый кирпичный дом в городе. Сейчас там живут только две сестры, Лавиния и Эмили.
И потом, чуть потише:
– Эмили никогда не выходит. Говорят, она вообще не переступает порога своей комнаты. Одевается всегда в белое, и летом, и зимой, а еще она пишет стихи, о да… стихи.
Женщина замолчала, словно ей недоставало слов для описания красоты стихов этой самой Эмили, затем продолжила:
– Но она почти никому их не показывает. Нет, вы представляете себе? Зачем писать, если это должно оставаться тайной?
«Наверное, не такая уж она потрясающая, если предпочитает прятаться», – мысленно произнесла Мейбел, но, не в силах унять бьющееся сердце, задавалась вопросом, как бы ей встретиться и познакомиться с этой эксцентричной особой. Она кивнула головой, что могло означать и недоверие, и одобрение, затем спросила, указав на второе здание, почти такое же красивое, как и предыдущее:
– А это?
– Тоже дом Дикинсонов, Эвергринс. Там живет Остин, казначей колледжа. Это брат Лавинии и Эмили, он женат на Сьюзен Гилберт. Они живут здесь с тремя детьми: Мартой, Эдвардом и малышом Гилбертом. Здесь такая роскошь! Представьте себе, у них в кухне есть даже своя морозильная камера. А еще Сьюзен устраивает прелестные вечера. Вы играете на рояле?
– Немного, – притворно-скромным тоном ответила Мейбел.
– Тогда вам нужно попробовать их инструмент. Он лучший в городе.
Итак, куда бы она ни взглянула, повсюду простиралось королевство Дикинсонов.
* * *
Когда несколько недель спустя Мейбел сопровождала Дэвида на званый вечер для преподавателей с супругами, администрации и семей учащихся колледжа, она тотчас узнала в толпе высокий силуэт Остина Дикинсона, которого, однако, до этого ни разу не видела.
Он поднялся на кафедру и произнес приветственную речь, причем голоса присутствующих стихли еще до того, как он дал понять, что собирается взять слово. Высокий, широкоплечий, чуть сутулый, похоже, не осознающий своего обаяния. У него были черные волосы, высокий лоб, пронзительный взгляд и какая-то природная властность, в его присутствии люди начинали перешептываться. Именно так она представляла себе Люцифера до падения: самый могущественный из всех ангелов. И уже в ту минуту когда, освещенный ярким светом, он поднимался на кафедру, а взгляды присутствующих были направлены на него, все и решилось: она, сочинив его образ, была уже безнадежно, бесповоротно влюблена.
Вечер шел своим чередом: знакомства, оживленные разговоры; со всех сторон сыпались приглашения. Мейбел, как всегда, пользовалась успехом. И хотя Остин не взглянул на нее ни разу, ее сознание каждое мгновение невольно фиксировало, где именно он находился в этом зале, битком набитом людьми. Мейбел уже понимала: этот мужчина, еще не знающий ее имени, был тем самым человеком, ради которого она, забыв о поэзии, театре, журналистике и даже музыке, может посвятить себя главному делу своей жизни: стать наконец такой, какой ей предназначено быть.
Проходили дни и недели, и каждый раз, когда Дэвид говорил ей об Остине или она просто слышала где-то его имя, в глубине ее души начинал звонить колокольчик. Он задавал ритм ее шагам, словно тайная детская песенка: Ди-кин-сон, Ди-кин-сон, Ди-кин-сон.
* * *
Когда их тела впервые соединились, пропала граница, разделяющая их, тонкая, толщиной в кожный покров. Отныне, с этого дня, они оба так и останутся жить обожженные, с содранной кожей. После тех объятий в опустевшем Хомстеде, под неотрывными взглядами призраков семейства Дикинсон, каждый, вернувшись домой, начертил в своем дневнике имя этого нового существа с двумя сердцами, переплетая буквы своих имен, как прежде они сплетали руки в объятиях: ОБМЕНСТИЙЕЛ.
* * *
Тогда Остин и уступил Мейбел и Дэвиду кусок своей земли, чтобы те могли построить дом. Они вместе с Дэвидом начертили общий план дома, согласно которому лестница вела из сада на третий этаж, прямо в спальни. Наблюдая, как две головы склоняются над большими листами с чертежами постройки (фасад, вид спереди, сбоку, ворота), она испытывала смутные чувства, названия которым подобрать было трудно. Но среди этих чувств гордость присутствовала несомненно.
Двумя столетиями ранее один магараджа, обезумевший от любви к своей безвременно умершей юной подруге, повелел в память о ней возвести дворец из белого мрамора. А ради Мейбел даже не один, а двое мужчин вместе строили дом – для нее, чудесно, восхитительно живой.
Этот дом, пылающий красным кирпичом, получил название «Лощина».
Миновал день похорон, и Сьюзен, у которой больше не осталось никаких дел, погрузилась в уныние. Она слишком измождена, чтобы беспокоиться об этой женщине. На ее душе тяжелым грузом лежат утраты, все, что она потеряла, что было у нее отнято – смертью или ложью: Эмили, Остин, Гилберт.
Скорбь переполняет ее, словно любовь, жгучая, опустошительная.
Она перечитывает письма Эмили, словно стремится найти в них то, что упустила прежде. Напрасно: каждое из писем – прощание. Сейчас, среди груды конвертов, Сьюзен чувствует себя еще более одинокой, чем на кладбище. Все эти мертвые письма она отдала бы не задумываясь, лишь бы услышать еще хоть раз живой голос подруги. И все же, разворачивая пожелтевшие листки, она вновь видит лицо Эмили или, вернее, его отражение или тень, тот след, что она оставила в ее жизни, сгустившиеся воспоминания, принявшие форму пустоты, – эдакая древняя окаменелость.
Однажды Эмили написала ей, что ноябрь – это Норвегия года. Именно в этом месяце, сером, ледяном, ни осень, ни зима, навеки ушел Гилберт, ему только-только исполнилось восемь.
Отныне Сьюзен живет в Норвегии.
Два-три раза в неделю она выходит из дома и решительным шагом, не останавливаясь, идет до самого кладбища. Она не решается взглянуть на могилу Эмили, ненадолго заглядывает к родителям, а потом садится на холодную траву, спиной к стеле, на которой выгравировано имя ее мальчика, спящего под землей. Вытаскивает из сумки «Приключения Тома Сойера» и начинает читать вслух. Сейчас они на сто седьмой странице, они читают это вместе уже в пятый раз. Порой, переводя дыхание между фразами, Сьюзен забывает на мгновение, что Гилберт ее не слышит.
Погасив все лампы, потушив огонь в очаге, закрыв окна, заперев двери, Лавиния вытягивается на простынях. Теперь она одна с Шоколадкой и Перчинкой, они слишком ленивые, выходить из комнаты не хотят, вот и спят вместе с нею. Она опускает веки, усилием воли пытается держать их закрытыми, считает: одна, две, восемь, двадцать овечек, а сон все не приходит. Она открывает глаза: комната погружена в полумрак, окружающее пространство сохранило свои очертания, но утратило краски. Наверное, так человек видит все после смерти? – спрашивает она себя и в этот момент слышит вдруг, как скрипит половица в конце коридора: тихий, но вполне отчетливый шорох. Так скрипит деревянный настил, когда по нему крадется кто-то – или что-то.
Она прислушивается с любопытством, ничуть не тревожась. Лавиния не особо верит в призраков, но еще меньше она верит в воров. Кошки прислушиваются тоже, их острые ушки вытягиваются в сторону источника шума. Скрипит еще одна половица, Лавиния помнит, что она в одном шаге от первой, значит звук – или то, что его производит, – приближается. Она продолжает прислушиваться и наконец узнает знакомый ритм: Карло, собачка Эмили, она умерла за несколько лет до своей хозяйки.
* * *
На столе в комнате Эмили спит глубоким сном перо, ему снятся недописанные слова или невидимые стихи, начертанные им в небе, когда оно было дикой казаркой. Перо знает о своем везении: ему удалось прожить две жизни.
Пуховый матрас томится под тяжестью тела. Он чувствует себя таким легким, что вот-вот взлетит вместе с постелью и рассыплется в небесном эфире, словно июльские облака, растворится, как соль в стакане воды.
В чернильнице застыли чернила. Они превратились в желе, пасту, облатку для запечатывания писем. Потрескавшаяся поверхность седеет, покрываясь бархатистой пленкой, какая бывает у некоторых грибов. Чернила стали чем-то безжизненным, как камешек. Отныне они принадлежат миру минералов.
Когда-то стол был огромным дубом, и его ветки касались облаков. Он давал приют птичьим семействам и укрывал енотов-полоскунов. Грозовыми вечерами он кряхтел на ветру, как корабельная мачта. Его начали рубить с верхушки: верхние сучья упали в смятую траву вместе с разоренными гнездами, хрупкими разбитыми скорлупками, потом полетели вниз средние ветки и, наконец, четыре или пять самых нижних, больших, толщиной с человеческое туловище. Когда остался один ствол, его распилили на несколько толстых кусков-обрубков, из которых настрогали доски, а потом сделали мебель. Теперь из земли торчал один пень, и по кольцам на его поверхности можно было прочесть историю дерева, его сто одно лето и сто зим. Стол тоскует по зиме. Ему хотелось бы в последний раз почувствовать снег.
* * *
Эмили много раз велела сжечь свои письма и дневники, Лавиния и подумать не могла ослушаться сестру. Вот только до сих пор не могла решиться исполнить ее волю. Этим утром она толкает дверь ее комнаты, бесшумно входит, на мгновение замирает, стоя в лужице солнечного света. Перчинка пользуется моментом, чтобы проскользнуть между ног и растянуться посреди желтого квадрата на полу Ничего не изменилось, только тишина стала другой. Комната наполнена ее отсутствием.
Она выдвигает нижний ящик комода красного дерева: свернутые чулки, юбки, рубашки без рукавов. Кроме чулок, все белое. Во втором ящике покоятся ночные рубашки, в третьем хранятся платки, воротнички и какие-то кружева. Будто мертвые птицы, лежат личные дневники, которые Лавиния, не проглядев, бросает в огонь. Поднимается пламя, почти белое из-за слишком яркого света.
Когда дневники преданы огню, наступает очередь писем, сложенных в стопки во втором ящике сверху. Лавиния вынимает пачки, перевязанные черными, зелеными и незабудкового цвета ленточками. Из конвертов вываливаются засушенные цветы, кленовые листья и посеревшие цветки клевера. Она не открывает ни один из конвертов. Пусть они хранят свои тайны в ларцах – на пожелтевших страницах. Но некоторые открываются сами, словно утренние цветы с восходом солнца, и тогда она невольно читает первые слова:
Моя дорогая Эмили…
Эмили, дорогая…
Дорогая госпожа…
Любовь моя…
Она быстро закрывает их и бросает в огонь, словно боясь, что слова разлетятся и растают в воздухе. Именно от них пламя становится красным.
Лавиния открывает последний ящик. Лавина бумажных клочков рассыпается, словно сметенная невидимым ураганом. Куски разорванных конвертов, смятые уголки мешков из-под муки, лохмотья упаковок из-под сахара, куски оберточной бумаги из бакалейной лавки, обрывки листов и даже фрагменты музыкальных партитур взлетают, будто стаи чаек. Все это источает запахи корицы, шоколада, мыла и черного перца.
Лавиния берет первый попавшийся обрывок страницы, с трудом разбирает какие-то слова – надо бы надеть очки, – но тут же инстинктивно, по наитию, по мурашкам на коже понимает, что это стихотворение. Так, сунув руку в огонь, сразу понимаешь, что будет ожог.
Клочок конверта дрожит у нее в руке. Никогда еще бумага не казалась такой живой.
Ее первым, рефлекторным движением было засунуть все обратно в ящик. Она судорожно собирает обрывки листов, пытается сложить их в стопки, утрамбовать, но все напрасно: кажется, их стало больше, а ящик уменьшился в размерах. Стихи туда больше не помещаются и не поместятся – разве кому-нибудь удавалось вернуть снег в облака, лаву – в вулкан, слезы – в глаза?
Стоя на коленях в ногах кровати, Лавиния приподнимает крышку сундука из камфорного дерева. В такие сундуки девушки складывают свое приданое: рубашки, скатерти, простыни, платки. Лавиния находит там десяток рукописных книжечек, тоненьких, объемом в несколько страниц, сшитых вручную мелкими аккуратными стежками, так накладывают швы на рану.
Первую она раскрывает очень осторожно и даже с опаской – как раздвигают ребра, чтобы увидеть пульсирующую под ними алую тайну. Эти страницы заполнены мелким почерком Эмили, таким острым, что его трудно разобрать – птичьи следы на ледяной поверхности. Лавиния боится, как бы эти страницы не растаяли прямо у нее в руках. И в то же время она предчувствует, что эта хрупкая снежная книга переживет ее – она всех переживет.
Эта одинокая женщина в комнате только что безотчетно приняла очень важное решение, одно из самых важных во всей американской литературе. Если бы от страха, усталости, по неведению или просто от любви к умершей сестре и уважения к ее последней воле она сочла стихи Эмили письмами (а какая, в сущности, разница между ними, разве стихи – это не письма неизвестному адресату?), сегодня никто бы и не вспомнил имени Эмили Дикинсон. Если бы не Лавиния, Эмили просто умерла бы, как падает дерево в лесу, когда никто этого не слышит, без шума и без эха.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































