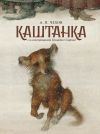Текст книги "Жизнь Антона Чехова"

Автор книги: Дональд Рейфилд
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Глава 20
Возвращение в Таганрог
апрель – сентябрь 1887 год
Чем более Франц Шехтель преуспевал как архитектор, тем осмотрительнее становился в связях с людьми и в обращении с деньгами. Чехову он достал билет третьего класса – не слишком высокая плата за получаемую медицинскую помощь. В поезде Антон спал скрючившись, точно его кот Федор Тимофеевич, «носки сапогов около носа». Проснувшись в пять утра в Орле, он отправил в Москву письмо, наставляя семейных во всем слушаться Ваню: «Он положительный и с характером». На третий день, в Великую Страстную субботу, он был уже в Таганроге. Вместе с дядей Митрофаном и всем его семейным кланом Антон пошел в Митрофаньевскую церковь на пасхальное богослужение.
Таганрог Чехова разочаровал, о чем он писал Лейкину: «60 000 жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов – никаких… Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, сантуринское, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг… Местоположение города прекрасное во всех отношениях, климат великолепный, плодов земных тьма, но жители инертны до чертиков… Все музыкальны, одарены фантазией и остроумием, нервны, чувствительны, но все это пропадает даром… Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников».
Шесть лет приобщения к московской цивилизации дали о себе знать – дом дяди Митрофана показался Антону запущенным и грязным; «ватер у черта на куличках, под забором, – жаловался он в письме домашним, – нет ни плевательниц, ни приличного рукомойника… салфетки серы, Иринушка [прислуга] обрюзгла и не изящна… то есть застрелиться можно, так плохо!» Посетил он и дом, где прожил последние пять лет перед отъездом в Москву: «Дом Селиванова пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согласился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!»
Лет восемь не расставался Антон столь надолго с сестрой и матерью. Он взялся вести дневник своего сентиментального путешествия, который отправлял по частям в Москву. Навестил старых учителей: инспектор Дьяконов по-прежнему «тонок, как гадючка», а отец Федор Покровский – теперь «гроза и светило» своего прихода. Интересовался бывшими подружками – у одной был слишком ревнивый муж, другая сбежала с актером. Влюбленную в него актрису отверг. Побывал у жен московских коллег, Савельева и Зёмбулатова, пил вино с местными докторами, озабоченными тем, чтобы превратить Таганрог в морской курорт. И всячески старался не попадаться на глаза полицейскому осведомителю Анисиму Петрову, который теперь вошел в члены Митрофаньевского братства.
От грязи и всевозможных огорчений у Антона расстроился желудок и обострился геморрой, а сырой воздух спровоцировал бронхит. Вдобавок на левой ноге разболелась варикозная вена – ему то и дело приходилось обходить стороной вездесущего Анисима Петрова. А с одноклассником Еремеевым, теперь уже врачом, было выпито так много вина, что стало не до таганрогских красавиц. Лишь двоюродный брат Георгий порадовал душу Антону: он редко захаживал в церковь, был подвержен греху табакокурения, охоч до женщин и вместе с тем усердно трудился на благо Черноморско-азовского пароходства.
Две недели находился Антон в центре внимания таганрогской публики. Этого ему показалось достаточно, и он отправился шафером на свадьбу сестры доктора Еремеева в степной Новочеркасск. По дороге остановился у Кравцовых в Рагозиной балке. Катание на лошадях, охота, простокваша и кормежка по восемь раз на дню могли бы, по его словам, излечить 15 чахоток и 22 ревматизма. На свадьбе, фигурируя в чужой фрачной паре, он кокетничал с девушками, распивал цимлянское и объедался икрой. Дорога заняла немало времени – на пересадке пришлось восемь часов дожидаться поезда и спать на запасных путях: «Вышел ночью из вагона за малым делом, а на дворе сущие чудеса: луна, необозримая степь с курганами и пустыня; тишина гробовая, а вагоны и рельсы резко выделяются из сумерек – кажется, мир вымер…» А в Рагозиной балке за почтой надо было ездить за двадцать с лишним верст. Однако по дому Антон не скучал. Лейкин докладывал ему о злоключениях Пальмина и выражал недовольство, что Антон жалуется на нездоровье: «Вы пишете, что страдаете четырьмя болезнями. Врачу-то уж это совсем нехорошо. Впрочем, Ваша болезнь хотя беспокойная, но совсем не опасная». Зато о своем самочувствии сообщить не преминул: «Скипидар способствует выделению газов».
Первого мая застрелился четвертый сын Суворина, Владимир. Был ему двадцать один год. Александр сообщил об этом Антону открыткой, написанной по-латыни: «Plenissima pertur-batio in redactione. Senex aegrotissimus est. Dolor communis…»[125]125
В редакции полнейшее смятение. Старик очень страдает. Печаль общая (лат.).
[Закрыть] Суворин мучился душой – он не уделял сыну должного внимания, не похвалил его пьесу «Старый глаз – сердцу не указ». Делая запись в дневнике, он вспоминает убийство первой жены и винит себя за обе эти смерти: «Я ничего никогда не умел предупредить, и в этом мое горе, мое проклятие. <…> Он был умен и добр, но этого, кажется, никто не хотел замечать. <…> Вспоминается мне его мать. То же самое – ничего я не мог и не умел предупредить. Какая-то скверная черта у меня есть – воздерживаться и напускать на себя суровость тогда, когда этого не нужно»[126]126
Дневник А. С. Суворина. М.; Лондон,1999. С. 72.
[Закрыть].
Спустя неделю об этом же писал и Лейкин: «Какое горе у Суворина-то! Сын-студент застрелился. Причина неизвестна. Оставил только записку, где говорит, что жизнь надоела, и полагает, что в том мире лучше, чем в здешнем. Бедного Алексея Сергеича, совсем расхлябанного горем, увезли вчера в Тульскую губернию в усадьбу». Так родилась тема пьесы «Чайка». Чехов глубоко сочувствовал Суворину – на его сыновьях стояла та же печать обреченности, что и на братьях Антона; тяжелая минута еще крепче связала их.
Пасху семейство Чеховых отпраздновало с размахом, о чем Павел Егорович докладывал сыну: «Утреня и обедня продолжались полтора часа. <…> Разговлялись мы одни <…> Окорок отличный, а Пасхи вышли сырые <…> Визиты нам сделали на Первый день Семашко, Иваненко, Дюковский и Алексей Афанасьевич. На второй Офицер Тышко и Долгов, который выпил три бутылки пива и чуть-чуть не разбил пианино сильными ударами. Играл хорошо с воодушевлением. Потом Г-н Корнеев и М-м Янова, Эфрос и Племянница Корнеева, а вечером были дети Корнеева, которые меня удивляли своими базарными разговорами. <…> Остаюсь любящий тебя П. Чехов».
Коля немного образумился и порадовал домашних тем, что согласился провести с ними лето в Бабкине. Между тем из Петербурга все чаще раздавались отчаянные призывы Александра – Анна по-прежнему была в больнице, а теперь и сыновья слегли с тифом, однако больница отказывалась принимать детей без свидетельства о рождении. Сам же Александр никак не мог справиться с ленивой и вороватой прислугой. Он умолял Ваню и Машу прислать в Петербург Евгению Яковлевну: «Бедные дети пищат, просятся на „горшочек“ и разрешаются на постель. Меня нет дома всю ночь. Право, не грешно было бы матери приехать ко мне»[127]127
ОР. 331 82 2. Письма Ал. П. Чехова М. П. Чеховой. 1883–1887. Апрель 1887.
[Закрыть].
Обсуждая этот вопрос с Машей, Коля категорически возражал: «Когда несколько лет назад в Таганроге заболела Маничка, мать поехала навестить больную девочку и ухаживать за ней, и что же вышло? Мать измучилась, сплевывала, а Александр рвал на себе волосы и ходил в церковь плакать. <…> Если мать отправить в Петербург, то повторится то же, что написано выше, т. е. мать будет несчастна и жизнь Александра отравлена. <…> Мать поедет в Питер в семью Александра, в ту семью, где она может заболеть тифом и остаться там навсегда»[128]128
ОР. 331 82 17. Письмо Н. П. Чехова М. П. Чеховой. Май 1887.
[Закрыть].
Когда бы ни просил Александр помощи для своей незаконной семьи, сочувствия от Чеховых ему доставалось немного. Жену его, Анну, и детей от нее они возненавидели на всю жизнь. Александр был оставлен на произвол судьбы, а в мае мать и сестра выехали на дачу.
Пятого мая Антон отправился в монастырь «Святые Горы», куда на пасхальные праздники собралось пятнадцать тысяч паломников. Монахи поселили его в номере с полицейским соглядатаем, который разоткровенничался и рассказал ему историю своей жизни. Все двое суток, проведенных в монастыре, Антон восхищался лесистыми холмами, церковными службами и богомольными паломниками. Рассказы, вдохновленные поездкой в святые места, пронизаны благоговением перед великолепием природы и православной патетикой – скорее церковных ритуалов, чем религиозных догм. Возвращаясь в Таганрог, Антон навестил друзей юности, Сашу Селиванову и Петра Сергеенко, которому через пятнадцать лет будет суждено активно вмешаться в чеховскую жизнь. К 17 мая Антон без гроша в кармане вернулся в московские холода. Он вызвал к себе Шехтеля для откровенного разговора о сестрах Яновых, пожаловался на сексуальную неудовлетворенность, а также попросил в долг 30 рублей. Затем Антон отправился в Бабкино, где его ждали мать и Маша с Мишей.
Суворин, впавший в депрессию после смерти сына, оставил без внимания изданный «Новым временем» сборник чеховских рассказов, «В сумерках». Чтобы рассчитаться с Сувориным за аванс, Антону пришлось больше писать для «Нового времени», так что Лейкину в то лето достались лишь четыре небольшие юморески. В «Петербургскую газету», в которой платили щедрее и давали больше свободы, Антон послал девять рассказов. Один из них, «Его первая любовь», позже будет переработан в рассказ «Володя», повествующий о самоубийстве юноши. Как мы теперь понимаем, лучшие образцы русской короткой прозы того времени появились на свет из необходимости вернуть одолженные триста рублей и благодаря материалу, накопленному в поездке по южным краям. В первом чеховском стихотворении в прозе (quasi-симфония), «Счастье», слышатся и мотивы будущей «Степи», и зловещий звук лопнувшей струны, предвещающий крах всех надежд в пьесе «Вишневый сад». Чехов вполне может претендовать на звание первого русского писателя, выступившего в защиту природы. Даже злой на язык Буренин написал ему панегирик, а в столичных ресторанах номера «Нового времени» с рассказами Чехова зачитывали до дыр. В июльском рассказе «Перекати-поле» агент полиции, повстречавшийся Антону в монастыре, становится евреем-выкрестом: «жид крещеный, что конь леченый, что вор прощеный – одна цена». Есть здесь и лопнувшая струна – герой искалечен сорвавшейся в шахте бадьей.
Чеховский неприкаянный еврей замыкает вереницу «лишних людей», населявших русскую литературу от Пушкина до Тургенева. Публика воздала должное попыткам Чехова воскресить эту отжившую свой век традицию, однако наивысшее признание на сей раз пришло к нему от музыкантов, которые оценили гармонию чеховской прозы, ее ритмику, а также сонатную стройность – разработка экспозиции во второй части и ее реприза в финале. Церковный рассказ «Миряне» так глубоко поразил Чайковского, что тот написал автору письмо (к сожалению, до него не дошедшее). О своем впечатлении композитор писал также брату Модесту, через которого он впоследствии и познакомится с семейством Чеховых[129]129
В Таганроге двоюродный брат Антона, Георгий, работал под началом третьего из братьев Чайковских – толстяка Ипполита, любителя женщин и веселых шуток.
[Закрыть].
Будучи весной в Петербурге, Антон не захотел повидаться с женой Александра; теперь же он давал рекомендации по почте, из Бабкина. Судя по назначаемым лекарствам и температуре, Анна переносила тиф на фоне обострившегося туберкулеза. В то лето Антон лишь раз ненадолго выбрался в Москву на встречу со своими почитателями Ежовым и Грузинским. Кстати, Грузинский – единственный, кто сохранил в своей памяти, каков Чехов «в гневе». «Будильник» тремя номерами печатал чеховскую юмореску «Из записок вспыльчивого человека». Когда Антон обнаружил, что в ней без его ведома сделаны сокращения, он, под стать своему герою, вспылил и наговорил неприятных вещей выпускающему редактору. Ежову же запомнился куда более спокойный человек: «У него был голос слабоватый <…> Смех Чехова, приятный и задушевный, говорил о том, что Чехов вообще не склонен сердиться. В нем было что-то тихое и чистое. <…> Он положил перо, задумался и вдруг… улыбнулся. Эта улыбка была особая, без обычной доли иронии, не юмористическая, а нежная и мягкая. И я понял, что это была улыбка писательского счастья»[130]130
Cм.: Ежов Н. М. Алексей Сергеевич Суворин: Мои воспоминания о нем, думы и соображения. // Исторический вестник. СПб., 1916. № 1. С. 110–138.
[Закрыть].
По возвращении в Бабкино Антон присматривал за Колей и в то же время взялся помогать доктору Архангельскому в составлении обзора, посвященного российским психиатрическим заведениям, – эта работа принесет литературные плоды пятью годами позже. В конце июля Коля опять сбежал из-под надзора. Шехтель докладывал о нем из Москвы: «Мы поговорили по душам, и в конце концов он пришел к сознанию, что нужно бросить Кувалду или что это единственное средство, чтобы сжечь корабли и, окунувшись три раза в котел с кипящим молоком, т. е. придав своей за последнее время сильно заскорузловшей внешности джентльменский лоск, войти опять в свет. <…> И в тот же вечер хлынула кровь – кровь не бутафорская, в этом не может быть сомнения – я видел, как он харкал. На другой день хуже. Сегодня он присылает записку: просит прислать доктора, совсем истекает кровью».
Чехов не поспешил в Москву на помощь брату, однако Коля перебрался в дом на Садовой, пообещав, что не принесет с собой блох. Антон пробыл в Бабкине до сентября, гулял по лесам, собирая крыжовник, малину и грибы. Все еще находясь под впечатлением от поездки в южные края, а также нуждаясь в деньгах, писал для «Нового времени» степные рассказы. Занятия иного рода исключались: «В Бабкине по-прежнему тараканить некого. <…> Съел бы Яшеньку блядишку <…> Работы много, так что бзднуть некогда», – жаловался Антон Шехтелю[131]131
Купюра в ПССП. См.: ОР. 331 22 14. Письма А. П. Чехова Ф. О. Шехтелю. 1886–1902. Письмо от 4.06.1887. Цитируемый фрагмент вымаран чернилами.
[Закрыть].
В сентябре московские писатели вернулись к письменным столам. Пальмин делился с Лейкиным (а тот – с Антоном) своими невероятными любовными похождениями. Антону в этом смысле похвастать было нечем. Последний из его «степных» рассказов, «Свирель», повествующий о высыхающих речках и выгорающих лесах Донского края, вызвал раздражение критиков: они ожидали от чеховской прозы большей сюжетности, нравоучительности и человечности. Н. Михайловский, законодатель мнений журнала «Северный вестник», набросился на только что выпущенный Сувориным сборник «В сумерках»: «Вопросы без ответов, ответы без вопросов, рассказы без начала и конца, фабулы без развязки <…> Сумеречное <…> полутворчество <…> Было бы желательно, чтобы г. Чехов попробовал зажечь в своем кабинете рабочую лампу, которая осветила бы полуосвещенные лица и разогнала бы полумрак, затягивающий абрисы и контуры».
Осыпанный критическими упреками, обеспокоенный долгами и участью своих братьев, Антон впал в уныние.
Глава 21
«Иванов» на московской сцене
сентябрь 1887 – январь 1888 года
В сентябре Антон написал брату Александру письмо со столь явными намеками на желание покончить с собой, что тот письмо уничтожил, а сам спешно взялся за ответ: «Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому. <…> Глубоко тебе в этом сочувствую всем сердцем, всею душою, ибо и я не счастливее тебя. <…> Непонятно мне одно в твоем письме: плач о том, что ты слышишь и читаешь ложь и ложь, мелкую, но непрерывную. Непонятно именно то, что она тебя оскорбляет и доводит до нравственной рвоты от пресыщения пошлостью. Ты – бесспорно умный и честный человек, неужели ты не прозрел, что в наш век лжет всё <…> Поставь себе клизму мужества и стань выше (хотя бы на стуло) этих мелочей. <…> Я не заслужил ордена Св. Анны, а он повешен мне на шею, и я ношу его в праздник и в будень». Александр предлагал Антону перебраться в Петербург, но город брату был ненавистен. Суворин все еще горевал по сыну в загородном поместье, а в это время «зулусы» – писаки из «Нового времени» – глумились над Дарвином и Надсоном. Антон успокаивал свою совесть тем, что вместе с братом они создают солидный противовес реакционерам. Суворин не усматривал здесь конфликта: «Чехов не осуждал политической программы „Нового времени“, но сердито спорил со мной об евреях <…> Во всяком случае, если „Новое время“ помогло Чехову стать на ноги, то значит хорошо, что „Новое время“ существовало»[132]132
Черновик письма А. С. Суворина В. Дорошевичу от 1904 г. Цит. по: ПССП. Письма. Т. 2. С. 401–402.
[Закрыть]. Никогда не сомневался Суворин и в том, что его привязанность к Чехову была взаимной: «А если Чехов меня любил, то любил за что-нибудь серьезное, гораздо более серьезное, чем деньги». И все-таки, даже прикрывая иногда Чехова от нападок своих щелкоперов, он никогда не обеспечивал ему полную защиту: «Чехов очень независимый писатель и очень независимый человек <…> Я мог бы фактами из его литературной жизни доказать, какой это прямой, хороший и независимый человек»[133]133
Письмо А. С. Суворина А. А. Дьякову. Конец 1880-х гг. Цит. по: ПССП. Т. 2. С. 401.
[Закрыть].
Петербург все больше раздражал Антона. Он меньше писал для «Осколков» – Лейкин и Билибин утомили его взаимными жалобами: Лейкин был недоволен подкаблучником Билибиным с его вялостью и отсутствием аппетита, а Билибин – интриганом Лейкиным с его истерией и толстым животом. Наскучило и Бабкино, и прежде всего сексуально озабоченный Алексей Киселев.
Плохо было и с деньгами. За 150 рублей Антон продал братьям Вернерам права на четырнадцать юмористических рассказов. При этом он ожидал, что Суворин возьмется издавать его более солидный сборник. В то время выгоднее всего было писать длинные пьесы, поскольку драматург получал два процента от сбора за каждый акт. Однако постановка пьесы на императорской сцене была возможна лишь после преодоления многочисленных препон. Что касалось частной сцены, то в Москве единственным заведением с приличной репутацией был лишь театр Корша. Там играли и Лили Маркова, и Машина подруга Дарья Мусина-Пушкина. Чехов посмеивался над нелепыми пьесами в коршевском театре. Тот бросил ему вызов, предложив написать что-нибудь получше. Актеры уверяли Антона, что у него получится, так как он умеет «играть на нервах»[134]134
См.: Сергеенко П. А. О Чехове // Нива. 1904. № 10. С. 217–218
[Закрыть]. Чехов и вправду согласился написать пьесу и вступить в Российское общество русских Драматургических писателей и оперных композиторов.
Название пьесы – «Иванов» – было выбрано с дальним прицелом: на спектакль, главный герой которого носит самую распространенную в России фамилию, можно было заманить не менее одного процента населения страны. Иванов, яркий интеллектуал (такова его рекомендация), все четыре акта пьесы пребывает в депрессии. Еврейская девушка, на которой он женился вопреки воле ее родителей, неизлечимо больна чахоткой. Иванов увлекается дочерью своих кредиторов. В финале, в припадке ненависти к самому себе, он стреляется. Специально для театра Корша Чехов задумал мелодраматические концовки действий: во втором действии жена застает мужа в объятиях возлюбленной; в конце третьего муж сообщает жене о том, что ее болезнь безнадежна, а заканчивается пьеса смертью героя (сначала он умирал от разрыва сердца, а потом автор вложил в его руку пистолет). Нынешнего зрителя больше увлекает конфликт Иванова с резонерствующим врачом, который преследует его разоблачениями, и корыстным управляющим, подбивающим его на неосуществимые прожекты; эти три центральных персонажа как бы составляют единую сложную личность. Сам Чехов представлял свою пьесу как историю развития душевной болезни и при этом уклонялся от ответа на вопрос, кто же главный герой – подлец или жертва? Еще более озадачил актеров подзаголовок пьесы – «Комедия».
Пьеса появилась на свет «нечаянно», за десять дней. Чехов заперся у себя в кабинете, и пришедший к нему на первое чтение Ежов нашел автора пасмурным, задумчивым и молчаливым. В письме к нему он пьесу расхвалил, а за глаза критиковал как «мрачную драму, переполненную тяжелыми эпизодами»; сам же Иванов ему «не представлялся убедительным»[135]135
РГАЛИ. 189 1 2. Черновик Н. Ежова «Юмористы 1880-х годов». Цит. по: ПССП. Т.П С. 413.
[Закрыть]. И все-таки Чехов остался пьесой доволен: она у него вышла «легкая, как перышко, без одной длинноты. Сюжет небывалый». Понравился «Иванов» и Коршу, а также Давыдову, которому предназначалась заглавная роль: прочитав пьесу, он до трех часов ночи говорил автору комплименты. Двадцать лет спустя он вспоминал: «Я не помню, чтобы другое какое-либо произведение меня захватило, как это. Для меня стало ясно до очевидности, что передо мною крупный драматург, проводящий новые пути в драме»[136]136
См.: Давыдов В. Я. Кое-что о Чехове. Цит. по: ПССП. Т. П. С. 414.
[Закрыть].
Постановка пьесы на сцене театра Корша возвестила о рождении Чехова-драматурга. Впервые из-под его пера вышло нечто «большое» и «серьезное», хотя – и он сам это понимал – не лишенное недостатков. И снова Лейкин навязывал ему недоброжелательные наставления, отговаривая его от участия в репетициях и советуя не обольщаться Давыдовым, в «лукавости» которого ему самому уже пришлось убедиться. Впрочем, премьера, состоявшаяся 19 ноября 1887 года, оставила у автора чувство досады: лишь Давыдов и Глама-Мещерская выучили свои роли, а некоторые актеры на вторых ролях вообще играли в подпитии. Однако публика не скупилась на аплодисменты и вызывала автора даже по ходу пьесы. Хотя финал – смерть героя от разрыва сердца на собственной свадьбе – привел зрителей в недоумение. Для второго представления Чехов финал переделал. Критик Петр Кичеев, не простивший Чехову его разрыва с «Будильником», в рецензии на пьесу старался ужалить начинающего драматурга побольнее: «глубоко безнравственная, нагло-циническая путаница понятий», «циническая дребедень», автор – «бесшабашный клеветник на идеалы своего времени»; герой – «негодяй, попирающий все, и божеские, и человеческие законы». Сидя в окружении пустых пивных бутылок и утиного помета, высказывал свое мнение о пьесе Лейкину и Лиодор Пальмин: «Во всех сценах нет ничего ни комического, да ничего и драматического, а только ужасная, омерзительная, циническая грязь, производящая отталкивающее впечатление».
Всего в театре Корша пьеса выдержала три представления. Благожелательности рецензентов хватило лишь на то, чтобы обеспечить ей постановку на провинциальной сцене. Обогатившись на четыреста рублей, Чехов пережил и некоторое душевное смятение. Холодный прием, оказанный новоиспеченному драматургу, породил в нем сложное чувство по отношению к театру – любовь на грани ненависти, и каждая его последующая пьеса станет бомбой замедленного действия для традиционной сцены и непростым испытанием для актеров. Чем громче Чехова призывали к соблюдению условностей драматургии, тем чаще он ими пренебрегал. Провал «Иванова» содержит в себе зачатки триумфа «Дяди Вани».
Отныне в день премьеры своей новой пьесы Чехов будет прятаться от глаз людских подальше и даже уезжать из города. После третьего представления «Иванова» он сбежал в Петербург и дал пьесу на прочтение Суворину[137]137
«Иванова» можно считать ответом Чехова на пьесу Суворина «Татьяна Репина». Сабинин, разорившийся герой суворинской пьесы, оставляет актрису, которая его любит, ради другой женщины, в чьих деньгах он нуждается, тем самым доводя покинутую до самоубийства. Пьеса Чехова заимствует ряд драматургических ходов: у Суворина обреченная актриса ищет утешения у кузена, у Чехова Анну-Сарру поддерживает дядя Иванова. Принципиальное расхождение двух пьес в том, что Чехов пишет просемитский отклик на суворинскую пьесу, главный злодей которой – кредитор еврей Зоннерштейн. У Чехова «пятый пункт» переходит от злодея к героине, а плетущим козни негодяем становится русский – Боркин.
[Закрыть]. На этот раз он поселился у Александра с его выздоравливающими от тифа домочадцами. У чеховского брата жизненных проблем было не меньше, чем у Иванова: смертельно больная Анна, тоскующая по своим старшим детям, изводила себя ревностью к сексуально неудовлетворенному мужу. Его дом, несмотря на присутствие прислуги и регулярно выдаваемое Сувориным жалованье, был беден и запущен; сыновья отстали в развитии и замкнулись в своем собственном мирке. Антон писал домашним, невольно подражая тону высокомерного доктора Львова: «Живу у Александра. Грязь, вонь, плач, лганье; одной недели довольно пожить у него, чтобы очуметь и стать грязным, как кухонная тряпка».
Через три дня Антон перебрался к Лейкину, где «наелся, выспался и отдохнул от грязи», а от него – в гостиницу «Москва». Живя на свободе, он имел больше возможностей заводить знакомства с дамами и находить новых друзей мужского пола. В Петербурге у него появились новые почитатели. Одним из них был Иван Леонтьев, внук генерала, взявший себе псевдоним Щеглов под влиянием морали из крыловской басни: «Пой лучше хорошо щегленком, чем худо соловьем». Другим – Казимир Баранцевич, мелкий служащий Общества конно-железных дорог, отец шестерых детей, ночи напролет проводящий за письменным столом. Из болезненной скромности он в доме не имел зеркал, а героями своих сочинений выводил людей, чья жизнь была еще более тяжелой и мрачной.
Билибин, Щеглов и Баранцевич в Петербурге, Грузинский и Ежов в Москве были для Антона не только друзьями и поклонниками, но и мрачным предупреждением о том, как дорого может стоить российскому интеллигенту неспособность добиться успеха. Ставшие узниками невезения, бедности или собственной бесталанности, они превращались в литературных поденщиков и начинали смахивать на обитателей зверинца. По словам одного из приятелей Антона, зоолога В. Вагнера, Чехов среди них был как слон в зоологическом саду, и, когда ему удалось вырваться оттуда, их восхищение сменилось завистью. Они же так и оставались сидеть по клеткам, снедаемые унынием и ненавистью к собратьям. За всем этим зоосадом присматривал Суворин: подкармливая и подлечивая своих подопечных, он лишь Антона выпустил на волю, подняв для него расценки до 20 копеек за строчку, выделив в своей газете больше места и благословив его на сотрудничество с «толстыми» литературными журналами. В свои двадцать семь лет Чехов был свободен писать то, что хочет.
Чеховская пьеса Суворину понравилась. Третьего декабря Антон писал родным из Петербурга: «Все ждут, когда я поставлю пьесу в Питере, и уверены в успехе, а мне после Москвы так опротивела моя пьеса, что я никак не заставлю себя думать о ней: лень и противно».
Успех Чехова в Петербурге еще более упрочился его последними публикациями в «Новом времени». Рассказ «Холодная кровь», в основу которого легла реальная история из жизни чеховского таганрогского кузена – отправка скота на продажу в Москву, – получил одобрительный отзыв Российского общества покровительства животным. Рассказ «Поцелуй», действие которого происходит в артиллерийской бригаде (позже подобный офицерский типаж появится в пьесе «Три сестры»), вызвал восхищение военных. Герою рассказа неожиданно достается в темноте поцелуй от незнакомой женщины, которую ему не суждено узнать. Чехов так подробно изучил жизнь расквартированной в Воскресенске военной части, что читатели подумали, будто он сам прошел военную службу. Однако настоящую сенсацию произвела «Каштанка» – это первый из чеховских рассказов, который вскоре был опубликован отдельной книжкой.
Круг читателей Чехова расширился за пределы «Нового времени». Теперь скорее Суворин нуждался в Антоне, чем тот в нем. На Чехова обратил взор еще один литературный патриарх, поэт Алексей Плещеев, аристократ и либерал, стоявший на эшафоте вместе с Достоевским. Вплоть до своей смерти он оставался самым внимательным чеховским критиком. Как и Суворин, Плещеев намекал на то, что готов видеть Чехова своим зятем, но тот возвратился в Москву, избежав помолвки. Поздравляя Антона с наступающим Новым годом, Билибин сообщал ему: «Грузинский пишет мне, что Вы сияете всеми цветами радуги – от петербургских впечатлений».
По совету Суворина и в угоду цензуре Чехов внес поправки в «Иванова» – теперь он назвал пьесу драмой. Однако четвертое действие по-прежнему вызывало сомнение: как сделать смерть Иванова более убедительной?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?