Текст книги "Философ"
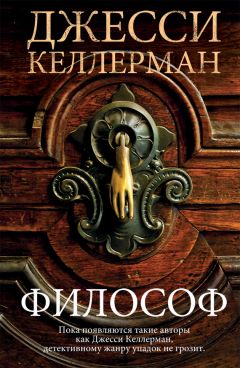
Автор книги: Джесси Келлерман
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Плоская равнина, безветренная, лунный такой пейзаж. Солнце низко висит над горизонтом. Разбитая, обледенелая дорога идет с юго-востока на северо-запад, и, насколько ты можешь судить, ее даже на карту наносить не стали. С южной от тебя стороны простирается замерзший луг, за ним видна волнистая линия деревьев.
Снег, покрывавший луг, превратился в лед – это удача, но с некоторыми оговорками. С одной стороны, он хорошо скользит. С другой – ты тоже, ноги у тебя разъезжаются, точно у Чаплина. Бей в лед каблуками. Толку от этих ботинок. Надо было с шипами брать. Не додумался. Ты иди, иди. Тяни его за собой. Фургончик начинает сокращаться в размерах. Далеко ты уже ушел? Не так чтобы очень. Впрочем, самое трудное позади. Все будет хорошо. Должно быть. Продолжай. Пошевеливайся. Трудись. Свиш-свиш, говорят твои штаны, хорошие штаны, полноприводные. Ты работал на железной дороге, целый день, долгий, как жизнь. Вот именно, работал на железной дороге – для препровождения времени. А кто работает на железной дороге, чтобы только время проводить? Это что же – хобби такое? Не вышивание крестиком все-таки и не теннис, за которые ухватываешься от нечего делать. При прокладке первой трансконтинентальной дороги перемерло несчетное число людей, все больше привозных китайских рабочих, они гибли от суровых зим, при случайных взрывах. Тут, знаешь ли, не до смеха. А все эти старинные песенки – чушь. Ну грызет Джимми кукурузу, почему меня это должно волновать? Или еще кого-нибудь? Ты шагай, шагай. Ты, было дело, прослушал курс по народным песням и их связям с подсознательным. Его какой-то умалишенный читал. Лучше бы ты в юристы подался. Смотри-ка, деревья уже близко. Тяни, тяни. Прорези в ленте расползаются, дернешь посильнее – она и порвется. Терпение и труд все перетрут. Чушь какая-то, верно? Или вот еще: мошенник всегда в проигрыше. Если вот этот не в выигрыше, то я уж и не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Двадцать четыре часа назад он не был таким тяжелым. У тебя уже волдыри на пальцах. И жилы на руках того и гляди лопнут. Никто не смог бы вынести того, что вынес ты. Ты – сверхчеловек. И ты вспоминаешь Ницше, его запрет перекраивать мир по своим меркам. Вспоминаешь его усы. Он бы в той забегаловке точно за своего сошел, ха-ха-ха. Шагай, шагай. Свиш, свиш. Дэвиииии. Дэви Крокетт. Король Дикого фронтира[27]27
Дэвид Крокетт (1786–1836) – американский путешественник, охотник, офицер, политик, прозванный «Королем Дикого фронтира». На студии Диснея о нем снят многосерийный телефильм, одна из серий так и называется: «Дэви Крокетт – король Дикого фронтира».
[Закрыть].
Добравшись до деревьев, ты продолжаешь пятиться, пока не меняется освещение, потом оно меняется снова, и ты, глянув вверх, видишь, что вышел на поляну. Верхушки деревьев поднимаются над тобой, точно венец, точно стена колодца. Ты уже видел это место. В снах; написанным красками на кусочке стекла. И вот оно открылось тебе, алетейа[28]28
Греческое слово, означающее «несокрытость», «неутаенность», «истина». Одно из центральных понятий философии Мартина Хайдеггера.
[Закрыть]. Смотри вокруг и дивись.
А где же олень?
Где охотник?
И который из них – ты?
Ты сожжешь его.
И дым полетит над деревьями.
Миг облегчения. Паломничество завершено, жертва принята небесами, ты можешь раздеться донага и бежать по снегам, распевая гимны.
Впрочем, ничто не дается нам так просто, верно?
Потому как горит он несколько минут, а затем в единый миг гаснет.
Аромат пережаренной свинины, ты, стараясь не дышать, вновь орошаешь его бензином для зажигалки. И добавляешь к бензину, чтобы ускорить дело, сухие ветки и листья. А потом бросаешь на него горящую спичку и он вспыхивает.
На сей раз пламя держится немного дольше.
На третью попытку уходит весь бензин, какой оставался в жестянке. И, пока ты размышляешь, не бросить ли его здесь, до тебя доносится некий звук – кто-то приближается.
Бежать бессмысленно. Ты поднимаешь с земли лопату, стискиваешь ее ручку и ждешь. Кто бы это ни был, не стоило ему или ей гулять нынче вечером по лесу. Безмолвие. Безмолвие. Ты тихо обходишь по полукругу источник звука и наконец обнаруживаешь футах в ста от себя одинокого, отощавшего волка.
Он улыбается тебе мохнатой улыбкой.
Привет, говорит он.
Ты подхватываешь с земли скомканное одеяло и отступаешь. И уже издали видишь, как он выходит из подлеска и крадется к дымящемуся жертвенному костру, с интересом принюхиваясь к останкам.
И что воспоследовало в безмолвии? Ты один среди темноты и снега. Так что? Когда у тебя только и осталось, что девять часов езды да белый шум? Ты занялся тем, чего столь успешно избегал до этого времени: начал думать. Твои мысли слишком уж долго держались в отдалении, ждать и дальше они не пожелали. Терпение их лопнуло, им захотелось войти в тебя. Они и вошли, вышибив дверь. Мысли о его расколотом черепе. О ее похоронном пении. О том, что ты действовал как автомат, – и, получается, знал, как следует действовать. Кто ты? Это именно ты претерпел метаморфозу, ты вырвался на свет из хризалиды? Но если так, если сегодня достиг своей высшей точки некий процесс, – значит, он должен был когда-то начаться.
* * *
На середине пути до дома ты останавливаешься у ресторана быстрого питания. От одежды твоей несет гарью, и базовая нота этого парфюма – запах горелых волос. Люди провожают тебя взглядами. Ты торопливо поглощаешь сэндвич и отправляешь ее сим-карту в бачок для отходов, вместе с картошкой фри, к которой ты не притронулся.
Перед самой границей штата ты останавливаешь машину на площадке для отдыха. Под бетонным навесом стоят четыре торговых автомата. Ты огибаешь их, заходишь туда, где земля усыпана бумажными обертками и смятыми банками, и зашвыриваешь лопату в темноту – как можно дальше.
В половине двенадцатого ночи ты заезжаешь на парковку торгового центра в городке Кандия, штат Нью-Гемпшир, собственно, это не то чтобы городок, а просто пригород Манчестера. Ты едешь по парковке, пока не обнаруживаешь то, что искал: помост с большими мусорными баками. Табличка предупреждает тебя, что пользоваться ими без специального на то разрешения не положено. Нарушители будут преследоваться судебным порядком. Ты поднимаешь крышку одного из баков и высыпаешь в него содержимое всех девятнадцати пакетов с книгами, а затем, скомкав пакеты, бросаешь их, а с ними и одеяло, в другой бак, соседний.
В час пятнадцать ты добираешься до Роксбери и останавливаешь фургончик в проулке, находящемся примерно в миле от ее дома. В нормальной ситуации ты бы нервничал – это один из самых опасных районов Бостона, – однако сегодня ты сонно невосприимчив к сведениям подобного рода. Ты вытаскиваешь из машины вещмешок с чистой одеждой и прочее твое барахло, запихиваешь все в рюкзак. Протираешь все в кабине детскими влажными салфетками. Времени это занятие отнимает немало, зато думать не позволяет. Потом ты поднимаешь второй ряд сидений и захлопываешь дверцу машины, оставив ключи внутри.
Пройдя четверть мили, ты видишь заправочную станцию, а рядом с ней уборную. Там ты переодеваешься и укладываешь пропахшую дымом одежду в вещмешок. Берешь его и рюкзак в руки и идешь по жилой улице, обитатели которой выставляют свой сор перед домами, чтобы его забирала по утрам мусорная машина. Ты опускаешь мешок в бак, стоящий на углу одного из кварталов. А пройдя еще два или три, поступаешь так же с рюкзаком. Прохлопай карманы. Да, у тебя остались только ключи от дома, бумажник и перчатки на руках. Сними их. И латексные тоже. И выбрось, по одной, пока идешь на север, к реке, к мосту через нее. Такси не видно. Подземка уже закрыта. До Кембриджа три с половиной мили. Половина пятого утра. Поднимись на свою веранду. Окрестности тихи. Окна темны. Ты не спал почти сорок восемь часов – если не считать тех трех. Войди в холл. Закрой дверь. Добро пожаловать домой.
Глава двадцать третья
На следующее утро я проснулся с чем-то вроде похмелья, да оно и понятно: алкоголь и кофеин сушат, а последнего я наглотался столько, что заснул с немалым трудом – и это после двух самых утомительных дней моей жизни. Снились мне какие-то обрывки, перемежавшиеся кошмарами. В некоторых из них я занимался тем, с чем совсем недавно покончил: ехал в темноте или шел по снегу глубиной выше колена. Впрочем, почти ничего способного испугать меня в этих снах не происходило. Состояли они из неподвижных картинок или коротких последовательностей кадров, в которых никакие другие живые существа не появлялись, – беззвучные, разорванные сны, и заурядные и жуткие сразу. Я стоял посреди аудитории с десятками столов, за которыми никто не сидел, и это пронзало меня ознобом. Задул грязный ветер. Листки бумаги, стопками лежавшие на столах, завихрились вокруг меня, и я утратил способность что-либо видеть. Я стоял у моего высокого школьного шкафчика, глядя на снимки, приклеенные прозрачной лентой к внутренней стороне его дверцы. Я отчетливо понимал, что опаздываю на урок, но мне хотелось, прежде чем идти куда-то, разглядеть снимки. Не получалось: они были слишком нечеткими. Я щурился все сильнее, наклонялся, сознавая, что зря трачу время и только опаздываю еще пуще, и вдруг меня завертело волчком, я начал трансформироваться и обратился в младенца, корчившегося на холодном линолеуме, голого, безмолвно кричащего, красного как буряк, с мокрой, беззубой дырой вместо рта, и проснулся от собственных, куда как более звучных криков, сведенный судорогой, задыхающийся; простыня подо мной была перекручена, с подушки слезла наволочка, мозг пропитался ужасом, который задержался во мне на срок гораздо более долгий, чем тот, что обычно отводится таким ощущениям, все вокруг было затянуто пеленой нереальности. Чтобы вернуться на землю, я попытался встать, немного пройтись, заставить себя сосредоточиться на крепости половиц под моими босыми ступнями, однако голова моя закружилась, и кончилось все тем, что я опустился на пол в изножье кровати, накинул на себя одеяло, сгорбился и стал раскачиваться, ведя отсчет оставшегося до рассвета времени.
Первый же взгляд, которым я окинул библиотеку, меня отрезвил: вокруг каминной полки еще различались длинные мазки крови. Голые полки говорили об исчезнувших книгах. Некоторые фотографии висели криво, а стекло одной треснуло прямо посередке. Самые, на мой взгляд, серьезные затруднения ожидали меня с ковром, тем более что машины у меня уже не было. Я снял треснувший снимок (Альма с сестрой на пляже), тревога моя удваивалась с каждой секундой. Неужели я и вправду был так невнимателен? В дороге я все повторял себе, что если кто и заглянет в библиотеку, то увидит – в худшем случае – следы шумной вечеринки. Но если я был слеп настолько, что проглядел даже то, что находилось у меня перед носом, то какие еще менее приметные проблемы оставил я без внимания? Каким числом деталей пренебрег? В библиотеке пахло смертью, мне захотелось вернуться в постель. В этом и состоит, подумал я, единственный ответ: спать, продолжать спать, пока я не проснусь в другой стране, в двухстах годах отсюда. Здесь мне придется позаботиться слишком о многом, а угроза неудачи так и будет вечно висеть надо мной. И вдруг я понял, со своего рода пророческой ясностью, то, что мне предстояло вскоре изведать на непосредственном опыте: жизнь, которую я знал, закончилась и, пока я пребываю в сознании, покоя мне не будет.
Открытое окно помогло избавиться от запаха, и я, радуясь свежему воздуху, собрал новый арсенал чистящих средств, разрезал на куски старые купальные полотенца Альмы и приступил к оттиранию пола, проходясь по оголенному дереву плотными кругами; пот скапливался у меня под линией волос, стекал по носу и, повисев на кончике, отчего тот начинал чесаться, падал на пол и разлетался брызгами. Каждый раз, как мне казалось, что я справился с одним из пятен крови, я наклонялся, прищуривался и обнаруживал, что оно по-прежнему здесь – призрачно розовый водяной знак либо тонкие багровые полоски, повторяющие очертания стыков паркетных досочек, едва различимые невооруженным глазом, однако мне представлявшиеся яркими, как неон. Не придется ли перестилать пол? Предварительно содрав паркет. Жуткий, леденящий кровь образ явился мне: кровь, подобно кислоте, проедает себе путь до самого фундамента, и остается только одно – снести библиотеку… а если и этого не хватит? Если сама земля сохранила следы того, что произошло над ней? Перепахать ее? Залить напалмом? Закатать в пятнадцать футов бетона? Что я могу сделать, чтобы почувствовать себя в безопасности, раз и навсегда?
Разогнувшись и скрутившись немного назад, чтобы окунуть тряпку в ведро, я опустил ладонь на ковер и зацепился пальцем за какой-то струп. Взглянув туда, я увидел большое пятно крови, из середины которого торчал отвердевший клок человеческих волос.
Я встал, спокойно проследовал в ванную, и там меня вывернуло наизнанку.
В два часа дня я оттащил в крыльцу для слуг три пухлых мусорных мешка.
Хотя Научный центр опустел, поскольку все разъехались на зимние каникулы, я, стоя в этот вечер в компьютерной кабинке, все же чувствовал, набирая в «Гугле» слова «удаление пятен крови с ковра», что совершаю поступок безрассудный. (Я мог, конечно, проделать это и дома, но мне довелось прочесть слишком много статей о мужчинах, чьи жены вдруг исчезали куда-то, а после в архивах их браузеров обнаруживались поиски, проведенные по фразам «не оставляющий следов яд» или «избавление от тела».) Я получил немалое число предложений, начиная с методов профессиональной очистки мест преступления и кончая рецептом, на котором в конечном счете и остановился: вода, соль, перекись водорода.
Работал он лучше, чем я мог вообразить. Кровь снималась с ковра, унося с собой небольшие количества краски. Можно лишь преклоняться перед коллективной мудростью миллиардов людей, из которых столь многие – дураки дураками. То есть работал этот метод до того хорошо, что я задумался – а нужно ли избавляться от ковра? Он такой красивый, а если местами и полиняет немного, то кто сможет сказать – отчего? Вы вот сможете? С другой стороны, уезжая отсюда, я полагал, что вся остальная библиотека выглядит отлично.
Я отталкивал мебель к стенам комнаты, и спину мою опять прямо-таки жгло. Глобус; кресла. Весь в поту, я приоткрыл окно еще на шесть дюймов, скатал ковер, скрепил его клейкой лентой. Библиотека выглядела теперь оголенной, странно ободранной, и я понял, что ковру придется искать замену. Тот, что лежит в музыкальной гостиной, слишком мал. Перетаскивать сюда ковер из гостиной тоже нельзя – получится просто другое зияющее пустотой пространство. И тут решение само явилось ко мне, и я поднялся в мою спальню.
Я избавлю вас от описания акробатических трюков, которые мне пришлось исполнить, чтобы в одиночку вытянуть персидский ковер из-под огромной кровати. Времени это отняло больше, чем я рассчитывал, а спину довело до того, что она объявила мне полный бойкот. Когда же я расстелил в итоге новый ковер, то понял: он слишком ярок – его насыщенные синий и красный цвета никак не сочетаются с зеленью шелка вокруг каминной полки и с мягкой краснотой дерева. Обеспокоенный этим, я все же оттащил испорченный ковер в кабинет, запихал в угол и оставил там – ожидать решения насчет того, как я от него избавлюсь; затем, сгибаясь вдвое от боли, вернул библиотечную мебель на прежние места, закрыл окно и отправился на поиски ибупрофена.
Так я протрудился несколько дней. Бросил в каком-то переулке пылесос Дакианы, а на парковке супермаркета – разбитый торшер. Отдраил прихожую, кухню, крыльцо для слуг, изведя ведра воды и галлоны мыла. На четвереньках, с тюбиком герметика в руке исползал всю гостиную, не понимая, что мне делать с выбоиной, которую оставила в штукатурке брошенная кочерга. Я стирал коврики ванной, набивал холодильник едой, которую желудок мой не переваривал. На время каникул многие мастерские позакрывались. Мне пришлось заехать аж в Бруклин, чтобы найти открытую багетную, в которую я сдал для починки поврежденную рамку с фотографией. Я вызвал драпировщика, и тот предложил заново обтянуть оба кресла тканью, похожей на прежнюю, запросив за все тринадцать сотен. Я согласился, он увез кресла. Я измерил пустое, оставленное погибшими книгами пространство, зашел в букинистический магазин, продававший книги ярдами, и попросил продавца подобрать все, что у них есть на немецком языке. Стекольщик, пришедший, чтобы вставить выбитое стекло, сказал, что воспроизвести миниатюрную картинку он не сможет. Да и никто бы не смог – вещь была редкостная, настоящее произведение искусства. Такое погубишь – уже не вернешь.
Все эти дела, как ни были они тягостны и обременительны и сколько времени ни пожирали, стали для меня спасательным тросом. Без них я наверняка развалился бы на куски. Чем сильнее погружался я в мелочи, тем легче было не думать о том, что я сделал или что теперь со мной будет. Нет, лучше уж списки пустяковых дел составлять.
Сказать, что на меня нападал страх, было бы не совсем правильно, да и никакое слово не способно точно передать ощущения тех первых нескольких дней. Не «нападал», поскольку это слово подразумевает внезапность, натиск разрушительного урагана, сила которого отчасти определяется его целенаправленностью. Моя же буря вызревала медленно: погромыхивающие раскаты в животе, постепенно поднимавшиеся вверх, обещая все худшее, худшее, худшее… да и не «страх» это был, скорее букет самых разнообразных эмоций, каждая из которых окрашивала и формировала остальные – вот как симптомы, соединяясь, образуют единственную болезнь. Присутствовало среди них ощущение отчужденности и что-то еще – пожалуй, правильнее всего будет назвать это духовной тошнотой. Ну и постоянная угроза непристойного срыва, потребность визжать или хохотать, бросаясь всем телом на дверь моего рассудка, одолевавшая меня, пока я нетерпеливо переминался перед кассиром, наблюдая, как он ошибается, подсчитывая мою сдачу. Часто мне начинало казаться, что я попал не в свое тело, и я обнаруживал, что разглядываю собственную руку, гадая, откуда она взялась, а следом принимался гадать о причинах такого моего поведения, а следом – гадать, почему я об этом гадаю – способен ли я вообще видеть хоть что-нибудь ясно или теряю рассудок… и так далее и тому подобное… То был выматывающий нервы, рекурсивный самоанализ, который если куда меня и приводил, то в еще большие глубины моего сознания, а именно их мне следовало избегать в первую очередь. И, приходя куда-нибудь, все равно куда, я знал, какое произвожу впечатление: человека свихнувшегося, подозрительного, скорого на испуг, без нужды резкого. Понимание того, что это лишь усилит мою чувствительность к реакциям людей, заставляло меня становиться еще более подозрительным и резким. Я чувствовал, что все вокруг присматриваются ко мне – к моим покрасневшим от паров детергента глазам; к ладоням, сморщившимся, стиснутым в кулаки и дрожащим. Присматриваются к разодранной правой щеке, этому извещению о том, что я виновен, виновен, к моей личной каиновой печати. Каждое утро начиналось с того, что я наносил на лицо густой слой тонального крема – мало ли кто может ко мне заявиться. Я, конечно, никого не ждал, но лучше переосторожничать, чем после пожалеть. Крем разъедал ранки, вынуждая меня почесывать их, они открывались снова… я начинал думать о том, как они бросаются в глаза… и спешил нанести еще более толстый слой крема – пока кто-нибудь не увидел меня, не заподозрил неладное, не донес.
Как по-вашему, можно так жить? Соскакивать с катушек при каждом контакте с людьми, шарахаться от каждого пустяка, это, знаете ли, изматывает, вот и скажите мне, можно так жить и не сойти с ума?
А при первом свете зари я вылетал из кровати, спасаясь от неописуемых снов.
Через шесть дней после того, как я совершил два убийства и спрятал трупы в лесах Новой Англии, кто-то позвонил у моей двери. Я заскочил в ванную, чтобы проверить лицо, добавил на него немного тонального крема, расправил складки на рубашке и, открыв дверь, увидел улыбавшегося детектива Зителли. С ним был еще один мужчина, тоже, судя по выправке и выражению лица, полицейский. Бледный, с завивающимися наподобие буравчика рыжими волосами и носом пуговкой, он выглядел как типичный бостонский ирландец, хотя чрезмерный рост – он был дюйма на три, самое малое, выше меня – наводил на мысль о скандинавском дедушке. Он неприятнейшим образом оглядел меня, причем глаза его задержались на нашлепке, украшавшей мою правую скулу.
– Простите, что побеспокоили, – сказал Зителли. Из кармана его пальто торчал свернутый в трубку бурый конверт, зловеще толстый. – Это детектив Коннерни. Ничего, что мы в такое время?
Я не без труда, но обрел дар речи:
– Э-э. Да. Прошу вас. Входите.
Они, как это принято у полицейских, встали посреди гостиной.
Я спросил, не желают ли они что-нибудь съесть.
Зителли прихлопнул ладонью по конверту.
– Чашка кофе – это было бы роскошно.
Поскольку предложение мое искренним не было, пришлось объяснить им, что кофеварки у меня нет. Может быть, чаю? Зителли помахал рукой: нет, спасибо, но Коннерни сказал: «Конечно», все еще глядя на меня так, точно я ему деньги задолжал. Я предложил им устраиваться поудобнее и покинул гостиную – так медленно, как мог.
Ладони у меня вспотели, открыв кухонный шкафчик и достав из него большую чашку, я уронил ее, она грохнулась об пол и разбилась вдребезги. Встав на колени, я торопливо смел осколки в ладонь. Ордер. Вот что у него в конверте. Документ, в котором сказано: тебе конец. Да, бесспорно, но там должно лежать и другое, много другого, иначе он не был бы таким толстым. Скорее всего, показания – Чарльза Палатина, доктора Карджилл – насчет моих низких нравственных качеств, корыстолюбия и мелочности. А может быть, свидетельские показания о каждой из покупок, совершенных мной 28 и 29 декабря, начиная с туристских ботинок и кончая одеялами и приправленным сигаретным пеплом омлетом из «Закусочной Жан-Люка». Сделанные службой наружного наблюдения снимки, на которых я еду, сжимая побелевшими руками руль, по I-95, забрасываю, согнувшись, ее листвой и подношу зажженную спичку к дымящемуся подолу его рубашки. Отчет об анализе ДНК, сообщающий, что кожа, частички которой были обнаружены под ее ногтями, содрана с моей физиономии во время драки. Из соседней комнаты доносились два мужских голоса – полицейские разговаривали. Обо мне, разумеется, прикидывают, как я буду вести себя во время ареста, как взять меня врасплох, окажу ли я сопротивление. Кто из них будет держать меня за руки, кто за ноги. Кто зачитает мне права. Свяжут ли меня по рукам и ногам? Или все пройдет цивилизованно – сначала чайку попьем, поболтаем о том о сем, а там уж и в «обезьянник»? Я здорово облегчил им работу моей беспечностью, не так ли? Я взглянул в сторону крыльца для слуг: может, выскользнуть через боковую дверь? И побежать, не останавливаясь, пока не перестанет идти снег, пока он не заметет все мои следы и не освободит меня от этого ледяного, холодного ада? Я смогу начать новую жизнь в каком-нибудь городке. Смогу отправиться – нет, не домой, наверное, но в какое-то место, достаточно близкое к дому, найти работу, которая обеспечит мне прожиточный минимум, сменить имя. Да, но куда я отправлюсь? И как? В моем распоряжении нет подпольной сети, в которой я мог бы укрыться. У меня нет «контактов». Все, что я делал до этой минуты, было импровизацией, основанной, по сути ее и логике, на кинофильмах. А в настоящей жизни они не срабатывают. И разумеется, полицейские предвидели мою реакцию и поставили своих людей прямо в конце подъездной дорожки… Нет, бежать я не могу, – во всяком случае, сейчас. Придется вернуться к ним. Что выглядело равно немыслимым. Эти двое – первые за неделю люди, с которыми мне придется по-настоящему разговаривать, и я, зная то, что знаю, сдерживаться в их присутствии, скорее всего, не смогу. Они представляют Закон. А я чувствую, что совершенное мной вытатуировано на моем лице. Оно и вытатуировано. Нужно еще раз намазаться кремом. Я услышал смех Зителли, и у меня перехватило горло, мне показалось, что на кухне резко подскочила температура. Я думал о том, что мне следует перестать думать. Следует действовать. Чем дольше я взвешиваю мои возможности, тем меньше их у меня остается. Встроенные в плиту часы тикают невероятно громко, время уходит, слишком много времени, ты хоть кран открой. Они там ждут, у них возникают подозрения – никто же не приготавливает чашку чая так долго. Я поставил чайник на плиту, склонился над ним, умоляя его закипеть.
– Знаете, на этот счет даже поговорка имеется.
В двери стоял, почти подпирая макушкой притолоку, Коннерни.
– И какие же у меня возможности выбора? – спросил он.
– Э-э, – проблеял я.
Он обошел меня, оглядел построенный мной на рабочем столе зиггурат из коробочек с чаем. Снял с него одну из верхних, прочитал надпись на ней:
– «Взрыв самбука».
И взглянул на меня, ожидая комментария.
– Пикантный, – сообщил я.
Он вернул коробочку назад.
– А вы меня не узнали, верно?
Я жестом показал, что нет, не узнал.
– Даю намек, – сказал он. – Готовы? Значит, так: недостаточно делать то, что было бы достойным нравственно и отвечало закону; деяние должно совершаться во имя закона. – Он улыбнулся: – Соображения имеются?
Появился Зителли:
– Вижу, вечеринку перенесли сюда?
– Э-э… – выдавил я.
– Итак, ваш ответ? – спросил Коннерни.
Я покачал головой.
– «Кант и Идеал Просвещения». – И он ткнул в меня пальцем: – Вы были моим АП.
К Зителли:
– Он был моим АП.
– Что такое АП?[29]29
Аспирант-преподаватель.
[Закрыть] – поинтересовался Зителли.
– То, что ваши люди называют «задрот».
– Наши люди?
– Немытое большинство, оно же простой народ.
– Вот же типчик… Семнадцать лет проработал в полиции, а более наглого ублюдка я не встречал.
– Ха-ха, – выдавил я.
– Совсем меня не помните? – спросил Коннерни.
– А ко… э-э. Когда…
– Первый семестр моего последнего курса. Стало быть, осень две тысячи второго.
– Я… Простите. За многие годы у меня было столько студентов, что…
– Да ничего страшного, – сказал Зителли. – Не все же такие, как он – жутко памятливый, здоровенный рыжий ирландец с крошечным пенисом.
Коннерни хохотнул.
– Ха-ха-ха, – поддержал его я.
– Он был хорошим преподавателем? – спросил Зителли.
– О да, – сказал Коннерни. – Отличным. И группа у нас была отличная. Мелицки вот жалко.
– Да, – сказал я и, почувствовав, что следует что-то добавить, спросил: – Так вы учились на философском?
– На социологическом.
– Это на котором в карте мира разбираться учат? – спросил Зителли.
– Только не в Гарварде.
– Ах-ах-ах, – произнес Зителли. – Ну извините.
– Ха, – произнес я. – Ха-ха.
Зителли спросил у Коннерни, поставил ли я ему пятерку.
– Четыре с плюсом, – ответил Коннерни.
И улыбнулся мне.
Засвиристел чайник. Когда мы вернулись в гостиную, Зителли протянул мне конверт. С мгновение я поколебался, как будто, отказавшись принять его, опроверг бы тем самым все, что говорится в нем на мой счет. Однако принял и приподнял клапан. В конверте лежала ксерокопия диссертации Альмы.
– Оригинал верну, как только смогу, – сказал Зителли. – Я подумал, что пока вам сможет пригодиться и это.
– Спасибо…
– Да не за что. И простите, что мы явились без предупреждения. Просто были по соседству, и, ну, я понимаю, как странно это выглядит, но мне пришло в голову – может, вы покажете моему другу библиотеку, если это не слишком неудобно? Он в таких вещах разбирается. Вы не против? Несколько минут, не больше.
– Идите за мной, – сказал я.
Я прошелся там по каждому квадратному дюйму раз десять, самое малое. И у меня не было никаких оснований предполагать, что эти двое пришли сюда по причинам, отличным от простого житейского любопытства. Я постарался – думаю, небезуспешно – изобразить безразличие собственника. И тем не менее такого страха, какого я натерпелся в те двадцать пять минут, мне испытывать еще не приходилось. Впрочем, то, что делало происходящее столь изматывающим нервы, одновременно позволяло мне сохранять видимость спокойствия, а именно абсурдность всей ситуации: парочка детективов из отдела убийств разгуливает по комнате, которая совсем недавно служила временным моргом. На свой манер, это было невероятно смешно, и, пока они ошеломленно прохаживались по библиотеке, я давил в себе приступы хихиканья.
– Иисусе, – пробормотал Коннерни, большая ступня которого утвердилась в точности там, где недавно покоилась голова Дакианы.
Я стоял у глобуса, лениво покручивая его.
– Красивая вещь.
– Что да, то да.
Зителли улыбнулся мне, словно говоря: «Вы верите этому субчику?»
Я тоже выдавил улыбку, на самом деле ожидая его замечаний по поводу замены ковра, исчезнувших кресел…
– А что случилось с вашим другом? – спросил он.
Пол ушел из-под моих ног. Игра закончена. Все-таки осмотр библиотеки был лишь предлогом, а теперь над моей головой занесли топор. «С вашим другом». Ха-ха-ха. Коннерни еще делал вид, что осматривается, но я понимал: если я рванусь к двери, он меня перехватит. Все должно было произойти здесь, произойти сейчас, и мне оставалось только одно. Сдаться.
– С другом, – повторил я.
– Ну, помните… – И Зителли провел пальцем по верхней губе.
Молчание.
– Моя девушка попросила убрать его, – сказал я. – Он ее пугает.
– Вы это о ком? – поинтересовался Коннерни.
– О Ницше, – пробормотал я.
– А. – Он закрыл глаза. – «Сострадание в человеке познания почти так же смешно, как нежные руки у циклопа»[30]30
Ф. Ницше. «По ту сторону добра и зла» (пер. Н. Полиловой).
[Закрыть].
Зителли усмехнулся.
– Гарвардцы, – сказал он. – Членоголовые.
Я проводил их до выхода, они рассыпались в благодарностях, клянясь, что больше ни разу меня не побеспокоят, – вексель, в возможности обмена которого на наличные я немедленно усомнился.
Я вытащил полу-Ницше из-за громоздившихся в стенном шкафу кабинета картотечных ящиков, за которые засунул его. Я был тогда слишком не в себе, чтобы сообразить, что и его стоит почистить, в результате залившая Ницше кровь запеклась крупинками ржавчины. Имелось и пятно побольше, залепившее, точно катаракта, единственный глаз философа. Я поскреб пятно, и ноготь мой стал оранжевым. Зеленая бархатная подстилка почернела. Я отодрал ее, смял и утопил в унитазе.
«Гугл» предложил удалить ржавчину с чугуна посредством моющего средства и сырой картошки. Я приобрел в магазине и то и другое. Сидя за кухонным столом, разрезал картофелину, капал жидкое мыло на ее мягкую плоть и протирал ею подставку для книг, пока картофелина не чернела. Срезав загрязненный слой, начинал все заново. Полицейские пришли, ушли и ни слова мне не сказали. Однако меня не одурачишь. Что-то у них затевается. Должно затеваться. Потому что стоит поверить в то, что мир может прикончить тебя, – и ты не только сживаешься с этой верой, но начинаешь питаться ею. Я срезал с картофелины еще один слой. Через несколько минут от ржавчины не осталось и следа. Мой друг, так назвал его полицейский. Мой друг выглядел прекрасно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































