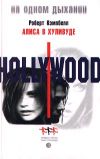Текст книги "Изящное искусство создавать себе врагов"

Автор книги: Джеймс Уистлер
Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Джеймс Уистлер
Изящное искусство создавать себе врагов
© J. MacNeill Whistler, 1890
© Некрасова Е.А., перевод, составление, вступит. статья, комм., 1970
© Толмачёв В.М., послесловие, 2016
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2016
Джеймс Макнил Уистлер
Когда на судебном процессе, возбужденном Уистлером против Рёскина, его спросили, где он родился, Уистлер назвал местом своего рождения Петербург. Можно только гадать, почему он отказался в пользу далекой северной столицы от своей фактической родины – маленького городка Лоуэлла в штате Массачусетс, США, где он прожил в общей сложности не более двенадцати лет из всей своей долгой жизни. Видимо, для него было важнее свое рождение в искусстве. А оно произошло именно в Петербурге, где его отец – инженер-путеец – должен был строить первую железную дорогу в России и куда Джеймса привезли еще девятилетним ребенком в 1843 году. Именно Петербург стал его колыбелью как художника. Здесь важно не только то, что он бродил там с матерью по залам Эрмитажа, что там он взял первые уроки рисования, что в порядке исключения его мальчиком зачислили в «головной» класс Петербургской Академии художеств, где он был самым младшим учеником. Нет, видимо, даже просто строгая красота города, «прозрачный сумрак, блеск безлунный» его белых ночей и пышность празднеств с фейерверками на замерзшей Неве, тонкая прелесть апартаментов Камерона в Царском, о которых пишет в своих петербургских дневниках его мать, навсегда остались где-то в подсознании впечатлительного мальчика. Климат Петербурга был ему не слишком полезен – он много и часто болел ревматизмом, – но зато во время болезни ему для развлечения давали разглядывать том с гравюрами Хогарта. Детских книг в те времена было мало. Но он еще тогда же заметил, что вряд ли ему разрешили бы смотреть эти гравюры, не будь он болен. Не от Хогарта ли отчасти желчная злость и язвительный юмор Уистлера? От блужданий по Эрмитажу Уистлер сохранил на всю жизнь любовь к малым голландцам и французам XVIII века.
В Академии художеств он учился у малоизвестных преподавателей И.И. Вистелиуса и И.А. Воинова, немного позднее, в 1848 году, получивших звание академиков. Важнее другое – маленький Уистлер зимой 1844–1845 годов брал частные уроки рисования у русского офицера, который одновременно сам учился в той же самой Академии в старшем классе. Очень соблазнительно предположить, что это мог быть Федотов. Джимми благоговел перед своим учителем и старался показать ему свое сокровище – подлинные гравюры Хогарта.
Годы в России пролетели быстро. Николай I ценил отца будущего художника за то, что тот происходил из военной семьи, – окончил военно-инженерную академию в Вест-Пойнте в США, и стал одним из первых и способных строителей железных дорог, только еще входивших в моду. Он ухитрился действительно построить железнодорожную линию Петербург – Москва согласно той знаменитой прямой черте, что провел линейкой по карте царь. Трудности, расходы не имели значения. Но чего это стоило Джорджу Уистлеру? Он не имел коммерческой жилки, его больше интересовало преодоление технических препятствий. Семья жила в столице – на Галерной, почти против Академии художеств, а отец все время проводил на линии, с несчастными русскими рабочими, умиравшими от холода, недоедания и тухлой воды, среди бесконечных болот. Отец Уистлера заболел вместе с ними холерой и так и не смог от нее совсем оправиться. Он умер 9 апреля 1849 года, когда Джимми было всего четырнадцать лет. В отличие от многих соотечественников отец художника никогда не был расчетлив и ничего не скопил. Вдова отказалась от царского предложения поместить сыновей на казенный счет в кадетский корпус и вернулась домой в США, в скромный провинциальный домик в Стонингтоне. В этом сказалось стремление к независимости и свободе, прочно укоренившееся в традициях демократически настроенной интеллигенции Новой Англии. Своего любимца Джимми мать постаралась пристроить в ту же самую военно-инженерную академию в Вест-Пойнте, где когда-то учился его отец. Но ничего хорошего из этого не вышло. Живой и своевольный нрав Джимми никак не мог подчиниться военной дисциплине. Он любил только уроки рисования. Правда, этот предмет был поставлен в Академии серьезно, почти профессионально. Уистлер шел по нему первым. Вдвоем со своим учителем рисования по имени Олден Уэйр он писал акварелью виды Академии, а для собственного удовольствия делал наброски любимых персонажей романов Диккенса, Дюма или Гюго – немного в духе современных им иллюстраций Гренвиля или Гаварни. Тем более что в Академии все французское было в моде. Но с точными науками дело не ладилось. Он был вторым с конца. «Если б кремний был газ, я был бы теперь уже генерал-майором», – любил позднее шутить Уистлер. Он с треском провалился на экзамене по химии и был уволен. Ему было к этому времени восемнадцать лет.
Надо было как-то начать зарабатывать. Он поступил в Геодезическое управление в Вашингтоне, где принимал участие в составлении топографических карт и их гравировании. За два месяца он научился там основам офортного травления, но на полях досок, где травились карты, у него появились фигурки и пейзажи вполне постороннего характера. Снова пришлось уйти.
На этот раз Уистлер был тверд: он категорически отказался поступать на промышленное паровозостроительное предприятие, где работал клерком его брат, и заявил, что поедет учиться в Париж. Для высокоинтеллектуальной среды американской передовой интеллигенции 1850-х годов XIX века – эпохи, пожалуй, наибольшего ее расцвета – характерно, что это не показалось блажью его родным.
Семья наскребла денег и отправила его туда, положив ему скромную, но верную помощь в 350 долларов в год. Уистлер был счастлив. Его идеалом была тогда «Богема» Мюрже, томик которой он постоянно таскал в кармане.
Неунывающий, веселый, беспечный, полный неистощимых выдумок и проделок, молодой демократически настроенный американец Уистлер очень мало походил на респектабельных юных членов небольшой английской колонии художников, учившихся тогда в Париже. В их лице Уистлер здесь сразу же столкнулся с квинтэссенцией викторианской Англии. Положительные и добропорядочные, плоть от плоти английской буржуазии, будущий академик Пойнтер, будущий музейный деятель Армстронг, Принсеп, рисовальщик Дюморье презрительно сторонились «безрубашечников» – талантливой, но нищей французской братии.
Напротив, Уистлер с наслаждением сразу с головой окунулся в парижскую художественную жизнь. Он не пошел в чопорную Академию, а поступил в студию Глейра, гораздо более свободную, где учились позднее Ренуар и Моне. В сущности, пожалуй, все, что Уистлер запомнил от Глейра, это то, что в основе любых тональных решений должен лежать черный цвет. Существеннее, что мастерская Глейра была средоточием вольномыслия и бунтарства. Естественно, что Уистлер наслаждался этой атмосферой. Но учился он больше в залах Лувра и у самой жизни.
Дюморье – самый способный из остальных англичан[1]1
Впрочем, Дюморье был сыном француза и некой Елены Кларк, дочери знаменитой любовницы герцога Йоркского; он еще в юности наполовину потерял зрение и вынужден был бросить живопись.
[Закрыть], ставший потом присяжным карикатуристом консервативного Punch, – позднее оставил нам в известном романе «Трильби» красочное, злое и чуть завистливое описание похождений непутевого товарища своей юности. Правда, наиболее клеветнические и оскорбительные выпады против Уистлера ему пришлось убрать по требованию последнего – они сохранились лишь в первом журнальном издании.
А было что вспомнить: от веселых пирушек с участием любимой натурщицы «Тигрицы» Фюметты, декламировавшей Мюссе, но в припадке ревности изорвавшей все рисунки Уистлера, до голодных и холодных дней в пустой мансарде, когда ломбард отказывался принять в заклад старый тюфяк – последнюю надежду на добывание денег. Легенды о приключениях Уистлера долго ходили среди населения Монмартра. Общительный и живой, он учился на улицах и бульварах, блуждая по Лувру или рисуя уродливую старуху-цветочницу, к негодованию своих соплеменников. Он общался больше с талантливой французской молодежью, инстинктивно чувствуя, за кем будущее. В Лувре он познакомился и подружился с двумя бедняками-художниками – Фантен-Латуром и Легро, учениками знаменитого тогда педагога Лекока де Буабодрана. У Лекока же учились Дега, Мане и Моне. Через них он и мог усвоить своеобразную систему Лекока, основанную на точном запоминании целого и отбрасывании деталей. Лекок требовал точного рисунка и изображения – по памяти. Это очень пригодилось позднее Уистлеру при писании «ноктюрнов». От Легро он узнал и о замечательном поэте и критике Бодлере, а о Верлене и, позднее, о Рембо – от их приятеля Фантен-Латура. Именно Бодлер, всегда необычайно чуткий к молодым талантам, первый отметил своеобразие искусства Уистлера. Как мы увидим, тесная связь Уистлера с французской поэзией продолжалась всю жизнь. Еще важнее было знакомство с Курбе, перед которым благоговел тогда Фантен. Для раннего периода Уистлера характерно некоторое влияние Курбе. Последние месяцы, проведенные Уистлером в Париже, он занимался у Бонвена – не слишком крупного художника, но милого человека. Неофициальным руководителем в его мастерской был Курбе, он постоянно заходил туда, критиковал. По существу, основное учение Уистлера происходило именно здесь. Правда, он так и не выучился хорошо рисовать конечности – бился над этим всю жизнь. Даже писал позднее Фантену, что жалеет, что не учился у Энгра. Но все-таки Уистлер попал в Париж в самое решающее время становления новой европейской реалистической живописи. Писать надо было просто окружающую жизнь, что он и делал. Из ранних вещей Уистлера влияние метода Курбе – «великого человека», по выражению Уистлера, – яснее всего сказывается в пастозно написанном остром портрете желчной старухи Жерар. Она же в рост – в раннем офорте, которым стал увлекаться Уистлер.
Ему повезло с великолепным печатником – Делатром, с которым он дружил потом всю жизнь. Через него состоялось и знакомство с офортистом Бракмоном.
Уистлер сделал в 1858 году свою первую так называемую «Французскую сюиту офортов», точнее, «12 офортов с натуры», в которую входят как парижские типы, вроде «Фюметты», так и зарисовки путешествия с художником Делануа в Страсбург, по Северной Франции, Люксембургу и Рейну, откуда им пришлось за недостатком денег возвращаться пешком, оставив в залог хозяину гостиницы офортные доски. Уже эти ранние офорты показывают, что в Париже Уистлер отнюдь не бездельничал, как это традиционно считается чуть ли не до сих пор. «Улица в Саверне», «Торговка горчицей» или «Кухня» – произведения большого и своеобразного мастера, хотя Уистлер здесь еще и отталкивается от французских офортистов середины века – Мериона, Жака[2]2
Например, можно сравнить «Recureuse» Жака и «Торговку горчицей» Уист лера или «Ma petite flle» Жака и «Сидящую Анни» Уистлера.
[Закрыть] и других.
В сентябре 1859 года Уистлер перебрался в Лондон. Он поселился у своей старшей сводной сестры Деборы, в семье ее звали по-русски – Даша. Она была замужем за преуспевающим врачом и любителем-офортистом Симором Хейденом. Но мастерскую Уистлер нанял в бедном квартале Ист-Энда, близ верфей Уоппинга на набережной Темзы, такой оживленной днем и такой удивительно красивой ночью. Уист лер увлекся офортами, которые травил и печатал ночи напролет у своего доброго приятеля Сарджента Томаса, владельца лавочки гравюр и офортного пресса. Хейден еще в первой половине 1840-х годов сделал полдюжины офортов, но приезд зятя подогрел его, и он снова начал травить, быстро переключившись исключительно на пейзаж, в котором он в конце концов заслужил себе почтенное имя. Но с Уистлером ему никак не удавалось наладить хорошие отношения, даже пригласив к себе погостить его друзей – Легро и Фантена. Чопорная буржуазная обстановка дома их пугала. Они продолжали чувствовать Хейдена чужаком, хотя он и кормил их до отвала и, стараясь помочь, купил одну из пяти копий «Брака в Кане» Веронезе, сделанную Фантеном, «Темзу во льду» Уистлера и картину Легро, изображавшую интерьер церкви. Но не удержался и сам переписал перспективу плит пола, которая ему казалась неверной. Легро рассердился и, по наущению Уистлера, в отсутствии Хейдена стер его запись. Хейден был вынужден проглотить обиду. В своей гостиной Хейден повесил «У рояля» – картину Уистлера, изображавшую Дашу с дочерью. Он написал ее еще в Париже в 1858 году по памяти, согласно рецептам Лекока. Уже здесь появляется излюбленное Уистлером изысканное сопоставление черного, серого и белого с отдельными сдержанными красными пятнами – ковра и скатерти. Салон 1859 года картину отверг, но она была выставлена вместе с картинами Фантена и Легро в мастерской Бонвена и очень понравилась Курбе. Хейден считал, что на Лондонскую Академическую выставку ее тоже не возьмут. Но, к удивлению, ее приняли, она встретила даже похвалы, и ее купил за 30 фунтов академик Дж. Филипп.
На первых порах Лондон отнесся к Уистлеру вполне милостиво. Но это скоро кончилось. Художественный рынок Лондона был, по существу, взят на откуп преуспевающими дельцами-художниками из Академии – типа Фрита, которого Уистлер ненавидел от всего сердца. Творения Фрита полностью отвечали вкусам английской буржуазии. Подход к живописи у него был чисто коммерческий. Фрит особенно ценил занимательный, оптимистический сюжет – вроде, например, «Дня дерби» – большого полотна, переполненного колясками, румяными леди в шелках, джентльменами в крахмальном белье, нарядными детками, слугами, чистенькими лохмотьями неунывающих нищих, всякими сантиментами и забавными происшествиями. Все это, до тонкости выписанное в поте лица, – вот что нравилось и за что, не скупясь, платила самая богатая в мире английская буржуазия. На одной такой академической выставке Уистлер остановился перед картиной Фрита, вскинул монокль и воскликнул: «Удивительно! На этой картине целый рассказ! Смотрите, у девочки – киска, а у другой девочки – собачка, а эта девочка сломала игрушку, настоящие слезки текут по ее щечкам. Потрясающе!» – уронил монокль и удалился, нарушив общее благодушие. Острот ему не прощали. Но Уистлер не сразу почувствовал опасность изоляции.
Фантен скоро вернулся в Париж, а Легро натурализовался в Англии и прожил там до самой смерти, руководя одной из самых популярных художественных школ. Письма Уистлера этих лет к Фантену полны самой дружеской теплоты и стремлением поделиться своими художественными интересами, там же впервые встречается имя Джо, любимой натурщицы Уистлера, красивой рыжеволосой ирландки, которую он писал десятки раз. Интересно сопоставить ее одухотворенный, сдержанный и тонкий образ в «Девушке в белом», названной позднее «Симфонией в белом № 1», или в «Мален ькой девочке в белом» («Симфония в белом № 2») с ее же портретом «Прекрасной ирландки» кисти Курбе, написанным в те же 1860-е годы, когда Уистлер с Джо наезжали во Францию и жили то в Париже, то в Бретани.
В «Девушке в белом» Уистлер долго бился над решением поставленной им перед собой задачи – написать на белом фоне белую фигуру Джо, оцепенело стоящую, опустив руки. Но это не пассивность и покой, а прерванное потенциальное движение. Вопрошающий взгляд девушки психологически сложен и отличает его от портрета Курбе. С другой стороны, можно провести некоторую аналогию с ранними портретами Дега. Уистлер так устал от этой работы, что поехал к морю на границе с Испанией, о которой давно мечтал, но застрял в Гетари – и так никогда и не попал дальше десяти миль от границы (см. письма к Фантену). «Девушку в белом» удалось показать на выставке в новой галерее на Бейкер-стрит, но, показанная между Фритом и ему подобными, она не произвела впечатления; на Академическую выставку 1862 года ее не взяли; не приняли и в парижский Салон, куда Уистлер ее послал. Тогда он собрался выставить ее у парижского торговца картинами Мартине, где еще раньше выставлял свои офорты. Но ему повезло (в Салоне он был отвергнут вместе с множеством таких передовых художников, как Курбе, Мане, Фантен-Латур, Бракмон, Писсарро и другие), что император Наполеон III сделал «изящный жест» и предоставил для «Салона отверженных» пустующий Дворец промышленности, рассчитывая на посрамление неугодных мастеров. Туда попало все самое интересное, и «Салон отверженных» имел огромный, хоть и скандальный успех. Самая неистовая ругань и насмешки, как известно, достались на долю «Завтрака на траве» Мане и «Девушки в белом» Уистлера. Один из французских критиков – Поль Манц – в рецензии на «Салон отверженных» назвал ее «Симфонией в белом». Уистлеру это понравилось, и он принял это название. Уже у Мюрже говорится о «Симфонии о влиянии синего в искусстве», а у Готье есть целая поэма «Симфония в белом мажоре». Музыкальные названия вошли в моду.
Теперь как-то непонятно, почему такой шумный успех, настороженное внимание и неистовые нападки вызвала как будто самая простая лиричная композиция «Девушки в белом». Что заставляло буржуазную публику ломиться в «Салон отверженных», потрясая зонтами и тростями, выкрикивать оскорбления в адрес Мане и Уистлера? Не проще ли было им просто не ходить? Или уже тогда можно было почувствовать презрение художника к условной красивости салонного искусства и отсутствие низкопоклонства перед богатыми заказчиками? Отношение Уистлера к буржуазному обывателю отразилось в его – правда, позднейших – словах: «Я тщетно метал перед ними бисер… Публика – она была и осталась… публикой».
Уистлер много работает. Он старается этим возместить недостатки своего не слишком усидчивого учения в Париже. Он ищет свой язык и стремится переработать свои разнообразные увлечения – Курбе, и японскую гравюру, и преклонение перед Веласкесом. Может быть, легче сформулировать, кем он не хочет быть: салонным художником с его до мелочей выписанными плоскими сентиментальными анекдотами или выспренними «историческими» картинами на мифологические темы. Уистлер целиком обращен к настоящему, у него нет никакого пиетета перед прошлым, никаких призывов назад к Средневековью, как у прерафаэлитов или Рёскина. Но нет и никаких восторгов перед преуспевающим дельцом-буржуа с его тупым самодовольством и ханжеством. Индустриальных рабочих он тоже почти не пишет, если не считать нескольких «Кузниц» и шерстобитов среди его офортов. Но к началу 1860-х годов уже есть какой-то свой острый и непривычный угол видения, в какой-то мере аналогичный его сверстнику по возрасту Дега, попытки «кадрирования», почти предвосхищающие еще не родившееся кино. Например, «Музыкальная комната», очень высветленная, пронизанная светом из невидимого за занавеской окна, около которого сидит на диване племянница-подросток, снова в белом платье. А склоненный профиль ее матери – сестры Даши – виден только в отражении в зеркале (может быть, тоже отражение воспоминаний о Веласкесе?). На первом плане стройная фигура амазонки в черном вот-вот стремительно и легко уйдет из рамы.
В начале 1860-х годов Уистлер завоевывает себе известное признание, особенно в определенных прогрессивных кругах Парижа, недаром Фантен включил его в свой групповой портрет «В честь Делакруа» (1864) – своего рода манифест передовых сил французского искусства. Недаром и Дега позднее говорил, что все они вначале шли единым путем – Фантен, Уистлер и он сам. Можно найти аналогии и с поисками Мане – и не только в том, что в этот период оба, и Мане, и Уистлер, увлекались испанским и японским искусством, писали копии с «Тринадцати кавалеров» в Лувре, которые тогда приписывались Веласкесу, а теперь считаются полотном Масо. Правда, для Мане Гойя имел большее значение. Оба увлекались морем. Вспомним «Порт в Гавре» Мане, написанный около 1868 года, или его же порты в Булони (1869) и Бордо (1871). Это были поиски нового видения мира – без надоевших условностей и предрассудков, убедительные своей строгой построенностью и экономным отбором деталей. Как и Мане, Уистлер сыграл важную роль в дальнейшем развитии искусства импрессионистов. Многое изменилось в нем со времени увлечения восточным искусством. Еще в середине 1850-х годов офортист Бракмон нашел в лавочке Делатра восхитившие его японские гравюры – листы «Мангвы» Хокусая, в которые был упакован фарфор. Энтузиазм Бракмона был заразителен. Сейчас трудно себе представить, какое впечатление они произвели на Фантена, Мане, Шанфлери, Уистлера и других. Вскоре в Париже открылась еще одна лавочка с восточными товарами, главным образом японскими гравюрами, некоей мадам де Суа. Туда заходили братья Гонкуры, хранитель Лувра Вийо, Фантен и Уистлер, позднее Дега и Золя. Но в Англии главным пропагандистом японского искусства стал Уистлер, а за ним Д.Г. Россетти. Некоторые листы японских граверов – Кийонага, Утамаро, Кунисада и других, – принадлежавшие когда-то Уистлеру, хранятся сейчас частью в Британском музее, частью в Университете Глазго. Собирал он и восточный фарфор, главным образом так называемый сине-белый. Правда, его ценили и собирали задолго до него, например в Голландии, но важно, что именно Уистлер оценил его эстетические качества, а не древность, экзотику или дороговизну. Об увлечении Уистлера Востоком говорили много, но, как ни странно, наиболее явно связь его с восточным искусством сказывается в тех вещах, где сюжет совсем не восточен, – в его ноктюрнах. Но это относится уже к несколько более позднему времени. Сначала он с упоением пишет кимоно[3]3
Кстати, кимоно не японское, а китайское.
[Закрыть], как в «Принцессе из страны фарфора», «Шести марках фарфора» или «Золотой ширме», где весь пол усеян, кроме того, японскими гравюрами. Но надо отметить с самого начала, что он нигде не стремится к простой имитации или подделке под «экзотику». Уистлер не скрывает маскарада – переодетость модели всегда совершенно явная: например, известное его полотно «Принцесса из страны фарфора» является просто портретом очень красивой девушки – дочери греческого консула в Лондоне Кристины Спартали. Самая неудачная из этой серии картин – «Шесть марок», или «Ланге Лизен», как звали в Голландии вазы особой вытянутой формы, расписанные удлиненными женскими фигурами, – слишком перегруженная, почти забитая антикварными вещами и фигурой неловко сидящей девушки, тоже переодетой в кимоно. Удачнее – более ритмично – построена композиция «Золотой ширмы», с очень декоративным узором насыщенных и непривычно ярких для Уистлера, красиво перекликающихся красок. Даже когда композиция навеяна японской гравюрой, как в «Балконе», связанном с «Тремя девушками у окна» Кийонага, – Уистлер переносит ее в обстановку любимого города и пишет девушек на фоне Темзы, с силуэтами заводов на том берегу. Вообще пространство трактовано им везде совершенно по-европейски. Он экспериментирует и с широкой гаммой красок, нанося мастихином быстрые широкие мазки. Позднее фон «Балкона» развивается до самостоятельной темы – в «ноктюрны», а в портретах фигуры почти всегда рисуются на нейтральном заднем плане. Внешний интерес к веерам, фарфору, кимоно понемногу изживается, и углубляется его понимание восточного искусства. Влияние его делается менее явным и более глубоким: меняется композиция, фон становится более плоским, любовь к силуэту заменяет прежнюю моделировку, но без подчеркнуто линейных контуров, свойственных японской гравюре. Он стремится к изысканной гармонизации красок, к декоративному ритму построений и строжайшему отбору деталей.
Начинается пора странствий. В качестве основной базы Уистлер выбирает Англию – страну своих предков[4]4
Дед его происходил из Ирландии, а по матери Уистлер был шотландцем.
[Закрыть].
Поселился он в Лондоне, но и там постоянно меняет квартиры и мастерские. Даже единственный раз, когда ему удается построить дом по своему вкусу – знаменитый «Белый дом» по проекту архитектора-новатора Годвина, – он фактически прожил в нем всего несколько месяцев. Вечно в его передней посетители натыкаются на какие-то ящики, не то еще не распакованные, не то приготовленные к новому переезду. Грызущий червь беспокойства преследует Уистлера до самой смерти. Еще в 1890-х годах он как-то сказал одному из своих гостей: «Видите ли, я не забочусь о том, чтобы обосноваться где-нибудь окончательно. Где нет места для улучшения… это fnis – конец – смерть. Там не остается ни надежды, ни видов на будущее». Эти слова говорят о двух его отличительных свойствах: стремлении к совершенству и о том, что в сущности, в Европе он нигде не чувствовал себя «дома».
Уистлер бесконечно требователен к самому себе, он гораздо строже любого из своих критиков относится к своей продукции и безжалостно уничтожает, стирает, рвет. Он бьется над совершенствованием своей техники, о чем свидетельствуют письма тех лет к Фантену. Он живет то в Англии, то во Франции – не только в Париже, но и в Бретани (1861), или в Гетари, под Биаррицем (осень 1862). В 1863 году он побывал в Амстердаме, смотрел своих любимых малых голландцев и Вермеера, увлечение которым в Европе только начиналось. Как раз в эти годы на аукционах у Кристи прошли вермееровские «Концерт» и «Астроном». Осенью 1865 года, после поездки в Кёльн, Уистлер вместе с Джо поселяются в Трувиле, где жили тогда Курбе, Добиньи и Моне. В одном, к сожалению, до сих пор полностью не опубликованном письме Курбе к Уистлеру (от 14 февраля 1877 года) Курбе вспоминает, как Джо по вечерам развлекала всю компанию пением ирландских песен, и как они по ночам ходили к морю купаться в ледяной воде, и как их занимало «пространство» и «горизонт». Передача пространства действительно играет важнейшую роль в маринах этого времени. В Трувиле написаны такие вещи Уистлера, как «Опаловые сумерки», «Гармония в синем и серебряном. Трувиль» и «Серое и зеленое. Серебристое море». Все они написаны еще довольно пастозно, что напоминает Курбе, но сдержанная тональность уже своя. Мы уже говорили выше об аналогиях с маринами Мане. Еще более самобытны пейзажи, созданные во время его неожиданной и толком не объясненной до сих пор странной поездки в Южную Америку. В конце 1865 года он вдруг собрался помогать чилийцам и перуанцам против испанцев. В начале 1866 года он был в Панаме, а затем в Вальпараисо во время бомбардировки испанцев. Но вся экспедиция как-то сошла на нет, из сражений с испанцами ничего не получилось, и он вернулся, привезя полдюжины удивительных марин. Среди них – один из первых ноктюрнов, написанный из окна отеля в Вальпараисо, когда опускалась ночь и на судах, стоящих на рейде, зажглись огни. «Ноктюрн. Синее с золотом, Вальпараисо» не только предвосхищает позднейшие лондонские ноктюрны, но по тонко уловленному мимолетному преходящему состоянию освещения и атмосферы прокладывает дорогу импрессионизму. Но Уистлер не стремился рационалистично анализировать натуру и сопоставлять чистые цвета, а, искусно сплавляя их, искал тональных разработок декоративного плана. Поездка в Вальпараисо еще больше обострила его ощущение цвета.
На те же 1860-е годы падает еще одна – неудачная – попытка пойти по другому, не свойственному ему пути. Это попытка, о которой обычно вовсе не говорят, по-своему претворить весьма распространенное в Англии в это время увлечение более или менее бутафорской неоклассикой, так называемой «гостиной античностью». Отчасти Уистлера подбивал на это его новый приятель, заменивший Легро, Элберт Мур. Этот ныне забытый художник привлекал Уистлера отсутствием анекдотических сюжетов и откровенной декоративностью своих картин, где неизменно изображались псевдоантичные полуодетые красивые девушки. Возможно, именно с легкой руки Мура обратились позднее к античным темам и Альма-Тадема, и Лейтон, и множество художников других национальностей. Впрочем, такая тематика свойственна и более ранним «салонным» живописцам. Уистлер обладал слишком изысканным вкусом, чтобы идти по их стопам, в античности он больше любил танагрские статуэтки. В какой-то мере ими навеяны эскизы стройных девичьих фигур, обычно называемые «Шесть проектов», – многофигурных композиций, оставшихся невоплощенными в декоративные панно. Для нас они кажутся неожиданными по интенсивности чистых и ярких, но тонально сгармонированных тонов. К концу 1860-х годов он понял свою неудачу и забросил эти проекты, вернувшись к окружающему миру. То, что Уистлера в нем интересует, можно разделить на две очень обособленные области: пейзажи-ноктюрны и однофигурные портреты.
С именем Уистлера навсегда связано изображение ночи, – нет, не просто мрака, а того меланхолически пленительного часа, что французы называют «l’heure bleue». Он нашел в этом «синем часе» такое множество тончайших оттенков, что ни одна его картина не повторяет тональности другой, от едва потухающего дня до глубоких сумерек, на фоне которых так ярко загораются мимолетные огни фейерверков. И еще одно почти обязательное условие, всегда прельщающее Уистлера: холодные краски неба то отражаются, то сливаются с водой внизу – будь это Темза, лагуны Венеции или океан. Море он страстно любил, оно для него было не менее живым и значительным, чем люди. Нет, люди даже мешают. Позднее он избегает нарушать его самодовлеющее бытие человеческими фигурами хотя бы едва намеченными, как в «Ноктюрне. Синее с зеленым», или одинокими, как фигура Курбе на берегу океана в Трувиле («Гармония в синем и серебряном. Трувиль», 1865). Образ моря становится одушевленным – оно может быть «Сердитым» («The Angry Sea») или «Печальным» («The Sad Sea»), и вы убеждаетесь, что художник от всей души сочувствует ему, как живому существу.
Пятнадцатилетие с 1862 по 1878 год было самым продуктивным в жизни Уистлера. Он выработал за это время свой собственный стиль, отличный не только от английских консервативных академиков или прерафаэлитов, но и от современных ему французских мастеров, – он не пошел по стопам ни Мане, ни Ренуара. Тонкость сочетаний приглушенных красок, их сдержанная, но глубокая эмоциональная выразительность отразили сложность восприятия художником как внешнего облика окружающего мира, грустную наготу которого Уистлер предпочитал облечь вечерним сумраком, так и скрытую поэтичность духовной сущности человека, спрятанную за внешне прозаическим современным костюмом. Хоть твердой основой Уистлера остается непосредственное наблюдение природы, он смело отметает все лишнее и мелочное, упрощает и отцеживает.
Наступила пора зрелости его таланта, и он знал это. Разрыв между ним и английской буржуазной публикой все увеличивался. Враждебность и полное непонимание все росли. Даже портрет матери, при всей его классичности, только нехотя приняли на выставку Академии в 1872 году, и то только после того, как авторитетный академик сэр Уильям Боксолл, который когда-то написал портрет самого Уистлера ребенком, пригрозил уйти в отставку и поднял скандал. Но картину так плохо повесили в Академии, что обиженный художник отказался выставляться там в будущем… Отзывы были или прохладны, или отрицательны.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!