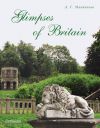Текст книги "Далекие чужие. Как Великобритания стала современной"

Автор книги: Джеймс Вернон
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Осмысление общества чужаков
Прежде всего, в данном контексте следует упомянуть о городе и его улицах, где все чаще случались встречи с незнакомцами. Лондон был классическим и самым ранним образцом современного урбанистического эксперимента, и путеводители по нему, такие как «Лондонский шпион» Н. Уорда (1698–1700) или поэма Дж. Гея «Мелочи, или Искусство ходить по улицам Лондона» (1716), начали появляться только в конце XVII века. Их количество существенно увеличилось столетие спустя, когда начали процветать городские справочники. Лондонский шпион быстро стал каноническим и создал жанр, в котором хранятся местные легенды о городских удовольствиях, сокровищах, тайнах и секретах города, искусно названных автором «мобильностью». Передвижение по улицам с их диссонирующими звуками, множеством запахов и бесконечными потоками людей требовало усвоения условностей, как вести себя безопасно и при этом респектабельно. Городские путеводители и пособия по этикету напоминали любопытным не пялиться на незнакомцев и не заглядывать в частные дома, держаться левее при ходьбе, не толкаться в толпе. Необходимо было стать частью толпы незнакомцев [Schlesinger 1853:155–156; Cruchley 1865]. Физические действия, выделяющие человека, – толчки, мочеиспускание или плевки – не одобрялись. Кофейни и прогулочные сады Лондона XVIII века были печально известными лабораториями для установления правил вежливого и светского общения. Драматичная история «драки с макаронами» в Воксхоллском саду удовольствий в 1773 году, когда два джентльмена вызвали друг друга на дуэль по поводу надлежащих форм вежливого общения между мужчинами и женщинами, показывает, как правила этикета постепенно устанавливались методом проб и ошибок [Ogborn 1998].
Тем не менее литераторы регулярно отмечали подавляющие размеры и анонимность Города в начале XIX века. Часто, вызывая чувство недоумения у читателей, они использовали экстравагантные метафоры потоков, смерчей и ручьев, чтобы передать их объем и ощущение непрерывного движения. Рассказ Вордсворта о посещении «движущегося зрелища» Лондона в «Прелюдии» (1804–1805) часто называют первым и образцовым высказыванием об аномии современной городской жизни. Хотя 20 лет спустя Хэзлитт, как и Вордсворт, признавал странность жизни в городе, где даже соседи не знают имен друг друга, он находил ее менее отчужденной[14]14
По словам Водсворта, «прежде всего одна мысль ⁄ сбивала меня с толку: как люди жили ⁄ Даже соседи, как мы говорим, но все же ⁄ Чужаки, не зная имени друг друга». Книга 7, «Прелюдия», 115. http://www.gutenberg.org/ files/12383/12383-h/Wordsworth3c.html#24b7 (в настоящее время ресурс недоступен).
[Закрыть]. Для Томаса де Квинси невозможно было чувствовать себя таким одиноким, как человек, впервые столкнувшийся с анонимностью лондонских улиц:
В центре бесконечных лиц, не имеющих для него ни голоса, ни слова; бесчисленных глаз, в которых нет «ни одной догадки», которую он мог бы понять; и торопливые фигуры мужчин и женщин, снующих туда-сюда, без видимых целей, понятных чужаку… [Hazlitt 1998: 109–112; 117–119].
Поскольку до середины XIX века лишь немногие улицы имели указатели или названия, а дома – номера, ориентироваться в Лондоне часто приходилось, доверяя незнакомым людям, которые знали местность. Все чаще путеводители – например, авторства У Г. Перри с красноречивым названием «Путеводитель по Лондону и предостережение незнакомцев от мошенников, жуликов и карманников, которые повсюду…» (1818) – предупреждали, что нужно быть осторожными с теми, кому они доверяют, чтобы узнать дорогу, так как можно стать легкой добычей плутов, мошенников и самозванцев. Доверять незнакомцам было опасно. Как обнаружила М. Фландерс, карманники и проститутки могли выдавать себя за модно одетых дам; полицейский язвительно заметил в одном из рассказов Г. У М. Рейнольдса «Тайны»: «Если бы мы брали всех людей, которые, как нам известно, являются самозванцами, мы бы держали под стражей половину Лондона» [Cocks 2003: 96; Corfield 1990: 132–174]. К концу XIX века даже городские инспекторы проводили свои расследования «под прикрытием», не говоря уже о журналистах и филантропах, которые «жили в трущобах» в качестве представителей городской бедноты, чтобы испытать бедность «на своей шкуре». В условиях тотальной неуверенности в том, кем является незнакомец, не говоря уже о возможности доверия, легко распространялись страхи перед мошенничеством, преступностью и сексуальной опасностью. Мужчины, ищущие секса с другими мужчинами, становились жертвами шантажа, которые грозили им скандалом и потерей тщательно создаваемой репутации. Женщины, совершавшие покупки в Вест-Энде, который должен был создать респектабельный и безопасный образ улиц, становились жертвами нежелательного внимания мужчин, принимавших их за проституток. Городские периодические издания и литература с различными необходимыми советами рекомендовали женщинам, если им приходится ходить днем без сопровождения, избегать приставаний, целенаправленно прогуливаясь, а не задерживаясь у витрин магазинов или на автобусных остановках, и не отвечая на мужские взгляды или приветствия.
Поскольку самозванцы были повсюду и их казалось невозможно достоверно идентифицировать по месту жительства или одежде, вокруг классификации и определения городских типов возникли новые формы экспертизы. Начиная с 1840-х годов изображения городских типов и персонажей в темных и опасных лабиринтах города распространялись в высоких и низких литературных жанрах, а также в зарождающихся социальных науках. Репутация Рейнольдса как «самого популярного писателя в Англии» во многом была основана на огромном успехе его «Тайн Лондона», которые с 1844 года продавались ошеломляющими тиражами по 40 тысяч экземпляров в неделю. Сопоставление Рейнольдсом жизни и пороков богатых и бедных людей в серии виньеток оказалось чрезвычайно популярным и, подобно романам Диккенса или, позднее, рассказам Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, позволило создать археологию городских мест и социальных типов через внимательное наблюдение за их характерами. Конечно, некоторые из этих попыток разобраться с обществом незнакомцев и ориентироваться в нем по печатным изданиям, таким как книги по этикету и путеводители по городу, были предвосхищены в печатных культурах Европы и Азии раннего Нового времени, но лишь частично и эпизодически. Так было и в Лондоне XVIII века. Однако распространение печатной культуры и беспрецедентные размеры Лондона в XIX веке обеспечили новую интенсивность и масштабность попыток прочесть и разграничить незнакомцев как познаваемые типы. Это проявилось и в визуальной культуре. В середине века такие художники, как У П. Ферт, У М. Эгли и Д. Э. Хикс, стали уделять пристальное внимание анонимной природе городской жизни, особенно в оживленных местах социального взаимодействия, таких как Главпочтамт или Паддингтонский вокзал. Картина Эгли «Жизнь в омнибусе в Лондоне» (1859) хорошо отражает этот жанр (см. рис. 9). Яркое изображение плотно набитого омнибуса, на борт которого надеются сесть еще больше пассажиров, выстраивает целый ряд различных социальных типов и иллюстрирует существенную неловкость современной жизни. Зритель, как и обитатели омнибуса, не только узнает, что разговаривать и пялиться на незнакомцев невежливо, но и получает стимул порассуждать о моральном облике незнакомцев, собравшихся в столь неприличной тесной компании [Arscott 2008].
Во второй половине того же века мы можем понять работу зарождающихся социальных наук как кульминацию попыток сделать общество чужаков понятным посредством идентификации коллективов с помощью категорий, таких как расы и классы с определенными характеристиками и конкретным местоположением. Г. Мэйхью изобразил «бродячие племена», составлявшие лондонскую уличную жизнь. Впервые его произведение было опубликовано в газете «Morning Chronicle» в 1849 году; оно очерчивало «преступные классы» по одежде, языку и физиономии, чтобы другие могли их избегать:
Все они в большей или меньшей степени отличаются высокими скулами и выступающими челюстями, использованием жаргонного языка, распущенностью в представлениях о собственности, общей нечистоплотностью, отвращением к постоянному труду, пренебрежением к женской чести, любовью к жестокости, драчливостью и полным отсутствием религии.
От Мэйхью до экспериментов Ф. Гальтона, разрабатывавшего фотографии преступных типов в 1870-х годах, прошло не так уж много времени [Hartley 2001; Finn 2009]. Пока социальные теоретики на европейском континенте пытались представить глубинные структуры, связывающие незнакомых людей в единое общество, первые британские социологи сосредоточились на исследовании и определении различий.
В XVII и XVIII веках различные формы социальной идентификации и отличия размножились, превратившись в массу рангов и орденов, должностей и степеней, сортов и классов. Влиятельная работа Г. Кинга по изучению населения после 1688 года содержит подробный список из более чем 20 групп, различающихся по «чинам, степеням, титулам и квалификациям». Классификация Кинга – путаница из политических должностей, социальных рангов и титулов, экономических специальностей – избегала точных определений, но вызывала в памяти порядок, в котором каждый знал свою роль и место в детальной и незыблемой иерархии [Cannadine 1999]. К началу XIX века это уже не имело смысла. Дело было не только в том, что поддерживать и оправдывать столь сложную иерархию мелких различий было труднее в обществе незнакомцев, но и в том, что усиливающаяся работа по социальному описанию создавала новое ощущение общества как отдельной области, требующей собственных форм классификации и различий.

Рис. 9. Жизнь в омнибусе в Лондоне
Источники: Иллюстрация «London News», 11 июня 1858 год.
До конца XVIII века, когда зоологи впервые использовали понятие «общество» для обозначения отдельной системы социальной организации животных, термин обозначал определенный набор связей. Эта идея общества как отдельной сферы, отделенной от политики и экономики, была применена к человеку только в начале XIX века. Начиная с 1830-х годов в свет выходит множество работ журналистов, статистиков, медиков, филантропов, предпринимателей и политиков, исследовавших «состояние Англии», а именно кажущиеся пагубными последствия индустриализации и урбанизации на рабочую бедноту. Несмотря на совершенно разные методы, подходы, жанры и политические предпочтения, их работы в совокупности утвердили социальное как отдельную область исследования со своими закономерностями, вопросами и проблемами, которые были отделены от экономики или политики. Однако эта идея социального как автономной системы, законы которой могут быть выявлены через изучение конкретных механизмов, развивалась медленно. Она была менее очевидна в работах Ассоциации исследований в области социальных наук (1857 и 1886), чем в работе Г. Спенсера «Изучение социологии» (1873), в которой на основе эволюционной биологии была разработана концепция общества как органической и все более сложной системы, и в книге Г. Мэна «Деревенские общины на Востоке и Западе» (1876), в которой превозносились патриархальные узы, скрепляющие «традиционное» общество. Когда академическая дисциплина социология с формальным запозданием появилась в Великобритании с образованием Социологического общества в 1903 году, она прежде всего сохраняла заинтересованность не столько выявлением железных законов социального развития, сколько решением конкретных социальных проблем, описанием и классификацией социальных различий [Abrams 1968; Blumer, Bales 1996]. В отличие от кабинетных ученых, континентальные социологи, наблюдая за вновь обретенной плотностью и анонимностью французских, немецких и итальянских городов, стремились понять коллективные черты и общий менталитет недифференцированной городской «толпы» [Kern 1983; Barrows 1981].
Культурная работа зарождающихся социальных наук в Великобритании заключалась в том, чтобы сделать общество чужаков понятным, сначала очертив типы различий, которые структурируют его сложность, а затем представить связи, которые скрепляют его воедино как дискретную систему. Неудивительно, что в имперской нации, которой была Великобритания, социальные исследователи обратились к категориям расы, а не класса, чтобы понять социальную проблему бедности в самом большом и самом богатом городе мира. Им не нужно было далеко ходить, чтобы узнать, как живут бедняки, – как обнаружил Д. Сим в 1883 году, стоило лишь заглянуть на «темный континент в нескольких минутах ходьбы от Главного почтамта». Бедняки все больше воспринимались не как отдельный класс, а как отдельная раса, их часто приравнивали к «примитивным» и «диким» народам по всей империи, а лондонский Ист-Энд был прообразом темных континентов Востока или Африки [Keating 1976; Marriott, Matsuruma 1999]. Подобная расиализация бедняков на родине была тесно связана с ужесточением представлений о расовых различиях по всей империи после восстания в Индии (1857) и восстания в Морант-Бей на Ямайке (1866). Примитивная природа лондонской бедноты и имперских подданных Великобритании коренилась в расовых различиях населения, которые все чаще объяснялись не культурой и историей, а неизменной биологией. В то время как Гальтон экспериментировал с композитными фотографиями преступных типов, он непрерывно развивал науку евгенику. Даже Ч. Бут, составивший статистическую карту бедности в Лондоне, классифицировал каждую улицу в зависимости от относительного богатства ее жителей по шкале, где желтый цвет обозначал «верхний средний и высший классы», а черный, разумеется, – «низший класс», который далее определялся как «порочный, полукриминальный». Как бы он ни старался придать своим работам независимый научный стиль, классификации Бута оставались отмеченными взглядом на бедняков как на отдельную расу [Metcalf 1997; Davidoff, Hall 2002; Mantena 2010]. Когда класс все-таки появился как способ осмысления социального порядка, это был не плод социологического воображения, а язык политики. Даже тогда, несмотря на длительное пребывание Маркса в Великобритании, категория класса оставалась свободно маргинальной и понималась в основном в политических, а не социальных терминах, как отношение к государству и гражданству [Jones 1983; Joyce 1991; Wahrman 1995]. Только после того, как социологи зафиксировали расширение среднего класса (новые технические формы труда, новые жилые комплексы, новые виды досуга) и разложение традиционных сообществ и культуры рабочего класса (под влиянием американизированной массовой культуры, городского планирования и в конечном счете роста уровня жизни) в период с 1930-х по 1960-е годы, классовые категории были окончательно натурализованы. В этом смысле класс становится наиболее очевидным в момент его распада или переформирования [Lawrence 2010].
Трансформация личностного
Подобно тому, как общество чужаков породило новые модели поведения и способы прочтения и понимания социальных различий, оно также обеспечило условия для возникновения интимной сферы личных отношений. Нигде это не было так очевидно, как в трансформации семейной жизни. Существуют разногласия по поводу того, когда и как возникла современная нуклеарная семья, но мало кто спорит с тем, что расширенное корпоративное домохозяйство, уходящее корнями в широкую сеть родственных связей, в итоге было вытеснено семейной ячейкой, построенной на моногамном браке и потомстве, позволяющих накапливать и передавать собственность и богатство [MacFarlane 1978; Stone 1977; Davidoff, Hall 2002; Vries 2008]. Быстрая миграция и растущая мобильность населения, по-видимому, поддерживали удивительно гибкие формы семейной и домашней жизни. В 1851 году лишь 36 % домохозяйств содержали только супружескую семью – супругов и их детей, в то время как «44 % содержали по крайней мере одного дополнительного человека – квартиранта, слугу, работника, посетителя или родственника» [Anderson 1993:65]. Хотя средний размер домохозяйств оставался на уровне около пяти человек в период с 1750 по 1850 год, а в 1950 году упал до чуть более трех, наблюдались значительные различия между городом и деревней, а также между профессиями и классами. В выборке Давидоффа и Холла, включающей семьи среднего класса, отмечается, что средний размер домохозяйства в 1851 году составлял чуть больше шести человек, увеличился до семи и снизился ближе к пяти на верхнем и нижнем концах социального спектра. Большие группы также преобладали среди торговых семей, где часто встречались подмастерья и лавочники, а также среди низших профессиональных семей, таких как учителя, которые часто включали детей, живущих в их школах. Более того, уменьшение размеров домохозяйств не позволяет установить изменения в их составе, который в 1850 году, помимо родственников и дальних родственников (племянников, племянниц, двоюродных братьев и сестер), включал гостей, работников (в том числе слуг и подмастерьев) и квартирантов. Дж. Гиллис метко назвал этот тип домохозяйств «семьей чужаков» [Gillis 1996].
Только в начале XX века домохозяйство стало нуклеарной семьей. К 1880-м годам родственные связи были в значительной степени прерваны, а среднее число детей за два поколения сократилось с шести до двух. При этом размеры семей по-прежнему варьировались по шкале от 0 до 10 детей в примерно равных пропорциях. К 1920-м годам в подавляющем большинстве семей было от одного до трех детей. По мере изменения размера и состава семей менялась и структура взаимоотношений. Дети стали более тесно привязываться к своим родителям, которые, как и их потомство, теперь жили гораздо дольше. Число детей, которые могли потерять хотя бы одного родителя, резко сократилось с 20 % в 1741 году до всего лишь 3 % 200 лет спустя. Поскольку к 1920-м годам рост населения и его миграция в города практически сошли на нет, сокращающаяся семейная ячейка с большей продолжительностью жизни часто была одновременно и более оседлой, и более изолированной от других семей[15]15
Этот параграф появился во многом благодаря работе Андерсена «Социальные последствия демографических изменений». Исключением было то, что социологи и социальные историки 1950-х и 1960-х годов считали традиционной формой семьи рабочего класса, где расширенная семья жила в одном районе и разделяла обязанности по воспитанию детей. Однако, будучи продуктом начала XX века, этот тип семьи на самом деле был очень недавней исторической вехой, и он исчез так же быстро, как и появился, под влиянием послевоенных градостроителей, упадка крупномасштабной обрабатывающей промышленности и новой критики семьи.
[Закрыть].
Интимные отношения нуклеарной семьи зависели от нового разделения труда и условий приватности, ограждающих ее от общества чужаков. Во-первых, семейный дом стал изолирован от мира оплачиваемой работы. Домохозяйство долгое время было местом работы, а жилые помещения располагались вокруг или над мастерскими или лавками вплоть до конца XVIII века, когда многие формы производства стали перемещаться на фабрики и в мастерские, а работники торговли, розничной торговли и профессий переезжали в отдельные, специально построенные магазины и конторы. Постепенно, по мере того как в растущих городах появлялись отдельные жилые, торговые и промышленные районы, зародилась идея добираться на работу. Это был не только экономический, но и культурный процесс. В его основе лежала попытка удалить женщин и детей из того, что все чаще считалось мужским миром труда. Мужчины должны были материально поддерживать тех, кого считали зависимыми от их работы – жену и детей. Конечно, для многих, особенно для рабочего класса, этот идеал был редко достижим, поскольку домохозяйства по-прежнему зависели от навыков или доходов всех членов семьи. Тем не менее, несмотря на эту неопределенность, идеальная семья культивировала новую приватность и дистанцию от посторонних людей за входной дверью, укрываясь за занавесками, живыми изгородями, стенами, воротами и подъездами [Davidoff, Hall 2002].
Эмоциональная составляющая семейной жизни была преобразована в новом частном пространстве дома. Женщины и дети, которые больше не считались участниками домашней экономики, стали объектами новых эмоциональных инвестиций в ряд оригинальных семейных ритуалов, таких как формализация семейных трапез, сказки на ночь, каникулы и празднование дней рождения [Gillis 1996]. Как ни странно, это часто предполагало физическую отстраненность и дистанцию между членами семьи. По возможности детей удаляли в собственные спальни, хотя в 1911 году три четверти семей все еще жили в квартирах с одной или двумя комнатами. Дети из высшего класса всегда проводили больше времени со слугами, чем с родителями. С 1850-х годов представители среднего класса также начали отправлять своих сыновей в школы-пансионы. Сорок одна новая школа-пансион была создана в период с 1840 по 1869 год, а к 1930-м годам их число достигло примерно 200. Многие из этих школ обслуживали отдельные регионы, но даже в них учились дети, чьи родители были разбросаны по всей стране и империи. Действительно, для колониальных чиновников отправка своих детей в школу в Блайте была способом поддержания социального статуса и нарочитой английскости [Buettner 2005]. К 1880 году, когда начальное образование стало обязательным для всех детей, даже рабочий класс был вынужден отправлять своих отпрысков на обучение к незнакомым людям в местную школу.
Действительно, расстояние, на котором проживали члены одной семьи, стало показателем ее состоятельности. Подобно тому как мальчиков разбрасывало школьное образование, брачный рынок среднего класса, столь важный для привлечения капитала в семейный бизнес, способствовал тому, что девушки также часто селились и создавали семьи вдали от дома. Письма позволяли супружеским семьям оставаться на связи. Получение письма само по себе имело символическое значение, независимо от того, какие новости оно сообщало. По мере повышения скорости работы внутренней почты и введения в 1839 году единой платы за письмо независимо от расстояния семейное общение стало коммерциализироваться благодаря поздравительным открыткам (на которых отмечались дни рождения и праздники, День святого Валентина или приглашения на свадьбы и похороны) и обмену подарками, помогающим связать дальние и близкие отношения в интимные ритмы семейной жизни. К 1860-м годам даже жители бедных районов с высоким уровнем неграмотности, таких как Олдхэм, получали по шесть писем на человека. Аналогичным образом, растущий в конце XIX века интерес к семейным древам и генеалогическим исследованиям, которые когда-то были уделом аристократии, свидетельствовал о стремлении вновь сделать разрозненные семьи единым целым и по крайней мере вписать их в семейную Библию [Whyman 2009; Vincent 1989]. Письма, призванные сплотить семью, были особенно важны для сохранения родственных связей между людьми, которые постоянно перемещались и часто разлучались. Смена должностей и рабочих мест в колониях и на разных континентах, периодические возвращения на родину в отпуск, обучение детей в школах-интернатах и летние резиденции на горных станциях – все это разлучало мужей и жен, родителей и детей. В этих условиях, когда сыновья могли годами не видеть своих родителей, братьев и сестер, письмо было формой обмена в эмоциональной жизни семьи и ключевой обязанностью матерей. Это был опыт, ужасающе распространенный для многих семей во время Первой мировой войны [Buettner 2005; Roper 2009].
Нигде перестройка интимных отношений в обществе незнакомцев не отразилась больше, чем в появлении брачных объявлений и личных колонок. В период с 1870 по 1914 год в Англии было создано не менее 22 брачных газет с такими объявлениями. Они продавались в газетных киосках и магазинах и обычно публиковали от 200 до 500 объявлений в неделю. Один редактор смело хвастался, что благодаря ему заключается более тысячи браков в год. Эти издания стремились соединить незнакомцев расчетливыми способами и были нацелены в первую очередь на представителей низших слоев среднего класса – клерков и торговцев, у которых не было средств или родственных связей, чтобы лично организовать брак, и для которых случайная встреча или ухаживание казались опасными и нереспектабельными [Cocks 2013]. Хотя то, что мы сегодня знаем как рекламу «одинокого сердца», появлялось в популярной прессе с 1860-х годов, оно оформилось как личная колонка лишь в 1915 году. Журнал под названием «Link» начал публиковать, по определению главного редактора, новое социальное средство, посвященное тем, кто ищет любовь и дружбу, а не законный брак [Cocks 2009]. Старые формы знакомства и брака ни в коем случае не исчезли, но их дополнили новые анонимные способы, которые стали необходимы и возможны только в обществе незнакомцев.
В то время как семья создавала новые эмоциональные модели, которые позволяли сохранять уединение от незнакомцев за дверью и не терять близость между территориально далекими родственниками, все более перформативная природа самосознания могла быть ответом на анонимность социального мира, населенного чужаками. Я, конечно, не предполагаю, что современная идея личности как индивидуализированного и автономного «я» была продуктом общества чужаков. Мы знаем, что это новое понимание себя возникло в XVII и XVIII веках. Его ключевым ингредиентом был переход от внешних точек отсчета для самоанализа, таких как протестантские поиски индивидуального спасения или сублимация личности в рамках более крупного корпоративного тела, к внутренним, которые признавали, что каждый человек является хозяином своего знания (Декарт) и архитектором своей собственной жизни (Локк). Там, где раньше эгоцентризм казался сомнительным с моральной точки зрения или даже греховным, он постепенно стал приниматься и поощряться. Это проявилось в зеркалах, часах и личных спальнях буржуазного дома, в новых практиках самоанализа и интроспекции, в появлении романа и его историй об индивидуализированных персонажах, в распространении новых верований, которые позиционировали гендерную личность как носителя политических прав и прославляли корыстное стремление к богатству, а также в развитии новых романтических представлений о ребенке и детстве как уникальном формирующем моменте самореализации и воспитания [Taylor 1992; Steedman 1995; Porter 1996; Wahrman 2004]. Все они предоставляли новые возможности для самопознания и реализации «я», которое воспринималось как сущностное ядро личности, и развивались независимо от увеличения численности, мобильности и анонимности населения.
Новым явлением, связанным с анонимностью современной жизни, была культура перформанса, которая все чаще включала задачи создания и демонстрации своего личностного начала. Были и те, кто отвергали новый акцент на внутренности, интимности и аутентичности и вместо этого сознательно культивировали формы самости, основанные на стилизованной внешности и поддержании дистанции с другими. Бал-маскарад, столь модный во второй половине XVIII века, может быть понят в этих терминах как сцена для представления себя в толпе незнакомцев [Castle 1986; Wahrman 2004]. Понимание самости достигло своего апогея в культуре «денди», оно отнюдь не было уделом элиты. Хотя Бо Бруммелл и Оскар Уайльд в начале и конце XIX века оставались его главными образцами, поздневикторианские мюзик-холлы изобиловали Champagne Charlies и Swells, игриво представляющими различные социальные идентичности как на сцене, так и вне ее [Vernon 2000: 37–62; McLaren 2007: 597–618]. Поиски подлинной духовности породили множество практик публичного представления самореализации, ее раскрытия и воплощения в жизнь. Повествования об обращении, о рождении нового «я» стали основой методистской литературы и вскоре были воспроизведены в автобиографиях рабочих людей, повествующих о своих политических, образовательных и этических преобразованиях. Движение за умеренность сделало публичное подписание клятвы новообращенными центральным событием их собраний. Аналогичным образом, дискурс самосовершенствования, канонически сформулированный в книге С. Смайлса «Самопомощь» (1859), приравнивал воспитание хорошего характера к его социальному проявлению во время знакомства с незнакомыми людьми [Anixter 2015; Vincent 1982; Harrison 1971; Collini 1985: 29–50]. Во второй половине XIX века даже занятие месмеризмом, спиритизмом и оккультизмом для исследования самых глубоких глубин самости и границ ее автономии и рациональности предоставляло альтернативные, «научные» этапы реализации и исполнения [Winter 1998; Owen 2004]. Современная социальная ситуация, возможно, и создала общество анонимных и далеких незнакомцев, но она также породила новые формы близости, привязанности и самопознания, которые обеспечили сохранение личных отношений в центре социальной жизни.
* * *
В период между 1750 и 1900 годами быстрая миграция, растущая мобильность и урбанизация британского населения создали новое общество чужаков. Это социальное положение, которое я считаю состоянием современности, изменило социальные отношения на улицах, в наших семьях и в нашем внутреннем мире. Оно также потребовало разработки новых систем управления, форм объединений и торговли. Необходимо было буквально заново придумать и собрать современное государство и экономику.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?