Читать книгу "Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)"
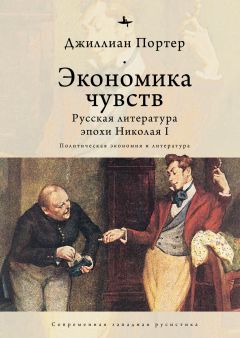
Автор книги: Джиллиан Портер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
История понятия. Ambition, честолюбие и амбиция
Слово ambition вошло во французский язык в XIII веке, означая «страстное желание славы и почестей» (см. Приложение). В контексте средневекового придворного общества это понятие, таким образом, стало тесно ассоциироваться со страстями, неуправляемыми эмоциями, которые, как считалось, порождаются движением гуморов в теле, и с честью, высочайшей социальной ценностью того времени. Согласно такому пониманию, амбиция соединяет тело индивидуума с социумом. К концу XVIII столетия взаимосвязи между амбицией, телом и социумом становятся темой первостепенной важности в ранней французской психиатрической литературе. Европейские теоретики уже долгое время считали корыстолюбие наиболее пагубной из экономических страстей, социальные же потрясения Великой французской революции и поражающий воображение взлет Наполеона из безвестности к высотам власти породили мощную волну амбиции у молодых людей, привлекая повышенное внимание к угрозам, которые это чувство могут составлять для личности и общества в целом. Как указывал историк Я. Гольдштейн, амбиция и ambitieux (‘амбициозный человек, честолюбец’) были распространенной темой психиатрической литературы во Франции начала XIX века. Отмечая большое количество «умалишенных на почве амбиции» в годы после Французской революции и особенно в постнаполеоновскую эпоху, первые французские психиатры-профессионалы продвинулись настолько, что идентифицировали «амбициозную мономанию» ('monomania ambitieuse) как доминирующее психологическое расстройство того времени. Очевидное преобладание патологической амбиции у представителей среднего класса в этот период заставило первых психиатров Франции, таких как Ф. Пинель (1745–1826) и Ж.-Э. Д. Эскироль (1772–1840), утверждать, что страсти и их дисбаланс зависят от социальных факторов [Goldstein 2001: 158]. Согласно этой новой концепции страстей, класс, гендер и политические структуры подогревают одни страсти и остужают другие. Предполагалось, к примеру, что у женщин было относительно мало амбиции, поскольку их возможности делать карьеру или участвовать в общественной жизни были невелики [Goldstein 2001: 161] (также см. [Aliber 1825: 346]). Связывая клиническое внимание к амбиции с усилиями врачей по созданию современной психиатрической науки, Гольдштейн показывает, что изучение амбиции заняло особое место в истории этой дисциплины. Для психиатров первой половины XIX века мужская амбиция стала тем, чем явилась женская истерия для психиатров второй – центральным объектом изучения, вокруг которого складывалась психиатрия как таковая.
Французская литература XIX века помогла нормализовать амбицию. В таких произведениях, как «Красное и черное» (1830) Стендаля и «Утраченные иллюзии» (1837–1843) О. де Бальзака, амбиция – это не столько несбыточная мечта о величии, сколько план действий. Хотя и в этих произведениях присутствуют следы ранних клинических дискурсов о «амбициозной мономании», все же амбиция в них представлена как всепроникающая сила, управляющая повседневным ходом событий в постнаполеоновской Франции[21]21
Об использовании Стендалем французского клинического дискурса об амбиции см. [Kete 2005].
[Закрыть]. Как писал П. Брукс, сюжеты Стендаля и Бальзака обретают все более отчетливую форму по мере того, как амбициозные герои стремятся к своим целям, и подобная структура нарратива придает легитимность амбиции, приглашая читателя разделить это стремление к успеху [Brooks 1984: 39–41]. Я не хочу сказать, что Стендаль, Бальзак и другие французские авторы оправдывают амбицию; поведение их персонажей часто кажется неприглядным с точки зрения морали, и как правило, их мечтания терпят крах. И все же французская литература об амбиции, в отличие от вдохновленных ею произведений российских авторов, характеризуется стремлением на протяжении многих сотен страниц верить в возможность достижения героем страстно желаемой цели. Несмотря на довольно сложную трактовку амбиции, французская литература помогла этой страсти выйти из сумасшедшего дома на улицы и подарила читателям надежду на ее осуществление.
Сравнительный анализ французских определений слова ambition подтверждает постепенный процесс изменений в значении этого понятия, которые возникли с помощью литературы, и чувство, изначально считавшееся пагубным, стало считаться нормальным, а в конечном счете, и приветствоваться. Как показано в Приложении, «Словарь Французской Академии» («Dictionnaire de L’Académie française») изначально определял ambition как «чрезмерное желание славы и величия» (1694), затем как «неумеренное желание почестей, славы, возвышения, отличий» (1798, 1835) и к концу XIX века просто как «желание почестей, славы, возвышения, отличий» (1878). Утратив негативный оттенок чрезмерности, понятие ambition к началу XX века также приобрело более активную характеристику: «желание или поиск почестей, славы, возвышения, отличий» (1935). В контексте французского потребительского капитализма конца XX века когда-то разрушительная ambition начала трактоваться как естественное и энергичное «полное жизни желание возвыситься, чтобы реализовать все возможности, присущие чьей-либо натуре» (1986)[22]22
[Dictionnaire de LAcademie francaise 1694,1798,1835,1878,1935]. Цит. no: URL: http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/la-9e-edition (дата обращения: 02.11.2020).
[Закрыть].
Во Франции с 1789 по 1830 год успешные преобразования юридических и социальных институтов и способствовали ускорению социальной мобильности, и получали дальнейшее развитие благодаря ей. Россия, напротив, в эти и последующие десятилетия столкнулась с подавлением властями французского либерализма. Екатерина II, обеспокоенная веяниями французской революции, выступила против радикализации идей Просвещения. Изгнав из России армию французов (и положив конец амбициям Наполеона), Александр I в течение своего правления все более склонялся к консерватизму. Встревоженный восстанием декабристов, вдохновленных главным образом французским реформаторством, и потом июльской революцией 1830 года, Николай I издал ряд законов, враждебных проявлениям амбиции. Например, новый «Свод законов Российской империи», введенный в действие в 1832 году, укреплял основанную на сословных (а не на классовых) различиях структуру российского общества. И точно так же в 1840-х годах власти повысили требования к получению как наследственного, так и ненаследственного дворянства в первый раз с того момента, как Петр Великий ввел Табель о рангах [Миронов 1999: 80, 138].
И тем не менее гражданская и военная служба обеспечивала возможности для социального продвижения существенному числу выходцев из непривилегированных сословий в 30-40-е годы XIX века. В действительности власти не могли ограничить число лиц, получающих дворянский статус, поскольку все больше людей поступало в гимназии, в офицерский корпус и в гражданскую службу, а каждый из этих институтов представлял собой потенциальный путь к продвижению в высшее сословие [Миронов 1999:133–139]. В этот период очень четко обозначилось растущее противоречие между реальной возможностью социальной мобильности и попытками властей воспрепятствовать ей. Еще больше противоречий придавали амбиции соперничающие между собой отечественные и иностранные представления о ней. Несмотря на цензуру публикаций об антимонархических политических движениях за рубежом в попытке правительства Николая I сдержать волнение в обществе, идеи социальных преобразований проникали в Россию через периодику и романы. Особое подозрение властей вызывала современная французская литература, изображающая представителей низкого происхождения, которые меняли и себя, и свою страну; у русских читателей она при этом пользовалась широкой популярностью [Томашевский 1960: 169]. И все-таки Россия не имела сильного среднего класса, способного представить амбицию легитимной и желательной на уровне национальной культуры; такие буржуазные ценности, как индивидуализм и экономность, шли вразрез с русскими культурными идеалами, например смирением как важнейшей чертой русского православия или безудержной щедростью – предметом гордости дворянства.
Подобные конфликтующие установки в отношении к амбиции можно проследить в словарных определениях понятий «честолюбие», «амбиция» и связанных с ними. Честолюбие появилось в XVIII веке как секуляризованная форма церковнославянского слова «любочестие», от которого оно и унаследовало противоречивые коннотации, связанные с православными и аристократическими ценностями. «Любочестие», сочетающее славянские корни слов «любовь» и «честь», вошло в обиход в переводах библейских текстов на русский язык[23]23
К примеру, в издании так называемой «Елизаветинской Библии» 1756 года в «Книге Премудрости Соломона» (14:18), где говорится о греховном сотворении идолов, слово (/нХотциа переведено как любочестие: «В продолжение же злочестия и не разумеющих принуди художниково любочестие» [Библия 1751: 358]. В то же время русский синодальный перевод 1876 года заменяет любочестие тщанием: «К усилению же почитания и от незнающих поощряло тщание художника» [Библия 1876: 400]. Точно так же Библия короля Якова (Авторизованная Библия) использует слово diligence (‘тщание’) в этом отрывке [King James Bible 1611].
[Закрыть] в виде кальки греческого понятия фйоприа (‘любовь к почестям’). Эта устаревшая форма продолжала использоваться вплоть до XIX века в религиозном контексте, обозначая греховное желание мирской славы[24]24
В проповеди в день почитания святых Петра и Павла в 1825 году влиятельный митрополит Московский Филарет (1782–1867) убеждает слушателей подражать апостолам, отказываясь от поиска славы земной: «Если не можешь еще возлюбить поношение, отвергни по крайней мере любочестие» [Дроздов 1873–1885:218].
[Закрыть]. В светском контексте любочестие часто было окрашено подобным представлением о его греховности. Тем не менее это слово могло еще использоваться и в позитивном свете: в высказываниях, призванных утвердить достоинства дворянства, оно обозначало похвальное стремление прославиться самому или прославить кого-либо[25]25
М. В. Ломоносов, например, защищает и любочестие, и честолюбие, которые использует как синонимы, в своей «Риторике» («Краткое руководство к красноречию, книга первая, в которой содержится риторика…», 1748, вторая редакция 1765). Согласно Ломоносову, «без сей страсти не чинились бы на свете знатные предприятия» [Ломоносов 1952:188], см. об этом также [Levitt 2011: 130].
[Закрыть]. В этом последнем смысле любочестие тесно соприкасается с такими достоинствами дворянства, как щедрость и гостеприимство: любочестие, к примеру, может побудить к проявлению щедрости при приеме важных гостей.
Если появление понятия «честолюбие» в XVIII веке указывает на потребность очистить идею обретения почестей от религиозного осуждения, первые издатели «Словаря Академии Российской» (1789–1794) явно не принадлежали к числу тех, кто такую потребность испытывал. Они презирали честолюбие как «слабость духа, по которой человек ищет в наружных знаках и способах получить уважение и почтение от других, коих сам в себе не имеет» [Словарь Академии Российской 1794, VI: 730][26]26
Интересно, что издатели первого «Словаря Академии Российской» дают более благоприятное истолкование уже устаревающему слову «любочестие», определяя его как «любление воздавать честь другому» [Словарь Академии Российской 1794]. Переведенное в устаревшую форму, это значение исчезло из позднейших изданий. Второе издание (1806–1822) повторяет резко негативное определение, данное в первом издании честолюбию, и представляет любочестие его простым синонимом. Однако явное толкование любочестия как желания почтить других остается в определении во втором издании в сопутствующей (теперь уже устаревшей) форме любочестивый: «1. Желающий почестей, уважения. 2. Щедрый» [Словарь Академии 1814].
[Закрыть].
«Толковый словарь живого великорусского языка» (1863–1866) В. И. Даля смягчает намеренный критицизм академического толкования слова «честолюбие», определяя его как «искательство внешней чести, уваженья, почета» [Даль 1882: 730]. Тем не менее Даль все же отмечает направленность честолюбия на «внешние» признаки и искусственные показатели славы. Эта направленность еще отчетливее проявляется в его определении «честолюбца» («человека, обладающего честолюбием») как «страстного к чинам, отличиям, ко славе, похвалам и потому действующего не по нравственным убеждениям, а по сим видам» [Даль 1882: 731]. В последующие десятилетия честолюбие не поспевало за все более позитивным переосмыслением французской ambition. Действительно, после революции 1917 года официальный упор на коллективное сделал индивидуальное стремление к возвышению в социуме крайне проблематичным, и на протяжении советского периода словари трактовали честолюбие все более негативным образом. Первое издание Малого академического словаря определяет его как «сильное желание занимать высокое, почетное положение, обладать властью; стремление к почестям, к славе» [МАС 1961:918], а второе издание этого же словаря (1981–1984) – как «стремление добиться высокого, почетного положения, жажда известности, славы» [МАС 1984: 672]. Риторика «жажды», свойственная этому определению позднего советского периода, предполагает не «полное жизни желание» самореализации, а физическую потребность в признании со стороны других людей.
Несомненно, словарные дефиниции дают лишь частичное представление об истории слова. Это в особенности справедливо в случае в высшей степени нормативного «Словаря Академии Российской», который скорее выносит суждение, чем объясняет разнообразные коннотации слова. Явно нормативная трактовка слова «честолюбие» говорит о том, с какой энергией обсуждалась его моральная легитимность в XVIII–XIX веках. Чего не способны показать словари, но ясно показывает литература: в тот период понятие «честолюбие» стало тесно ассоциироваться с Табелью о рангах – системой установленных властью ступеней социальной ценности, введенной Петром I. В теории Табель о рангах – многоуровневая иерархия служилого дворянства в соответствии с классами гражданских, военных и придворных чинов – должна была обеспечить людям низкого происхождения возможность получить дворянство благодаря ревностной службе государству. На практике же она устанавливала между представителями разных классов барьеры, которые легче было преодолеть за счет социальных связей, а не личных достоинств. Закрепленные законом административные обозначения в Табели о рангах – отличительное свойство русского общества начала XIX века, объясняющее, почему государственный аппарат гораздо чаще присутствует в изображении социальных устремлений в русской литературе, чем во французских произведениях на ту же тему. В то время как амбициозные герои Бальзака и Стендаля ищут счастья в сферах, далеких от государства, таких как светские салоны («Шагреневая кожа»), духовенство («Красное и черное») или писательство («Утраченные иллюзии»), герои «Трех листков из дома сумасшедших» Булгарина, «Записок сумасшедшего» Гоголя и «Двойника» Достоевского все как один стремятся к карьере на государственной службе. Главный герой «Пиковой дамы» – офицер, и значит, тоже служит государству.
Толкование честолюбия как страстного стремления к высокому положению на государственной службе наполняет его изображения в литературе особенно многогранным идеологическим значением. С одной стороны, деятельность властей в большой степени зависела от активного стремления людей к продвижению по службе. С другой стороны, широко распространенное желание возвыситься могло нести угрозу стабильности стратифицированного российского общества. Как мы увидим в «Трех листках из сумасшедшего дома» Булгарина, слова честолюбие и честолюбец, употребленные для описания представителей низшего класса, могли служить реакционной цели, окрашивая стремление к социальному возвышению в негативные с точки зрения морали тона. Однако, как покажут гоголевские «Записки сумасшедшего», те же слова в адрес сильных мира в устах лиц низшего класса сего могут ставить под вопрос их достоинства и патриотические чувства. Очевидным образом, осуждение честолюбия может либо поддерживать, либо подрывать легитимность социальной иерархии.
Семантическая траектория заимствованного слова амбиция следует более причудливым изгибам, чем честолюбие, иногда приближаясь к значению французского ambition, а иногда резко отклоняясь от него. Слово амбиция вошло в русский лексикон в начале XVIII века – вполне закономерно, что это произошло в амбициозные времена Петра Великого. Согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера, слово амбиция пришло в русский язык через польское заимствование – ат-bicja [Фасмер 1964], однако другие авторитетные издания, например словарь Даля и «Большой академический словарь русского языка», считают его французским заимствованием. В любом случае, к концу XVIII века это слово получило широкое распространение, одновременно сохраняя чужеродность. Оно не указано в первом и втором издании «Словаря Академии Российской», однако появляется – пусть и в нестандартной форме – в провокационном сентиментальном романе-путешествии «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) А. Н. Радищева. В одном месте рассказчик у Радищева становится свидетелем того, как отец побуждает своих сыновей отказаться от требования светского этикета, требующего наносить визиты вышестоящим особам:
Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредный, ничего не значущий, показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицио, то есть снискание или обхождение; а оттуда и любочестие названо амбицио, ибо посещениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам [Радищев 1992: 54].
Радищев употребляет латинизированное написание слова («амбицио»), что позволяет предположить, что форма еще не устоялась в русском языке к концу XVIII столетия. Этот отрывок особенно интересен в свете обсуждения русских слов, использующихся для обозначения амбиции: Радищев сравнивает русские и западные (в данном случае древнеримские) формы проявления социальных устремлений. Похоже, что цель данного сравнения – не только раскритиковать тех, кто стремится к возвышению в обществе, но также и дать определение новому слову (амбицио / амбиция), которое в то время широко обсуждалось.
Включив слово «амбиция» в список иностранных заимствований, которые еще требовали объяснений, в начале XIX века «Новый словотолкователь» определяет ее как «славолюбие, высокомерие, любочестие, чрезвычайное и непомерное желание к богатству, к достоинствам, к чести» [Новый словотолкователь 1803]. Именно это толкование амбиции начала XIX века максимально приблизилось к французской ambition, поскольку в дальнейшем последнее значение «стремления к возвышению в обществе» (так важное для французского понятия) ослабело, а затем и вовсе исчезло. В словаре Даля амбиция — это «чувство чести, благородства; самолюбие, спесь, чванство; требование внешних знаков уважения, почета» [Даль 1880: 14]. Здесь амбиция считается присущей исключительно благородному сословию и подается скорее в смысле самооценки личности, чем ее возвышения. В зависимости от взглядов человека, приписывающего амбиции себе или другим, это чувство можно считать позитивным (в смысле «дворянской гордости») или негативным («спесь»).
Единственный зафиксированный у А. С. Пушкина случай употребления слова «амбиция» дает пример позитивной ее оценки как «благородной гордости». В письме 1825 года к своему другу князю П. А. Вяземскому Пушкин пишет, что готов предоставить свои стихи журналу «Московский телеграф» (1825–1834), однако его амбиция требует отказаться от того, чтобы его имя было указано среди редакторов:
Если ему нужны стихи мои, то пошли ему, что тебе попадется (кроме Онегина), если же мое имя, как сотрудника, то не соглашусь из благородной гордости, т. е. амбиции: Телеграф человек порядочный и честный – но враль и невежда; а вранье и невежество журнала делится между его издателями; в часть эту входить не намерен [Пушкин 19376: 185].
Объясняя амбицию как свою «благородную гордость», Пушкин – представитель дворянства – привязывает ее к своему наследственному социальному статусу. Хотя в 1820-е годы Пушкин публиковал свои произведения в «Московском телеграфе», к концу десятилетия он дистанцируется от журнала и его издателя Н. А. Полевого – выходца из «третьего сословия», которого круг дворян-литераторов рассматривал как одного из предприимчивых людей, торгующих русским словом[27]27
Со своей стороны, Полевой критиковал этих писателей благородного сословия, именуя их «аристократами от литературы». См. [Rzadkiewicz 1998: 73].
[Закрыть]. Пушкинская амбиция как чувство гордости, побуждающее его избегать всяческих связей своего имени с «враньем и невежеством» издателей «Московского телеграфа» (и, предположительно, также коммерческими интересами), поддерживает не прогрессивное изменение классового положения (продвижение представителей низшего класса), а консервативное сохранение дворянских отличий и привилегий. В этом значении амбиция – это оборонительная форма стремления, противостоящего рыночным силам коммерциализации и демократизации.
Как и в случае использования «амбицио» Радищевым в «Путешествии из Петербурга в Москву», употребление Пушкиным слова амбиция в каком-то смысле экспериментально. В то время как Радищев предлагает исторический комментарий происхождения слова амбицио и поясняет, что оно является синонимом любочестия, Пушкин предваряет употребление слова амбиция определением «благородная гордость». Это может указывать на то, что Пушкин не уверен, что понятия «благородная гордость» и «амбиция» эквивалентны (хотя и предполагает их смысловую близость), или же не убежден, что Вяземский поймет значение слова амбиция, если использовать его без разъяснений. Любопытно, что популярный писатель и журналист Булгарин делает аналогичное заявление в своих «Воспоминаниях» (1846–1849), говоря в одном месте о своей «врожденной благородной гордости (то, что мы называем амбицией)» [Булгарин 2001: 131][28]28
Я благодарна Любови Гольбурт за то, что она привлекла мое внимание к этому отрывку.
[Закрыть]. Осуждают ли или прославляют амбицию в своих произведениях Радищев, Пушкин и Булгарин, она выступает как понятие, которому русские писатели стремятся дать разъяснение.
Это чувство классовой гордости претерпело изменения в ходе политических преобразований XX века. После Октябрьской революции уничтожение дворянства и официальное стирание классовых различий наделили понятие «амбиция» предосудительным смыслом, хотя в новых условиях возможности для ее проявления были открыты для всех. Первое издание «Словаря русского языка» (МАС, 1957–1961) разрывает первичные ассоциации с благородным сословием и с активным стремлением к социальному возвышению, определяя амбицию как «самолюбие, чувство собственного достоинства, а также преувеличенное самолюбие, чванство» [МАС 1957: 25]. Негативное толкование амбиции как самомнения и завышенной самооценки выглядит еще острее во втором издании этого же словаря (1981–1984), где это слово объясняется как «обостренное самолюбие, чрезмерное преувеличенное чувство собственного достоинства» [МАС 1981: 34]. Между тем последнее издание «Большого академического словаря русского языка» (издание продолжается с 2004 года) указывает на дальнейшие изменения. В этом издании постсоветского периода амбиции даются следующие определения: «1. Гордость, обостренное чувство собственного достоинства. 2. Чрезмерное самомнение, самолюбие; спесь, чванство. Притязания на что-л., вызванные уверенностью в себе, в своих силах, возможностях; честолюбивые замыслы» [БАС 2004]. Хотя и поданное в более негативном ключе, чем современное французское ambition, толкование амбиции как «притязаний на что-либо», подкрепленных «уверенностью… в своих силах, и возможностях», приближается к французскому (и английскому): от раздутой самооценки к фантазиям о самореализации. Распространение идеи амбиции как активного стремления к социальному продвижению в постсоветской России является предметом статьи И. Б. Левонтиной (2006), которая отмечает:
Яркая примета нашего времени – словоупотребления типа: кадровый центр «Амбиция» (он занимается трудоустройством), 11-я ежегодная конференция «Управление в России: время амбициозных целей». А вот из объявления о вакансиях: «Нужен еще один амбициозный и целеустремленный сотрудник» [Левонтина 2006].
Эта продолжающаяся трансформация содержания понятия «амбиция» представляет собой современный пример того, как стремление к социальному возвышению и связанные с ним понятия гордости, собственного достоинства и самореализации подвергаются иностранному влиянию и находятся в состоянии идеологически заряженных колебаний на протяжении современной истории России.
Культурное заражение
Если развитие предпринимательства и усиление роли английского языка в постсоветской России способствовали переосмыслению слова «амбиция» в последние годы, то распространение нарративов о честолюбии и амбиции – патологической жажде социального выдвижения – в России начала XIX века не в последнюю очередь обязано экспансии французской литературы и общественной мысли. Французский дискурс о чрезмерной амбиции как причине безумия в конце XVIII века уже начал распространяться в России, где, в отсутствие развитой традиции медицинской литературы, врачи опирались на французский опыт понимания психических заболеваний. Как указывает И. Ю. Виницкий, после революции само французское происхождение психиатрического дискурса послужило причиной того, что Екатерина II стала с подозрением относиться к психическим заболеваниям. В особенности императрица опасалась меланхолии (избытка черной желчи), которую она считала некой разновидностью французской идеологической инфекции[29]29
Термин «меланхолия» происходит из классической Греции, он распространился в средневековой Европе вместе с теорией Галена о туморах, и в XVIII веке оставался популярен. Обычно применялся в отношении психологических расстройств, от депрессии до сумасшествия. Исторические обзоры эволюции этого понятия см. у Р. Клибанкси и С. Джексона [Klibanksy, Panofsky, Saxl 1964; Jackson 1986].
[Закрыть]. Отдельный интерес для моего исследования представляет реакция Екатерины II на радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» – один из приведенных Виницким примеров того, как Екатерина II связывала меланхолию с «политическими и моральными расстройствами» [Vinitsky 2007: 36].
Императрица видит в нападках Радищева на общественный строй России результат его патологической амбиции:
Вероятно кажется, что родился с необузданной амбиции [sic!] и, готовясь к вышным степеням, да ныне еще не дошед, желчь нетерпение разлилось повсюда на все установленное и произвело особое умствование, взятое, однако, из разных полумудрецов сего века, как-то Руссо, аббе Рейнала и тому гипохондрику подобные… [цит. по: Старцев 1990: 374].
В те времена «гипохондрия», которую Екатерина II приписывает мыслителям эпохи Просвещения Жан-Жаку Руссо и Гийому Рейналю (1713–1796), понималась как форма меланхолии, вызванная неправильным функционированием ипохондрической, или верхней, части живота [Diderot, D’Alembert 1751: 408]. Рассуждая, являются радикальные взгляды Радищева симптомами нереализованной врожденной амбиции или порождены кругом чтения, императрица задает в точности те же вопросы, что и первые французские психиатры относительно происхождения страстей и их дисбаланса как в физиологическом, так и в социально-политическом отношениях. Парадоксальным образом Екатерина II прибегает к принципам именно французской медицины, чтобы защитить свой режим от того, что считает исходящей от Франции угрозой.
Ко второй четверти XIX века обсуждение темы патологической амбиции во французских медицинских кругах стало доходить до русских читателей через периодику. Анализируя литературноисторический контекст, породивший «Записки сумасшедшего», – контекст, в рамках которого стали модными романтические повествования о душевных болезнях в традиции гофманианы, – В. В. Гиппиус отмечает публикацию нескольких французских и русских рассказов о безумной амбиции в те годы, когда Гоголь работал над этим произведением [Гиппиус 1994: 75]. Два французских текста, упомянутые Гиппиусом, были опубликованы анонимно, поэтому их источники и связь с более масштабным французским медицинским обсуждением амбициозной мономании остались писателю неизвестны. Этот медицинский дискурс заслуживает дальнейшего исследования как ключевой источник изображения амбиции в русской литературе XIX века.
В 1826 году в «Московском телеграфе» был напечатан рассказ «Сумасшедший честолюбец». «Московский телеграф», самый читаемый русский журнал своего времени, регулярно публиковал русские и иностранные произведения и статьи по искусству, наукам и общественным проблемам как в России, так и за рубежом. Издатели журнала назвали «Сумасшедшего честолюбца» переводом с французского, без дальнейших уточнений об источнике. Фактически, это прямой перевод рассказа французского врача Жана-Луи Алибера (1768–1837), который в 1825 году включил его в свой трактат «Физиология страстей» («Physiologic des Passions») [Alibert 1825: 341–369]. Алибер был выдающейся фигурой в области, которую историк Э. А. Уильямс назвала «антропологической медициной», а практикующие ее специалисты – «наукой о человеке». Как указывала Уильямс, наука о человеке, уходящая корнями в витализм школы Монпелье начала XVIII века, достигла своего пика в годы Французской революции и в последующие десятилетия оказывала постоянное влияние на французскую медицину. Исследователи науки о человеке, изначально намеренные изучать взаимосвязи между «физическими, умственными и страстными» элементами человеческой жизни, к концу XVIII века сформулировали свой предмет как взаимоотношения между «физическим и моральным» [Williams 2002: 1–2, 8]. Сегодня эта область наиболее тесно ассоциируется с Пьером Жаном Жоржем Кабанисом (1757–1808) и его работой «Отношения между физическою и нравственною природою человека» («Rapports du Physique et du Moral de I’homme» (1802))[30]30
Русский перевод – 1865–1866. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Более всего известный своим мнением о том, что все аспекты умственной и эмоциональной жизни (включая психические заболевания) коренятся в физиологии, Кабанис также утверждал, что окружение и социальные факторы могут вносить свой вклад в развитие душевных расстройств или же, напротив, способствовать их излечению. Другой ведущей фигурой в данной области был Филипп Пинель, который в «Медико-философском трактате о душевных болезнях, или мании» («Traite medicophilosophique sur I’alienation mentale, ou la manie» (1801))[31]31
Русский перевод – 1899. – Примеч. ред.
[Закрыть] популярно излагал идею о том, что безумие имеет как «моральные», так и физические причины, и к нему должно применяться «моральное лечение». Например, в одном месте своего трактата Пинель предлагает предоставлять страдающим от «подавленной амбиции» какую-либо работу или предмет, на которые те могли бы направить свою энергию, и приводит пример человека, успешно исцеленного подобным образом [Goldstein 2001: 49–55, 71, 83–84].
Хотя работа Алибера в области науки о человеке не стала прорывом такого же масштаба, как труды Кабаниса и Пинеля, он тем не менее являлся влиятельной фигурой в годы революции, правления Наполеона и Реставрации. Впервые он привлек к себе внимание работой «Рассуждение о взаимосвязях между медициной и физическими и моральными науками» («Discours sur les rapports de la medecine avec les Sciences Physiques et Morales», 1798) и впоследствии имел постоянный литературный успех, занимал престижные должности лейб-медика Людовика XVIII (годы правления 1815–1824) и Карла X (годы правления 1824–1830). Хотя сегодня его помнят главным образом как основателя французской дерматологии, он получил прижизненное международное признание за «Физиологию страстей», которая была переведена на несколько европейских языков и выдержала множество переизданий в первое же десятилетие после выхода в свет. Главная мысль этой работы в том, что страсти порождаются природными инстинктами, которые обычно проявляют себя согласно законам «животной экономии» (economic animale), но способны разрушать физическую, физиологическую и социальную гармонию при гиперактивном проявлении[32]32
Хотя упор на инстинкты принадлежит лично Алиберу, упоминание им «животной экономии» и приравнивание здоровья к «гармонии» восходят к учению школы витализма Монпелье XVIII века, которая оказала глубокое воздействие на развитие медицины во Франции конца XVIII – начала XIX веков. Учитель Алибера Пинель сам преподавал в Монпелье, и его вера в «моральные» корни безумия представляет собой продолжение учения этой школы, которая настаивала на тесной связи между физическими и моральными элементами человеческой жизни. Виталисты вывели идею телесной гармонии из классических источников, что Алибер и признает в начале своей «Физиологии», цитируя платоновское описание тела как «гармоничного инструмента, предназначенного отражать, имитировать и воспроизводить феномен духа» [Alibert 1825: i-ii].
Более новый термин «животная экономия» активно использовался в голландской медицине XVII века. Голландский врач Г. Бургаве (1668–1738), труды которого были популярны во Франции, использовал этот термин как синоним физиологии, «первое отделение физики», включающее в себя «некоторые части человеческого Тела, с их Механизмом и Действиями; вместе с Доктриной Жизни, Здоровья и некоторых их Эффектов, которые производятся Действиями Частей». Примечательно, что французский физиократ Франсуа Кесне написал трактат о животной экономии на заре своей карьеры, и есть мнение, что его теории «животной экономии» определили его позднейшие взгляды на политэкономию [Williams 2002: 37–38, 40; Booth 2005: 82; Boerhaave 1742: 77; Quesnay 1736; Bazhgraf 2000: 545–549].
[Закрыть]. Алибер утверждает, что амбиция порождается природным инстинктом «подражания», который движет всеми живыми существами, формируя их по моделям своих предшественников [Aliber 1825: 269, 330]. «Пример заразителен», провозглашает Алибер, словно пророчески предвидя распространение своих теорий в России, и эти слова я взяла в качестве эпиграфа к настоящей главе [Aliber 1825: 275]. Иллюстрируя свой теоретический анализ амбиции, Алибер приводит рассказ, «L’ambitieux fou, ou l’Histoire d’Anselme, dit Diogen», который вышел в «Московском телеграфе» под названием «Сумасшедший честолюбец» [Алибер 1826в][33]33
Алибер включил в свой трактат несколько других «анекдотов», чтобы проиллюстрировать свои теории. В течение 1826 года «Московский телеграф» напечатал переводы по крайней мере трех этих «анекдотов», помимо «Сумасшедшего честолюбца». В одном случае главный издатель Полевой указывает себя как переводчика [Алибер 1826 г; Алибер 1826а; Алибер 18266].
[Закрыть].
Очевидно, переводчик считал слова «честолюбец» и «честолюбие» лучшими переводами французского «ambitieux» и «ambition». В русском переводе рассказ начинается следующими словами: «Из бесчисленного множества причин, способствующих заблуждению ума человеческого, есть одна, сильнее всех действующая и всех более поразительная: это честолюбие». Считая желание повысить свой социальный статус естественным инстинктом, Алибер также утверждает, что определенные социально-политические условия особенно этому способствуют:









































