Читать книгу "Экономика чувств. Русская литература эпохи Николая I (Политическая экономия и литература)"
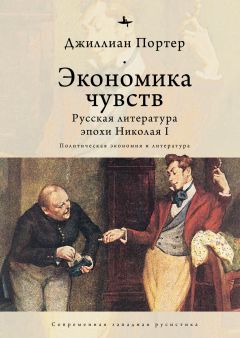
Автор книги: Джиллиан Портер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
В отличие от французских авторов, которые в 1830-е годы отошли от клинического понимания амбиции как опасного истерического расстройства, русские писатели вплоть до 1860-х годов патологическую амбицию описывали. История о мономаньяке, одержимом наполеоновским комплексом, который идет на убийство и кражу только для того, чтобы затем впасть в лихорадочный бред, «Преступление и наказание» (1866) Достоевского являет собой пример и показательно негативной оценки амбиции, и ее концептуальной зависимости от французской литературы и культурных эталонов. Наполеоновские претензии героя Достоевского превращают «Преступление и наказание» в явление, аномальное для традиции русского романа. Социальная амбиция, столь продуктивная в сюжетах европейского «романа воспитания», в русской литературе присуща главным образом малым прозаическим формам, где скорее разрушает характер персонажа, чем формирует его. Рисуя амбицию как опасное устремление, которое следует отвергнуть и преодолеть, «Преступление и наказание» также знаменует собой отход от раннего творчества Достоевского, которое, подобно предшествующим ему историям об амбиции Пушкина и Гоголя, трактует эту страсть в духе ироничной двойственности. В своей книге я стремлюсь представить в новом свете эту трактовку и ее влияние на литературные формы.
Главу 1 открывает сравнение представлений об амбиции в России и Франции, которое разъясняет, как дискуссии об амбиции как опасном психическом расстройстве в медицинских и литературных кругах Франции сформировали представления о социальных стремлениях в России XIX века. Вначале я рассматриваю открытость французской патологической модели амбиции и упорное сопротивление последующему французскому опыту ее нормализации на уровне русского языка. Затем я прослеживаю распространение французского клинического понимания амбиции на почве русской литературы в периодической печати 1820-30-х годов и исследую русских персонажей, страдающих этим заболеванием, в «Трех листках из дома сумасшедших» (1834) Ф. В. Булгарина, «Записках сумасшедшего» Гоголя и «Двойнике» Достоевского. Главная задача первой главы – показать, как диссонанс между пониманием амбиции в русской и французской культурах вызвал к жизни противоречивые повествовательные тональности в произведениях Гоголя и Достоевского.
В главе 2 дан анализ того, что противостоит амбиции в гоголевских «Мертвых душах». В этом романе Гоголь одновременно подчеркивает и размывает различие, лелеемое с эпохи романтизма, между якобы заимствованным побуждением приобретать и предположительно русским императивом отдавать. Ни одного писателя не цитируют чаще, чем Гоголя, когда необходимо подтвердить идею о том, что щедрое гостеприимство – это важнейший элемент русской национальной идентичности, однако «Мертвые души» в действительности представляют собой более нелицеприятный – и откровенно материальный – взгляд на гостеприимство, чем это обычно было принято. В то время как предприимчивый герой разъезжает по провинции и покупает права на умерших крепостных, пользуясь гостеприимством их владельцев, Гоголь приправляет каждое предложение пресловутого «хлеба-соли» поэтикой отвращения. Он соединяет русскую щедрость с малопривлекательной экономикой тела, которая включает в себя и загнивающий институт крепостничества, и вымученную работу желудочно-кишечного тракта. Этот роман, как известно, незаконченный, являет собой кульминацию нарративной щедрости у Гоголя, его склонности позиционировать себя по отношению к читателям в рамках отношений хозяин-гость. Если сравнить «Мертвые души» с ранними украинскими повестями Гоголя, становится ясно, как эти взаимоотношения становились все напряженнее по мере его становления как писателя; его дар становилось все труднее отдавать и еще труднее принимать.
Глава 3 возвращает нас к «Двойнику» Достоевского, смещая фокус внимания от амбиции главного героя к основному инструменту, которым он пользуется для их реализации: деньгам. Что касается денег, то первое, на что обращается внимание в данной книге, это тот факт, что амбициозный герой вовсе не старается их получить, а, напротив, проматывает. Достоевский живописует противоречивые императивы мелкого чиновника, который нуждается в деньгах как раз для того, чтобы тратить их напоказ. Что еще важнее, неоднозначная культурная ценность денег в данном произведении усугубляется их явно неопределенной экономической ценностью, поскольку манипуляции главного героя с подозрительными денежными знаками размывают различия между настоящими и поддельными ценностями. Учитывая дестабилизацию валютного курса во время финансовых реформ 1839–1843 годов одновременно со становлением реализма в качестве нового эстетического курса в 1840-х годах, я утверждаю, что история российской денежной системы послужила источником эстетики фантастического реализма у Достоевского.
Глава 4 интерпретирует поразительную жизнеспособность классического типа скупца во время, когда амбиция заменила корыстолюбие в качестве квинтэссенции экономической страсти, а специфические в национальном и социальном смысле типы заменили типы универсальные как средство и цель литературного воплощения. Подтверждая неуместность накопительства для того, кто стремится продвинуться в высшем обществе, в «Скупом рыцаре» (1836) Пушкина, гоголевских «Мертвых душах» и «Господине Прохарчине» (1846) Достоевского скупость является антитезой социальной амбиции. Эти произведения основываются на давней – докапиталистической – традиции представления скупцов как эксцентричных литературных персонажей, намеренно изолирующих себя от общества. Однако авторы все же отходят от традиции, отказываясь от сатирического осмеяния или откровенного морального осуждения корыстолюбия, которые были со времен Античности важными компонентами историй о скупцах. Ставя вопрос об изменении культурной значимости идеи обогащения в русском обществе, постепенно подпадающем под воздействие коммерциализации, Пушкин, Гоголь и Достоевский больше озабочены художественным статусом типа скупца, воплощающего устаревшее понимание человеческих страстей, чем моральным статусом жадности. Эти авторы изображают скупца как метатип, на котором можно испытывать новые приемы создания характера и оценивать их.
Рассматривая в основном произведения, опубликованные в России между 1825 и 1855 годами, я не задаю жестко очерченных пространственных, временных или текстуальных рамок. Как и тенденции в литературе, чувства возникают в ответ на исторические события и формируют их, но это не поезд, который прибывает и отправляется по расписанию; они могут и ускользать от политического давления, и подпадать под него. В одно время чувства только зарождаются, в другое – полнее развиваются или утихают. Часто они являют собой эхо прошлого или фиксируют современные события, которые могут происходить где угодно и при совершенно различных обстоятельствах. Как утверждал Раймонд Уильямс, литература в особенности склонна фиксировать те «структуры чувств», которые формируют часть общественного сознания в настоящем, но которым не дано определения ни в доступных словарях, ни в официальных догмах. Поэтому я стараюсь найти свидетельства этих чувств не только в изменяющихся значениях слов русского языка, обозначающих амбицию, гостеприимство и скупость, но также в тех характерных элементах «побуждения, ограничения и тональности», которые, согласно Уильямсу, отмечают собой литературу определенного периода или поколения конкретным «стилем» [Williams 1977:132–133]. Изучаемые мной произведения очевидно объединены побуждениями, которые движут персонажами и авторами, отличаясь сильнее всего степенью ограничений и тональностью. К примеру, даже если темы берутся одни и те же (больная амбиция, скупость, литературный обмен между Россией и Францией), Пушкин и Достоевский занимают позиции на разных концах диапазона от лаконичности до логореи и от гармонии до диссонанса. Несмотря на это, преимущество трактовки правления Николая I как периода в истории литературы заключается в том, что это дает возможность изучать произведения двух названных авторов в едином ключе. Светскую уравновешенность Пушкина и склонность Достоевского к избыточному и неудобному следует толковать как взаимно проясняющие друг друга способы реагировать на доминирующие экономические и эмоциональные условия в царствование Николая I.
Я не стремлюсь дать всеобъемлющий анализ всех значимых произведений, опубликованных с 1825 по 1855 год. Безусловно, внимание к страстному стремлению к социальному продвижению или к обогащению формирует картину, в которой женщины и представители низшего сословия остаются на заднем плане. Дворяне не только доминировали в сфере литературы, оставляя наиболее яркие свидетельства своего эмоционального опыта, но и занимали также наилучшее положение с точки зрения социума и закона, чтобы пытаться реализовать экономические проекты, которые я исследую. В частности, именно мужчины из числа обедневшего или мелкого дворянства, или же те, кто получил дворянское звание на государственной службе, выступают в роли главных героев общественной борьбы в литературе эпохи Николая I. Ограничение доступа к образованию и заработку для женщин делало замужество почти единственным способом социальной мобильности, и даже здесь их право принимать решения было очерчено довольно жесткими рамками. В моем представлении такой же вытесненной из системы социальных отношений группой являются крестьяне, которые еще в меньшей степени были представлены среди пишущей и читающей публики и практически были лишены возможности покинуть поместье, где родились. Даже с учетом того, что экономический факт крепостничества и растущие сомнения в его устойчивости или моральной оправданности являются центральными темами культурной мифологии русского гостеприимства, анализ которой дается в главе 2, крепостные и их эмоции в основном остаются для Гоголя и других писателей невидимыми или непонятными. Представление о русском обществе, основанное на моем анализе экономических стремлений, подтверждает меру зависимости чувств и их выражения от гендерной и классовой политики.
Возможно, история российской экономической мысли поможет ответить на вопрос, почему в период правления Николая I писатели так старались объяснить эти и другие материальные основы эмоций. В то время как традиция литературной критики очевидно возлагала на литературу задачу выражения, теоретического осмысления и культивирования чувств, политическая обстановка в России способствовала перенесению в художественный текст дискуссии на экономические темы. Литература стала основной сценой формирования представлений об экономике, и историки российской экономической мысли того периода часто обращаются именно к художественным произведениям. Несомненно, политическая тональность любой дискуссии на экономическую тему, где неизбежно поднимались вопросы прав собственности и верховенства закона, означала, что в самодержавной России писать об экономике всегда было делом рискованным[16]16
Эта рискованность подтверждается судьбой таких пионеров экономического мышления, как Ю. Крижанич (1617–1683) и И. Т. Посошков (1652–1726). Крижанич, хорватский ученый и искатель приключений, жил в России, написал трактат об экономических проблемах государства в период правления царя Алексея Михайловича (1645–1676), был сослан в Сибирь по подозрению в намерении ниспровержения власти еще до написания своего трактата. После завершения своего труда ему пришлось прибегнуть к содействию иностранных дипломатов, чтобы бежать из России [Krizanic 1985: xii]. Успешный купец Посошков составил в 1724 году трактат под названием «Книга о скудости и богатстве» (издана впервые в 1842 году) как рекомендацию для Петра I. Он был арестован вскоре после завершения книги и умер в Петропавловской крепости [Shirokograd 2008: 26–28].
[Закрыть]. Г. фон Шторх (1766–1835), учитель великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) и его брата Михаила, в предисловии к своему «Курсу политической экономии, или Изложению начал, обусловливающих народное благоденствие» («Cours d’ economic politique ou exposition des principes qui determinent la prosperite des nations», 1815) осторожно замечает: «Политическая экономия затрагивает иногда довольно щекотливые вопросы» [Шторх 1881:1]. Напрямую (порой вплоть до плагиата) заимствуя идеи Смита и Ж.-Б. Сэя, Шторх был вынужден решать «деликатную» задачу представить царю такие основополагающие принципы классической политэкономии, как преимущество свободных предпринимательских отношений между свободными гражданами и первостепенная важность справедливой и эффективной судебной системы, способной разрешать споры по вопросам собственности. Ни крепостное право, ни неразвитая судебная система в России не могли соответствовать подобным догматам политической экономии, которая, войдя в канун XIX столетия в сферу академической науки и получив официальный статус в царствование Александра I (1801–1825), при новом императоре попала под подозрение властей. Восстание декабристов даже заставило Николая I задуматься о том, не упразднить ли вовсе преподавание политической экономии как научной дисциплины в Московском университете [Цвайнерт 2008: 62].
Хотя этого в итоге не случилось, развитие политэкономии в последующие десятилетия тем не менее замедлилось. В царствование Николая I вышел только один новый учебник – «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» (1847) А. И. Бутовского (1817–1890). Подобно большинству его предшественников, пишущих на тему российской экономики, Бутовский свободно заимствовал западные источники, а его труд отмечен характерной для русской экономической (и религиозной) мысли чертой – нежеланием разграничить понятия материального и духовного благосостояния [Цвайнерт 2008:39]. По мнению Бутовского, литература сама по себе участвует в экономической деятельности, и не только как предмет торговли, но и как одно из тех «невещественных» благ, которые, наряду с «промыслами вещественными», составляют национальное благосостояние [Бутовский 1847:428,461–464]. Вторя этому вниманию к нематериальным ценностям в русской экономической науке, русская литература обычно связывает национальную идентичность с духовными и эмоциональными понятиями, в прямой оппозиции к тому, что ей представляется западным материализмом. Таким образом, разделения дискурсов экономики и эмоций в той степени, в которой это характерно для французской и британской экономической мысли XIX века, в России не произошло. Однако оно явило собой отправную точку для осмысления национальной специфики русской литературы.
Прослеживая то искренние, то ироничные попытки определения русскости, я надеюсь расширить словарь, доступный для описания взаимоотношений между русской и европейской литературой. Каждая из последующих глав будет посвящена образу, совмещающему экономическое и эмоциональное, который отражает литературное столкновение России и Запада. В главе 1 это заражение (идеями и настроениями), в главе 2 – гостеприимство, в главе 3 – подделка и в главе 4 – накопительство[17]17
Давая эти образы для сравнения, я следую примеру Н. Мелас. В каждой главе своей книги она представляет «литературно-теоретический образ для этой несопоставимости, в котором можно найти почву для сравнения, но не основу для эквивалентности», в том числе «антагонист», «диссимиляция», «сравнение» Com-paraison), «отношение», «исковерканная метафора» и «катастрофическая миниатюризация» [Melas 2007: xiii].
[Закрыть]. Этот список ни в коем случае не полон. Действительно, ученые, занимающиеся XVIII–XIX веками, уже сформировали диапазон понятий, эффективно описывающих вовлеченность России в европейскую литературу и культуру: от «международного обмена в литературе» и «культурного импорта» до «синкретизма», «имперсонации», «диалога» и «дистилляции» [Томашевский 1960:171; Клейн 2005: особ. 319–323; Todd 1986: 2; Greenleaf 1994: 4; Meyer 2008: 10; Golburt 2014: 194]. Предлагаемые мною новые термины должны дополнить уже существующие, подчеркивая разнообразие подходов русских писателей к задаче взаимодействия с европейской литературой при помощи акцента на экономические и эмоциональные образы и сюжетные мотивы.
Моя цель – не выяснить, что такое эмоции или как они формируются, но использовать историю эмоциональных понятий для истолкования литературных текстов. Поэтому я использую такие современные понятия, как эмоция (emotion), аффект (affect) и чувство (feeling), а также прилагательные эмоциональный (emotional) и аффективный (affective), как по большей части взаимозаменяемые. Из отличий, установленных между этими терминами в области исследования аффектов, самым полезным для данной книги является то, что эмоция – это конкретное понятие (страх, стыд и т. д.), а аффект, подобно «структурам чувств» Уильямса, выходит за рамки понятий и слов для их обозначения [Massumi 1995: особ. 89; Gould 2009: 20–22]. Хотя, рассуждая о таких понятиях, как амбиция и корыстолюбие, я в целом отдаю предпочтение понятию «страсть», а не «эмоция», но я склоняюсь к понятию «аффект», когда необходимо подчеркнуть психологические или физические ощущения, смысл которых в полной мере не способна передать устоявшаяся терминология. Неспособность слов и понятий отразить подобные ощущения особенно заметна в изображении русской литературой амбиции, отмеченном напряжением между французским пониманием термина «ambition» и значениями его ближайших русских эквивалентов, «амбиция» и «честолюбие». Для целей моей книги «чувство» ('feeling') – полезный общий термин, отражающий одновременно и психологические, и физические ощущения, которые могут иметь или не иметь подходящее словесное выражение.
Для настоящего исследования большую значимость имеют различия между первичными ключевыми словами для выражения эмоций в XIX веке, а именно «страстью» ('passion) и «сентиментом» ('sentiment'). Под страстью я имею в виду насчитывающую много веков идею сильной и потенциально не поддающейся контролю эмоции, обычно связанной с телом и имеющей долговременную фиксацию. Под сентиментом я понимаю исторически и жанрово маркированное представление XVIII и начала XIX века об эмоциях, культивируемых посредством воспитания, частично состоящих из саморефлексивных суждений и часто обретающих форму сочувствия к чужому несчастью. Что же касается русского слова чувство, которое, в дополнение к значению «сентимент», полученному в эпоху сентиментализма, могло также иметь и более общее значение, я буду придерживаться именно его, если контекст не подразумевает иного.
Взяв в качестве основного предмета исследований экономический и эмоциональный лексикон русской литературы начала XIX столетия, эта книга старается передать энергию, с которой писатели брали на вооружение самый разнообразный спектр складывающихся в то время европейских и российских теорий относительно природы и происхождения эмоций и их роли в экономической жизни. Возможно, наиболее поразительно то, что произведения, посвященные амбиции, стяжательству, щедрости и скупости, наиболее ярко отражают понимание экономики и эмоций, которые коренятся в идее телесности. Это понимание впоследствии было утеряно и только недавно стало возрождаться в научной среде[18]18
См., например, [Gallagher 2008; Williams 2002; Riskin 2002; Sobol 2009].
[Закрыть]. Импульсом к этому возрождению стал явный всплеск интереса к эмоциям, в частности, к науке и культуре чувствительности XVIII века[19]19
Эта волна научных работ о культуре чувствительности побудила И. Ю. Виницкого заявить, что мы ныне живем в эпоху неосентиментализма [Виницкий 2012: 448]. См. также его работу о В. А. Жуковском [Vinitsky 2015].
[Закрыть]. Таким образом, эмоциональный поворот в науке, наряду с недавним бумом экономической критики, позволяет обнаружить в основополагающих произведениях русской литературы экономику чувств.
Глава 1
Безумная амбиция
Пример заразителен.
Ж.-Л. Алибер. Физиология страстей
Амбиция[20]20
См. примеч. 3 во Введении относительно перевода слова ambition.
[Закрыть] обладает огромным повествовательным потенциалом. Ведя свое происхождение от латинского ambire — ‘обходить, окружать’, в более специфическом смысле – ‘добиваться голосов избирателей’, – оно выносит вперед идею движения сквозь время и пространство. Основополагающие произведения русской прозы XIX века используют этот динамизм только для того, чтобы обуздать его. В «Пиковой даме» Пушкина молодой офицер ищет удачи при помощи карточной игры и сверхъестественного. В «Записках сумасшедшего» Гоголя и «Двойнике» Достоевского чиновники среднего возраста жаждут продвижения по службе. И в каждом случае герой не только не добивается желаемого: в конечном счете он оказывается изгнан из общества и препровожден в сумасшедший дом. Эти истории о безумной амбиции отражают эволюцию культурного понимания стремления к восходящей социальной мобильности, являя собой пример межнационального литературного заимствования, столь способствовавшего процветанию русской прозы в XIX веке. Пушкин, Гоголь и Достоевский проверяют нарративные пути, открытые амбиции в России после восстания декабристов, реагируя тем самым на возрастание внимания к этой страсти в постнаполеоновской Европе.
В русских сюжетах о социальных стремлениях эпохи Николая I прежде всего поражает неуловимость значений слов честолюбие и амбиция как ближайших эквивалентов английского ambition и французского ambition (см. Приложение). На рубеже XVIII–XIX веков эти русские слова приобретали новые оттенки значения под давлением меняющихся социальных и культурных норм в России и за границей. Особенно глубокое воздействие на изображение амбиции в русской литературе оказали политические потрясения и развитие литературы Франции. Сравнивая словарные определения понятий «честолюбие» и «амбиция» и ambition, а также рассматривая их употребление в различных жанрах – от коротких рассказов и повестей до психиатрической литературы и церковных проповедей, – я начинаю эту главу сравнительной историей понятия «амбиция» и ambition в России и Франции. Затем я прослежу распространение в России конца XVIII – начала XIX века «заразных» французских медицинских и литературных дискурсов об амбиции. Именно в тот период русское и французское понимание стремления к продвижению по социальной лестнице вошли в теснейшее соприкосновение, породив целый ряд сознательно межнациональных нарративов об амбиции, которые способствовали развитию русской прозаической традиции. Акцентируя внимание на переносе французского дискурса о безумной амбиции на почву российской периодики после восстания декабристов и на случаях психических расстройств в повествованиях о честолюбивых чиновниках, я останавливаюсь на «Трех листках из дома сумасшедших, или Психическом исцелении неизлечимой болезни (Первое извлечение из Записок старого врача)» Булгарина, «Записках сумасшедшего» Гоголя и «Двойнике» Достоевского. Основная задача данной главы – объяснить особенности повествовательных тональностей, которые фиксируют диссонанс между различными социальными подходами к амбиции в произведениях Гоголя и Достоевского.









































