Читать книгу "Цвет жизни"
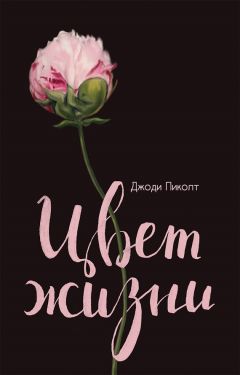
Автор книги: Джоди Пиколт
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Хорошо, что Эдисон поделился этим бременем со мной; хорошо, что можно на время отвлечься на чужие трудности. Вот чем расстраивает меня больше всего происшествие в больнице: я считаюсь человеком, который всегда находит выход. Я не проблема. Я никогда не доставляю неприятностей.
– Ничего, помиритесь. Я уверена, – говорю я Эдисону, похлопывая его по руке. – Вы же как братья.
Он поворачивается на бок и натягивает на голову подушку.
– Эй, – говорю я. – Эй! – Я стягиваю подушку и замечаю на его виске полоску, оставленную слезой. – Сынок, – шепчу я, – что случилось?
– Я сказал ему, что хочу пойти с Уитни на осенний бал.
– Уитни… – повторяю я, пытаясь вычленить из клубка друзей Эдисона девочку с таким именем.
– Сестра Брайса, – уточняет он.
В памяти мелькает образ девушки со светлыми рыжеватыми волосами, которую я видела несколько лет назад, когда забирала Эдисона из песочницы.
– Толстенькая и с брекетами?
– Да. Брекетов она уже не носит. И она не толстенькая. Она, она… – Взгляд Эдисона смягчается, и я представляю себе, что сейчас видит сын.
– Можешь не заканчивать, – говорю я быстро.
– Ну, она потрясная! Она сейчас на втором курсе. Ну, то есть я-то ее давным-давно знаю, но в последнее время, когда я смотрю на нее, это не просто сестра Брайса, понимаешь? Я целый план разработал. После каждого урока кто-нибудь из моих друзей должен был встречать ее возле класса с табличкой. Таблички каждый раз должны были быть разные. Первая «ХОЧЕШЬ». Вторая «ПОЙТИ». Потом «НА», «БАЛ», «СО». А в конце, после уроков, я сам должен был ждать ее с табличкой «МНОЙ», чтобы она наконец поняла, кто приглашает.
– Так в этом все дело? – прерываю его я. – Ты не можешь просто пригласить девушку на танцы… Тебе для этого нужно устроить целое бродвейское представление?
– Что? Мам, дело не в этом. Дело в том, что я попросил Брайса подержать табличку «БАЛ», а он отказался.
Я вздыхаю.
– Что ж, – говорю я, тщательно подбирая слова. – Понимаешь, юноше трудно видеть свою сестру чьей-то потенциальной девушкой, и неважно, насколько крепко он дружит с тем, кто хочет с ней встречаться.
Эдисон закатывает глаза:
– Да это совсем не то!
– Может быть, Брайсу просто нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Может, он удивился, что ты думаешь о его сестре в таком плане. Вы же как одна семья.
– Вот только дело в том… что мы не семья. – Сын садится, его длинные ноги свешиваются с края кровати. – Брайс посмеялся надо мной. Он сказал: «Чувак, одно дело нам с тобой тусить. Но ты с Уит… Мои родители будут срать кирпичами». – Его взгляд ускользает в сторону. – Извини, это он так сказал.
– Ничего, милый, – сказала я. – Продолжай.
– Ну я и спросил у него почему. Мне это показалось бессмысленным. Я же с его семьей даже в Грецию ездил. А он сказал: «Не обижайтесь, но предки не будут прыгать от счастья, если моя сестра начнет встречаться с Черным парнем». Как будто это нормально, когда Черный друг с твоей семьей ездит на отдых, но Боже упаси, чтобы у этого друга завязались отношения с твоей дочерью.
Я так старалась, чтобы Эдисон никогда не почувствовал этой разделительной черты, что не подумала о том, что, когда это все же случится, – а это, наверное, неизбежно, – ему будет еще больнее, потому что он окажется не готовым.
Я беру руку сына и сжимаю ее.
– Вы с Уитни будете не первой парой, которая оказалась на противоположных сторонах горы, – говорю я. – Ромео и Джульетта, Анна Каренина и Вронский, Мария и Тони, Джек и Роуз.[3]3
Мария и Тони – главные герои мюзикла «Вестсайдская история». Джек и Роуз – главные герои фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».
[Закрыть]
Эдисон смотрит на меня в ужасе.
– Ты хоть понимаешь, что в каждом твоем примере по крайней мере один из них умирает?
– Я пытаюсь сказать тебе другое: когда Уитни увидит, какой ты особенный, она сама захочет быть с тобой. А если нет, то за нее не стоит и бороться.
Я обнимаю его за плечи; Эдисон наклоняется ко мне.
– Все равно фигово.
– Следи за языком, – автоматически говорю я. – И да, я тебя понимаю.
Не в первый раз мне хочется, чтобы Уэсли был сейчас жив. Хочется, чтобы он не остался служить на второй срок и не вернулся в Афганистан; хочется, чтобы он не был за рулем в колонне, когда взорвалось СВУ; хочется, чтобы он знал Эдисона не только маленьким мальчиком, но и подростком, а теперь и юношей. Мне хочется, чтобы он был сейчас рядом с сыном и объяснил ему: то, что какая-то девушка заставляет твою кровь кипеть, будет происходить еще не раз.
Мне хочется, чтобы он был здесь, и все. Точка.
«Если бы ты только увидел, что мы с тобой сделали, – думаю я. – Он – лучшее, что было в нас обоих».
– А куда подевался Томми? – вдруг спрашиваю я.
– Томми Фиппс? – Эдисон хмурится. – Кажется, его посадили за то, что он толкал героин в школьном дворе. Сейчас Томми в колонии для несовершеннолетних.
– Помнишь, как в детском саду этот маленький преступник сказал, что ты похож на подгоревший тост?
Рот Эдисона медленно растянулся в улыбку.
– Да.
Это был первый раз, когда ребенок сказал Эдисону, что он отличался от остальных… Причем сделал это таким образом, чтобы отличие это выглядело чем-то нехорошим. Подгоревший. Сожженный. Испорченный.
Не знаю, замечал ли Эдисон свое отличие от других до этого, но именно после того случая я впервые завела с сыном разговор о цвете кожи.
– Помнишь, что я тебе сказала?
– Что моя кожа коричневая, потому что у меня больше меланина, чем у любого в школе.
– Правильно. Все знают, что лучше иметь чего-то больше, чем меньше. К тому же меланин защищает твою кожу от солнечного излучения и улучшает зрение, поэтому Томми Фиппс всегда будет от тебя отставать. Так что на самом деле тебе повезло.
Медленно, как вода на раскаленном тротуаре, улыбка испаряется с лица Эдисона.
– Сейчас я не чувствую, что мне так уж повезло, – говорит он.
В детстве мы со старшей сестрой совершенно не были похожи. У Рейчел кожа была цвета свежезаваренного кофе, как у мамы. А я… Меня налили из того же кофейника, но добавили столько молока, что вкус кофе почти не чувствовался.
Наличие более светлой кожи давало мне привилегии, которых я не понимала, привилегии, которые доводили Рейчел до бешенства. Кассиры в банках давали мне леденцы и только потом додумывались, что можно угостить и мою сестру. Учителя говорили обо мне: «Та сестра Брукс, которая симпатичная… Хорошая сестра Брукс…» Когда делали общие фотографии, меня ставили в первый ряд, а Рейчел прятали в задних.
Рейчел сказала мне, что моим настоящим отцом был белый. Что я на самом деле не член нашей семьи. В один прекрасный день мы с Рейчел сцепились из-за этого, начали кричать друг на друга, и я сказала что-то в том смысле, что уйду жить к настоящему папе. Вечером мама усадила меня рядом с собой и показала фотографии моего отца, который был и отцом Рейчел, – мужчина со светло-коричневой кожей, как у меня, держал меня, новорожденную, на руках. На фотографии стояла дата: за год до того, как он оставил нас троих.
Рейчел и я росли абсолютно разными. У меня рост небольшой, а она высокая, с царственной осанкой. Я была прилежной ученицей; а она, будучи от природы наделенной более острым умом, ненавидела учебу. После двадцати она решила «вернуться к этническим корням» (это ее выражение): сменила имя на Адиса и стала носить волосы в их естественном кучерявом состоянии. Хотя много этнических имен происходят из суахили, Адиса – слово из языка йоруба, на котором разговаривают в Западной Африке, где, скажет она вам, «жили наши предки до того, как их привезли сюда рабами». Это имя означает «Та, которая чиста». Видите, даже ее имя осуждает нас за то, что мы не знаем истин, известных ей.
Теперь Адиса живет рядом с железной дорогой в Нью– Хейвене – районе, где средь бела дня торгуют наркотиками, а молодые люди по ночам стреляют друг в друга. У нее пятеро детей, их отец и она работают за минимальную зарплату и с трудом сводят концы с концами. Я люблю сестру больше жизни, но мне трудно понять, почему она делает тот или иной выбор, – точно так же, как ей трудно понять меня.
Я уже давно спрашиваю себя: неужели мое желание стать медсестрой, мое стремление достичь большего для себя, для Эдисона, неужели все это появилось во мне из-за того, что среди двух Черных сестер у меня было преимущество? Неужели Рейчел превратила себя в Адису потому, что этот внутренний огонь нужен ей, чтобы верить, будто у нее еще есть шанс догнать меня?
В пятницу, в мой выходной, я встречаюсь с Адисой в маникюрном салоне. Мы сидим бок о бок, руки под УФ-сушилками. Адиса смотрит на бутылочку лака для ногтей «OPI», который я выбрала, и качает головой.
– Поверить не могу, что ты выбрала лак с названием «Прыжки во фреш-баре», – говорит она. – Это же самый белый цвет, какой можно придумать.
– Вообще-то он оранжевый, – указываю я.
– Я имела в виду название, Рут, название. Ты когда-нибудь видела черного во фреш-баре? Нет. Потому что никто не ходит в бар пить сок. Точно так же никто не просит текилу в детских стаканчиках.
Я закатываю глаза:
– Ты это серьезно? Я только что рассказала тебе, что меня отстранили от работы с пациенткой, а тебе хочется поговорить о том, какого цвета лак для ногтей я выбрала?
– Я говорю о том, какой цвет ты выбрала для жизни, девочка, – говорит Адиса. – То, что случилось с тобой, случается с нами каждый день. Каждый час. Ты просто так привыкла играть по их правилам, что забыла, что у тебя темная кожа. – Она усмехается. – Ну, может, светлее, чем у остальных, но все же.
– Ты это к чему?
Она пожимает плечами.
– Когда последний раз ты кому-нибудь рассказывала, что твоя мама до сих пор работает домашней прислугой?
– Она сейчас почти не работает. Ты знаешь об этом. По большому счету, Мина ей просто так деньгами помогает.
– Ты не ответила на мой вопрос.
Я хмурюсь.
– Не знаю, когда я последний раз упоминала об этом. Можно подумать, ты любой разговор с этого начинаешь. К тому же не имеет значения, какого цвета у меня кожа. Я хорошо справляюсь со своей работой. Я не заслужила, чтобы меня отстраняли от дела.
– А я не заслужила того, чтобы жить в Черч-стрит-саут, но одних моих желаний не хватит, чтобы изменить двести лет истории.
Моей сестре нравится изображать жертву. У нас не раз возникали довольно ожесточенные споры по этому поводу. Если ты не хочешь, чтобы на тебя смотрели как на стереотип, то не будь им. Я это так понимаю. Но для моей сестры это означает играть по правилам белых и быть тем, кем они хотят ее видеть, а не оставаться собой безо всяких компромиссов. Адиса произносит слово «ассимиляции» с таким ядом, что создается впечатление, будто любой, кто на нее соглашается, идет на верное самоубийство.
Еще очень в духе моей сестры возмущаться из-за каких-то моих проблем.
– В том, что случилось в больнице, твоей вины нет, – говорит сестра, чем удивляет меня. Я-то думала, она сейчас скажет, что я сама накликала неприятности, когда притворялась тем, кем не являюсь, и за время этого притворства успела позабыть, кто я есть на самом деле.
– Это их мир, Рут. Мы просто живем в нем. Представь себе, что ты переехала в Японию. Ты можешь не соблюдать их традиции и не учить язык, но, если ты это сделаешь, тебе будет намного проще, верно? То же самое здесь. Каждый раз, включая телевизор или радио, ты видишь и слышишь о белых людях – как они ходят в школы и колледжи, обедают, женятся, пьют пино нуар. Ты знаешь, как они живут, и достаточно хорошо говоришь на их языке, чтобы слиться с ними. Но сколько ты знаешь белых, которые мечтают посмотреть фильмы Тайлера Перри, чтобы знать, как вести себя с черными?
– Не в этом дело…
– Нет, дело в том, что ты можешь перенять все их привычки и обычаи, но это не означает, что они сделают тебя святой.
– Белые люди не правят миром, Адиса, – возражаю я. – Есть множество успешных цветных. – Я называю первые три имени, которые приходят в голову: – Колин Пауэлл, Кори Букер, Бейонсе…
– …и все они светлее, чем я, – заканчивает за меня Адиса. – Знаешь, что они говорят: чем глубже в трущобы, тем темнее кожа.
– Кларенс Томас, – вспоминаю я. – Он темнее тебя, и он судья в Верховном суде.
Сестра смеется:
– Рут, он такой консерватор, что у него, наверное, даже кровь белая.
Звонит мой телефон, и я осторожно, чтобы не смазать лак на ногтях, достаю его из сумочки.
– Эдисон? – тут же спрашивает Адиса. Что бы я о ней ни говорила, моего сына она любит не меньше, чем я.
– Нет, это Люсиль, с работы.
От одного вида ее имени на экране телефона у меня пересыхает во рту. Она дежурила, когда рожала Бриттани Бауэр. Но, оказывается, ее звонок никак не связан с этой семьей. У Люсиль разболелся живот, и нужно, чтобы сегодня ее кто-то подменил. За это она согласна подменить меня в субботу, чтобы я могла уйти в одиннадцать. Для меня это означает, что придется отработать вторую смену, но я уже думаю, как можно будет распорядиться освободившимся временем в субботу. Эдисону в этом году пора покупать новую зимнюю куртку – могу поклясться, за лето он вытянулся дюйма на четыре, не меньше. А после похода в магазин можно было бы приготовить ему хороший обед. Может быть, мы могли бы даже сходить с Эдисоном на какой-нибудь фильм. Меня в последнее время терзает мысль, что, когда сын поступит в колледж, я останусь одна.
– Они хотят, чтобы я сегодня вышла на работу.
– Кто они? Нацисты?
– Нет, другая медсестра, которая заболела.
– Еще одна белая медсестра, – уточняет Адиса.
На это я даже не отвечаю.
Адиса откидывается на спинку стула.
– Мне кажется, они не в том положении, чтобы просить тебя об одолжении.
Я уже готова начать защищать Люсиль, которая не имеет никакого отношения к решению запретить мне заниматься Дэвисом, когда нас прерывает маникюрша. Проверив наши пальцы и убедившись, что лак высох, она говорит:
– Все хорошо. Готово.
Адиса помахивает пальцами с ногтями ядовито-розового цвета.
– И зачем только мы сюда ходим? Ненавижу этот салон, – вполголоса говорит она. – Они не смотрят в глаза и не кладут сдачу в руку. Как будто боятся запачкаться от меня черным.
– Они корейцы, – замечаю я. – Тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, в их культуре это не считается вежливым?
Адиса вскидывает бровь:
– Хорошо, Рут. Продолжай убеждать себя, что дело не в тебе.
Не прошло и десяти минут моей внеплановой смены, а я уже жалею, что согласилась. За окном гремит гроза, не предсказанная синоптиками, а барометрическое давление скачет, и это означает ранние разрывы мембран, преждевременные роды у женщин и пациентки, корчащиеся в коридорах из-за того, что у нас просто не хватает мест. Я мечусь как угорелая по палатам, что, в принципе, хорошо, потому что это не дает мне думать о Терке и Бриттани Бауэр и об их ребенке.
Но не настолько, чтобы я, заступая на смену, не проверила медицинскую карточку ребенка. Себе я говорю: просто нужно убедиться, что кто-нибудь из персонала – кто-нибудь белый – не забыл записать ребенка к детскому кардиологу. Да, это внесено в расписание наряду с записью о том, что Корин в пятницу днем взяла на анализ кровь из пятки новорожденного. Но потом кто-то зовет меня, и я оказываюсь втянутой в орбиту рожающей женщины, которую к нам привезли на каталке из неотложки. Ее партнер выглядит испуганным. Этот мужчина явно привык считать, что в состоянии решить любые вопросы, но вдруг осознал, что есть нечто, ему неподвластное.
– Меня зовут Рут, – говорю я женщине, которая как будто сжимается и уменьшается в размерах с каждой схваткой. – Я буду здесь с вами все время.
Ее зовут Элиза, и схватки у нее, по словам ее мужа, Джорджа, происходят раз в четыре минуты. Это их первая беременность. Я устраиваю пациентку в последний свободный родильный зал и беру образец мочи на анализ, потом подключаю ее к монитору и просматриваю распечатку с надгробиями. Взяв результаты анализов, начинаю задавать вопросы: «Насколько сильны схватки? Где вы их чувствуете, спереди или со спины? Вытекают ли из вас какие-либо жидкости? Кровотечение есть? Как двигается ребенок?»
– Если вы готовы, Элиза, – говорю я, – сейчас я проверю шейку матки.
Я натягиваю перчатки, перемещаюсь к изножью кровати и прикасаюсь к ее колену.
На ее лице мелькает выражение, которое заставляет меня остановиться.
Большинство рожениц готовы на все, чтобы извлечь из себя ребенка. Да, есть страх перед родовыми муками, но он отличается от боязни прикосновения. А именно это я вижу на лице Элизы.
Дюжина вопросов примчалась на кончик моего языка. Элиза переоделась в туалете с помощью мужа, поэтому я не знаю, есть ли на ее теле синяки, последствия семейного насилия. Я смотрю на Джорджа. Он выглядит как обычный мужчина, который с минуты на минуту должен стать отцом, – нервничает, не находит себе места, – в общем, ведет себя совсем не как парень, склонный к неуправляемым вспышкам гнева.
Впрочем, Терк Бауэр тоже казался мне совершенно нормальным, пока не засучил рукава.
Я трясу головой, чтобы отделаться от этих мыслей, и поворачиваюсь к Джорджу, приклеивая к лицу улыбку.
– Не могли бы вы сходить в мини-кухню и принести Элизе ледяных кубиков? – спрашиваю я. – Вы бы нам очень помогли.
Неважно, что это работа медсестры, – для Джорджа явно стало громадным облегчением, что ему поручили какое-то занятие. Как только он выходит, я поворачиваюсь к Элизе.
– Все в порядке? – спрашиваю, глядя ей в глаза. – Вы ничего не хотите сказать, чего не могли сказать при Джордже?
Она качает головой, а потом вдруг заливается слезами.
Я снимаю перчатки – осмотр шейки может подождать – и прикасаюсь к ее руке.
– Элиза, можете поговорить со мной.
– Я забеременела из-за того, что меня изнасиловали, – всхлипывает она. – Джордж даже не знает, что это случилось. Он так радуется этому ребенку… Я не могла сказать, что ребенок не от него.
История рассказывается шепотом, посреди ночи, когда Элиза остановилась на семи сантиметрах раскрытия, а Джордж пошел за льдом. Роды сближают и скрепляют людей узами психологической травмы, это катализатор, который укрепляет отношения. И поэтому, пусть даже я абсолютно чужой человек для Элизы, она изливает мне душу, тянется ко мне, как будто она упала за борт, а я – единственный клочок земли на горизонте. Она была в командировке, праздновала заключение сделки с важным клиентом. Клиент пригласил ее и еще нескольких человек на обед и купил ей выпивку, а следующее, что помнит Элиза: она проснулась в его гостиничном номере, чувствуя себя разбитой и обессиленной.
Когда она заканчивает, мы обе садимся, обдумывая ее слова.
– Я не смогла рассказать Джорджу, – говорит Элиза, и ее руки сжимаются на шероховатых больничных простынях. – Он пошел бы к моему начальнику, и, поверьте, они не стали бы терять эту сделку только из-за того, что случилось со мной. В лучшем случае они назначили бы мне пособие, чтобы я держала рот на замке.
– Значит, никто об этом не знает?
– Вы знаете, – говорит Элиза, глядя на меня. – Что, если я не смогу полюбить ребенка? Что, если каждый раз, глядя на дочку, я буду вспоминать, что со мной случилось?
– Может быть, стоит провести анализ ДНК? – предлагаю я.
– Что это даст?
– Ну, – говорю я, – по крайней мере, вы будете знать точно.
Она качает головой:
– И что потом?
Это хороший вопрос. Вопрос, который трогает меня до глубины души. Что лучше: не знать жестокую правду или делать вид, что ее не существует? Или противостоять ей в открытую, пусть даже это знание грозит обернуться бременем, которое ты будешь нести всю жизнь?
Я собираюсь высказать свое мнение, когда у Элизы начинается новая схватка. Неожиданно мы снова оказываемся в одном окопе и боремся за жизнь.
Так продолжается три часа, а потом Элиза выталкивает в этот мир дочь. Она начинает плакать, это случается со многими новоиспеченными мамочками, но я знаю, что у нее для слез другая причина. Акушер передает новорожденную мне, и я всматриваюсь в сердитый океан детских глаз. Неважно, как она была зачата. Важно, что она наконец здесь.
– Элиза, – говорю я, устраивая ребенка у нее на груди, – вот ваша дочь.
Джордж тянется через плечо жены, чтобы погладить кривенькую ножку новорожденной, но Элиза отказывается смотреть на ребенка. Я поднимаю ребенка выше, подношу поближе к лицу Элизы.
– Элиза, – говорю я тверже, – ваша дочь.
Она с трудом переводит взгляд на ребенка в моих руках. И видит то же, что вижу я: голубые глаза ее мужа. Такой же нос. Ямочка, в точности повторяющая ямку на его подбородке. Этот ребенок мог бы быть крошечным клоном Джорджа.
Напряжение разом спадает с Элизы. Ее руки смыкаются на дочери, она прижимает ее к себе так сильно, что не остается места ни для каких «а что, если…».
– Здравствуй, доченька, – шепчет она.
Эта семья создаст собственный мир и будет жить в нем.
Хотелось бы мне, чтобы для всех нас это было так же просто.
К девяти часам следующего утра мне начинает казаться, что в нашу больницу съехался рожать весь Нью-Хейвен. Я беспрестанно хлещу кофе, бегаю между тремя уже родившими пациентками и горячо молюсь, чтобы до конца моей смены еще какой-нибудь из женщин не вздумалось начать рожать. Вдобавок к родам Элизы, вчера вечером у меня были еще две пациентки: третьебеременная третьеродящая (которая, по правде говоря, могла бы родить и самостоятельно, без посторонней помощи, что почти и произошло) и женщина, у которой была четвертая беременность, но первые роды – ей пришлось делать экстренное кесарево сечение. Ее ребенок, двадцатисеминедельный, сейчас в отделении интенсивной терапии для новорожденных.
Когда Корин выходит на дежурство в семь часов, я нахожусь в операционной, где делается кесарево сечение, поэтому мы с ней пересекаемся только в 9:00 утра в отделении новорожденных.
– Я слышала, ты вторую смену работаешь, – говорит она, вкатывая в комнату детскую коляску. – Что ты здесь делаешь?
Раньше в этом отделении держали новорожденных, пока матери отсыпались, после чего переводили их в материнские палаты на круглосуточное содержание. Сейчас же оно используется в основном для хранения оборудования и для проведения рутинных процедур, таких как обрезание, наблюдать за которым никто из родителей не хочет.
– Прячусь, – отвечаю я Корин и, достав из кармана батончик гранолы, съедаю его в два укуса.
Она смеется:
– Что, черт возьми, происходит сегодня? Я что, пропустила объявление о начале конца света?
– Кто знает, кто знает. – Я смотрю на ребенка и чувствую, как по мне проходит дрожь. На карточке, прикрепленной к коляске, написано: «МАЛЬЧИК БАУЭР». Я невольно делаю шаг назад.
– Как он? – спрашиваю я. – Ест уже лучше?
– Сахар поднялся, но еще слабенький, – отвечает Корин. – Он не ел уже два часа, потому что Аткинс собирается делать обрезание.
Дверь открывается, и в комнату входит доктор Аткинс. Легка на помине.
– Точно по графику, – говорит она, глядя на коляску. – Так, анестезия уже подействовала, с родителями я поговорила. Рут, вы дали ребенку сладкое?
«Сладкое» – это несколько капель подслащенной сахаром воды, которые втирают в десны младенцев, чтобы отвлечь от неприятных ощущений. Я бы дала ребенку сладкое, если бы была его няней.
– Я за этого пациента больше не отвечаю, – сухо роняю я.
Доктор Аткинс вскидывает брови и открывает карточку пациента. Я вижу розовый самоклеящийся листочек, и, когда она читает его, неловкое молчание начинает разбухать, всасывая в себя весь воздух в комнате.
Корин откашливается:
– Я дала ему сладкое около пяти минут назад.
– Отлично, – говорит доктор Аткинс. – Тогда давайте начнем.
Я стою минуту, наблюдая, как Корин разворачивает ребенка и готовит к этой рутинной процедуре. Доктор Аткинс поворачивается ко мне. В ее глазах сочувствие, а его мне хочется видеть меньше всего. Я не хочу, чтобы меня жалели только из-за глупого решения Мэри. Я не хочу, чтобы меня жалели из-за цвета моей кожи.
Поэтому превращаю все в шутку:
– Может, раз уж вы этим занялись, заодно стерилизуете его?
Мало есть вещей более страшных, чем экстренное кесарево сечение. Воздух электризуется, как только врач сообщает о необходимости этой операции, и разговор становится деловым и жизненно важным: «Я беру капельницу, вы подготовите стол? Кто-нибудь, захватите бокс и внесите случай в журнал». Вы говорите пациентке, что возникли непредвиденные осложнения и что нужно действовать срочно. Больничный оператор отправляет сообщение медикам, которые находятся не на рабочем месте, пока вы с дежурной медсестрой отвозите пациентку в операционную. В то время как дежурная медсестра достает инструменты из стерильных бумажных пакетов и включает анестезиологическое оборудование, вы перекладываете пациентку на стол, готовите живот, поднимаете и раскладываете хирургические простыни. Как только стремительно входят врач и анестезиолог, делается разрез и достается ребенок. На все про все уходит меньше двадцати минут. В крупных больницах, таких как Йель-Нью-Хейвен, могут уложиться и в семь.
Через двадцать минут после того, как Дэвису Бауэру сделано обрезание, у другой пациентки Корин отходят воды. Между ног у нее разматывается петля пуповины, и Корин срочно вызывают туда.
– Проверь за меня ребенка, – говорит она и бросается в женское отделение.
Через мгновение я вижу Мэри, которая на пару с санитаром вкатывает каталку в лифт. Корин скрючилась на каталке между ног пациентки, ее руки в перчатках скрыты тенью, она пытается удержать пуповину внутри.
«Проверь за меня ребенка». Она имеет в виду, чтобы я понаблюдала за Дэвисом Бауэром. Согласно протоколу, ребенка, которому провели обрезание, необходимо регулярно проверять на кровотечение. Теперь, когда и Мэри, и Корин заняты экстренным кесаревым сечением, заняться этим некому – в самом прямом смысле этого слова.
Я вхожу в отделение для новорожденных, где Дэвис отсыпается после утренней травмы.
Минут двадцать, и Корин вернется, успокаиваю я себя, или Мэри меня сменит.
Складываю на груди руки и смотрю на новорожденного. Дети – они как чистый лист. Они не приходят в этот мир, наделенными взглядами родителей, или надеждами, которые дает церковь, или способностью делить людей на группы – те, которые им нравятся, и те, которые не нравятся. Приходя в этот мир, они не имеют ничего, кроме потребности в комфорте. И они примут его от кого угодно, не оценивая дающего.
Интересно, как быстро глянец, данный природой, стирается воспитанием?
Когда я снова опускаю взгляд в коляску, Дэвис Бауэр не дышит.
Я наклоняюсь ближе, уверенная, что просто не заметила подъема и опускания его крошечной груди. Но с этого угла мне становится видно, что его кожа приобрела синеватый оттенок.
Я тут же берусь за него, прижимаю стетоскоп к его сердцу, хлопаю его по пяткам, разворачиваю пеленку. У многих детей случаются приступы апноэ во сне, но если их пошевелить, повернуть со спины на живот, дыхание возобновляется автоматически.
Потом мысли догоняют руки: «Афроамериканским сотрудникам с этим пациентом не работать».
Взглянув через плечо на дверь, я наклоняюсь так, чтобы любой вошедший видел только мою спину. Они не увидят, чем я занимаюсь.
Стимулирование ребенка приравнивается к его реанимации? Можно ли назвать прикосновение к ребенку «работой» с ним?
Могу ли я потерять работу из-за этого?
Нужно ли мне вдаваться в такие тонкости?
Нужно ли вообще, чтобы этот ребенок снова начал дышать?
Поток мыслей стремительно перерастает в ураган: наверняка это остановка дыхания, у новорожденных не отказывает сердце. Ребенок может не дышать в течение трех-четырех минут, при этом имея частоту сердечных сокращений 100, потому что для него нормальная частота 150… а это означает, что даже если кровь не доходит до мозга, она распространяется по телу, и как только ребенок получит кислород, частота увеличится. Следовательно, искусственное дыхание для младенца важнее массажа грудной клетки. В случае с взрослым пациентом – наоборот.
Но даже когда я отбрасываю сомнения и пробую все, кроме медицинского вмешательства, он не начинает дышать. В другой раз я бы взяла пульсоксиметр, чтобы проверить содержание кислорода в крови и частоту сердечных сокращений. Я бы нашла кислородную маску. Я бы позвала врача.
Что делать?
И чего мне нельзя делать?
В любую секунду Корин или Мэри могут войти в отделение. Они увидят, что я прикасаюсь к младенцу, и что потом?
Пот стекает у меня по спине, пока я торопливо заворачиваю ребенка в пеленку. Я смотрю на его крохотное тельце. В ушах метрономом беды отдаются удары сердца.
Не знаю, сколько прошло, три минуты или всего тридцать секунд, прежде чем за моей спиной раздается голос Мэри:
– Рут, что ты делаешь?
– Ничего, – отвечаю я, не в силах пошевелиться. – Ничего не делаю.
Она смотрит мне через плечо, видит голубую кожу на щеке ребенка и бросает на меня обжигающий взгляд.
– Дай мешок Амбу! – приказывает Мэри. Она разматывает пеленку, хлопает по миниатюрным пяткам ребенка, поворачивает его.
Делает то же самое, что делала я.
Мэри надевает педиатрическую маску на нос и рот Дэвиса и начинает сжимать мешок, раздувая его легкие.
– Звони по коду…
Я выполняю распоряжение: набираю 1500 на стационарном телефоне.
– Синий код в отделении для новорожденных, – говорю я в трубку и представляю себе команду медиков, которых отрывают от их обычных занятий: анестезиолог, медсестра отделения интенсивной терапии, медсестра, ведущая записи, младшая медицинская сестра с другого этажа. И доктор Аткинс, педиатр, которая видела этого ребенка пару минут назад.
– Начинай массаж, – говорит мне Мэри.
На этот раз я не колеблюсь. Двумя пальцами я давлю на грудь младенца – двести нажатий в минуту. Когда ввозят каталку, я беру свободной рукой провода и прикрепляю электроды к телу ребенка, чтобы можно было видеть результаты моих усилий на кардиомониторе. Вдруг крошечное отделение заполняется людьми; все толкаются, стремясь оказаться поближе к пациенту, который в длину имеет не больше девятнадцати дюймов.
– Я тут пытаюсь интубировать! – кричит анестезиолог медсестре из отделения интенсивной терапии, которая старается найти височную вену.
– А я не могу добраться до локтевой линии, – возражает она.
– Я закончил, – говорит анестезиолог и отступает, чтобы освободить доступ медсестре.
Она тычет иголкой в тело, а я начинаю надавливать пальцами сильнее, чтобы вены – хотя бы одна! – проступили.
Анестезиолог смотрит на монитор.
– Прекратите массаж! – кричит он, и я поднимаю руки, как будто меня поймали за совершением преступления.
Мы все смотрим на экран, частота сердцебиения – 80.
– Массаж ничего не дает, – говорит он, и я сильнее надавливаю на грудную клетку.
Ошибиться здесь очень легко. Под маленьким детским животом нет брюшных мышц, которые защитили бы внутренние органы; достаточно надавить слишком сильно или хоть немного сместиться с центра, и можно разорвать печень младенца.









































