Текст книги "Счастливый человек. История сельского доктора"
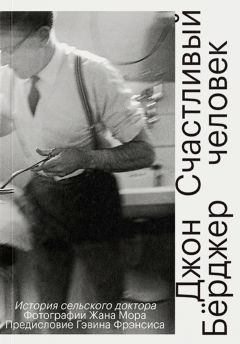
Автор книги: Джон Бёрджер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Ходили слухи, что они в бегах. Что она проститутка из Лондона. Что Совету придется принять меры для выселения их из заброшенного дома, в котором его владелец, фермер, разрешил им временно остановиться (поговаривали, из-за того, что он встречался с этой девушкой в Лондоне), но они поселились там как сквоттеры.
Трое детей играют у задней двери с какой-то проволочной сеткой. Мать на кухне. Это женщина лет двадцати с небольшим, с длинными черными волосами, тонкими руками и серыми глазами, яркими и очень проницательными. Кожа выглядит испачканной, что скорее связано с анемией, а не с грязью.
– Вы не сможете остаться здесь на зиму, – говорит он.
– Джек собирается всё подлатать, когда появится время.
– Небольшой ремонт дому не поможет.
На кухне стол и два стула. Рядом с каменной раковиной коробка из-под апельсинов, в которой лежит несколько чашек, тарелок и пакетов. Половина окна над раковиной разбита и закрыта куском картона. Солнце струится сквозь другую половину, и серая пыль медленно поднимается и опускается сквозь луч света, так медленно, что кажется частью другого, необитаемого мира.
Позже, в гостиной, она садится на кровать и задает вопрос, ради которого и посылала за ним.
– Доктор, могут ли у женщины моего возраста быть проблемы с сердцем?
– Возможно. Болели ли вы ревматизмом в детстве?
– Не думаю. Но у меня одышка. Если я наклоняюсь что-то поднять, я едва могу разогнуться.
– Дайте мне вас послушать. Просто поднимите блузку.
На ней сильно поношенная черная кружевная нижняя юбка. В комнате так же мало мебели, как и на кухне. В одном углу большая кровать с одеялами и еще несколько одеял на полу. Там же стоит комод с часами и транзисторный радиоприемник. Окна увиты густым плющом, а поскольку потолок не оштукатурен и в стропилах зияют дыры, у комнаты нет четкой геометрии, поэтому она больше походит на лесную хижину.
– Мы обследуем вас должным образом, когда вы будете в стационаре, но сейчас могу уверить, что серьезных проблем с сердцем у вас нет.
– О, это такое облегчение.
– Вы не можете продолжать в том же духе. Вы понимаете, не так ли? Давайте вытащим вас отсюда.
– Есть намного более несчастные люди, чем мы, – говорит она.
Доктор смеется, она тоже. Женщина еще достаточно молода, чтобы эмоции полностью меняли ее лицо. На нем появляется удивление.
– Если бы я сделала удачные ставки в футбольном тотализаторе, – произносит она, – купила бы большой дом и организовала приют для детей, хотя говорят, в наши дни из-за таких вещей возникают всевозможные трудности.
– Где вы жили до приезда сюда?
– В Корнуолле. Там, на берегу моря, было чудесно. Смотрите.
Она открывает верхний ящик комода и из-под чулок и детских носков достает фотографию. На ней она запечатлена в туфлях на высоком каблуке, обтягивающей юбке и шифоновом шарфе с мужчиной и маленьким ребенком, прогуливающимися по пляжу.
– Ваш муж?
– Нет, это не Джек, это Клифф со Стивеном.
Доктор удивленно кивает.
– Джек, – продолжила она, – не делает различий между детьми, теми, что его, и теми, что от других мужчин. Мы всё делим поровну, пятьдесят на пятьдесят. Он лучше относится к Стиву, чем его собственный отец. Просто он ко мне не прикасается.
Она смотрит на фото, держа его на расстоянии вытянутой руки.
Врач спрашивает, хотят ли она и муж остаться в этом районе и как они отнесутся к тому, что он попытается поговорить о них в Совете. Она отвечает, не отрывая взгляда от фотографии.
– Вы должны спросить об этом Джека. Мы всё делаем поровну, пятьдесят на пятьдесят.
По-прежнему держа фотографию, она роняет руку на колени и смотрит на доктора, теперь в ее глазах читается гнев.
– Можете сказать, не слишком ли я стара? Джек говорит, что слишком. Я хочу делать это только раз в два-три месяца.
– Это всё из-за усталости и чувства, что вы не справляетесь.
– У меня действительно большой живот. Иногда кажется, что просто нет сил продолжать. Просто хочу остановиться и лежать.
Она встает и кладет фотографию обратно в ящик.
– Вы любите музыку? – спрашивает она и включает радио. Затем, после нескольких тактов, выключает. Стоит, прислонившись к комоду, с совершенно другим выражением лица, как будто включение и выключение радио напомнило ей о чем-то.
– Для меня это просто ничего не значит. Меня это не трогает. Когда он занимается со мной любовью, это ощущается, как мокрая тряпка на лице. Я знаю, что такое настоящая любовь. С отцом Стивена – после рождения нашего сына – это было прекрасно. Мы были вместе, и я отдавалась этому вся. Знаю, что имеют в виду, когда говорят про самую приятную вещь в мире, именно так и было, когда появился Стивен, потому что мой мужчина хотел меня такой, какая я есть. Никогда этого не забуду – до сих пор лежу без сна и думаю: получив Стивена, я получила рай.

– Мы влюбились в это место десять лет назад из-за вида. И должна сказать, что ни разу не разочаровались в нем, даже зимой. Здесь такой покой.
Знаете, прошлой весной, идя по тропинке из деревни, я увидела что-то у ворот. Я повернула за угол у леса и увидела что-то похожее на собаку, но это была не она. Знаете, кто? Барсук. Он просто стоял там между столбами ворот и пялился на меня. Я не знала, что делать. Они опасны? Откуда мне знать. Хью играл в гольф, а я пошла спросить мистера Хорнби, он вернулся со мной, но барсук уже исчез. Это еще не конец истории. Думаю, барсук приходил погостить. Сам себя пригласил. Помните, какой глубокий снег выпал прошлой зимой, не знаю, что бы мы делали без мистера Хорнби, это он расчистил тропинку в лесу, иначе вы просто не смогли бы пройти, мне было по пояс, к тому же стоял сильный холод, просто жуткий, в любом случае я услышала ночью кого-то на крыше, несколько раз будила Хью, но он сказал, что это сползает снег, но я-то знала, что сейчас слишком холодно, понимаете, чтобы снег сползал, а утром пошла посмотреть, и знаете, там были его следы на заснеженной крыше, верите? Полагаю, ему было так холодно там, наверху, что он спустился в темноте немного погреться. Он мог бы прижаться к камину – Хью говорит, что нет, но я уверена, что мог, – и ему было бы хорошо и тепло. Я часто думаю о нем там, наверху, когда сижу у камина. Конечно, это глупо, но вы понимаете, что я имею в виду, говоря, что тут очень мирно, не так ли? Подразумеваю, что в Бирмингеме, где мы жили, когда Хью еще работал, барсуков не водилось… – без остановки болтает она.
Ее звонки обычно касаются его, а не ее самой.
– Я беспокоюсь, доктор, у него болит спина, и думаю, что это может быть смещение межпозвоночного диска. Это случилось на прошлой дождливой неделе, когда он решил вскопать огород впервые за два месяца, и теперь не может привести себя в порядок.
Иногда она говорит более серьезно.
– Он пролежал в постели три дня, и ему трудно дышать. Ночью я просто не могу заснуть, слушая его, и пытаюсь понять, что он говорит, его дыхание звучит как слова, доктор.
Она стоит у двери и ждет.
– Я так рада, что вы пришли. Он разваливается. Лучше позволю вам поговорить с ним самому, потому что мне он не жалуется, не признается, такой забавный, знаете, просто говорит, что все его органы работают. «Какие? – спрашиваю, – что ты имеешь в виду?» Но он просто говорит: «Все органы».
Муж, семидесятитрехлетний мужчина, объясняет, что не может удерживать мочу и у него небольшая боль внизу живота. Врач осматривает грудную клетку и живот. Проводит ректальное исследование, чтобы прощупать предстательную железу и выяснить, нет ли в ней опухоли, которая давит на мочевой пузырь. Проверяет мочу на содержание сахара и белка. С сахаром проблема. Диагностирует легкое воспаление мочевыводящих путей.
Тридцать шесть часов спустя она снова звонит:
– Сейчас он вообще не пьет. Он не может пить. Не выпил ни капли жидкости со вчерашнего завтрака. И у него сонливость. Прямо посреди разговора он отключается – не знаю, что делать. Он не бодрствует, когда я с ним разговариваю, он засыпает, а потом ему опять хочется спать, и он снова засыпает, даже когда я с ним разговариваю.
Доктор улыбается в трубку. Тем не менее, возможно, хотя и маловероятно, сон может быть началом диабетической комы: диабет, проявившийся воспалением мочевыводящих путей. Для уверенности он должен сделать еще один анализ крови на сахар.
У тех ворот, где стоял барсук, он останавливается, смотрит вниз на вид, в который они влюблены, и вспоминает, что она говорила более напряженным, более свистящим голосом, чем обычно: «Всё, что у нас есть, это мы. Поэтому мы должны быть очень внимательными. Мы тщательно присматриваем друг за другом, когда болеем».



На двери здания висит табличка, которая гласит: «Доктор Джон Сассолл, бакалавр медицины и хирургии, обладатель диплома Королевского колледжа акушеров и гинекологов».




Кабинеты для консультаций не похожи на больничные. Они кажутся обжитыми и уютными. Они аккуратнее большинства гостиных и, несмотря на небольшой размер, свободного пространства в них достаточно. Это рабочая зона, где пациента осматривают, лечат и проводят различные манипуляции.
Комнаты напоминают офицерские каюты на корабле. Тот же уют, та же изобретательность в размещении множества вещей в небольшом пространстве, то же странное сочетание домашней мебели и личных вещей с инструментами и бытовой техникой.
Кушетка для осмотра похожа на кровать. На ней две простыни и одеяло с подогревом. Всякий раз, ожидая пациентов, Сассолл включает одеяло за четверть часа до их прихода, чтобы раздетый пациент не замерз. У доктора внимательное отношение к деталям. Он невысокий человек; стул, на котором сидят пациенты, ровно на шесть дюймов ниже его собственного, стоящего у письменного стола. Прежде чем сделать инъекцию, он говорит: «Вы почувствуете прикосновение». Когда его рука опускается, держа шприц, он разжимает мизинец и тыльной стороной ладони сильно ударяет по коже там, куда через долю секунды войдет игла, и это отвлекает больного от самого укола.
Хирургическое отделение необычайно хорошо оборудовано. Здесь имеется всё для стерилизации, инструменты, необходимые для наложения швов на сухожилия, незначительных ампутаций, удаления кист, прижигания шейки матки, наложения и снятия гипса при незначительных переломах. Есть аппарат для анестезии, остеопатический стол, ректороскоп. Он говорит, что расстроен из-за того, что у него нет собственной рентгеновской установки и оборудования для элементарных бактериологических анализов.
Он всегда себе что-то доказывает.
Однажды он вводил мужчине иглу глубоко в грудь: о боли не было и речи, но пациенту стало плохо. Мужчина попытался объяснить: «Вы вводите эту иглу туда, где находится моя жизнь». «Знаю на что это похоже, – сказал Сассолл. – Я не выношу, когда что-то находится рядом с моими глазами, не терплю, когда к ним кто-то прикасается. Думаю, там моя жизнь, прямо в глазах и за ними».

В детстве на Сассолла большое влияние оказали книги Конрада. В противовес скуке и самодовольству жизни среднего класса на берегах Англии Конрад предложил «невообразимое», инструментом которого было море. И в этой предложенной поэзии не было места трусости и изнеженности; напротив, мужчины, которые могли противостоять невообразимому, были жесткими, держащими всё под контролем, неразговорчивыми, а внешне часто заурядными. То, от чего Конрад постоянно предостерегал, является тем, к чему он апеллирует: воображение. Создается впечатление, что море – символ этого противоречия. Море взывает к воображению: но, чтобы встретиться лицом к лицу с невообразимой яростью моря, принять его вызов, необходимо отказаться от воображения, ибо оно ведет к самоизоляции и страху.
То, что разрешает это противоречие и, разрешая его, переводит всю драму на уровень несравненно более высокий и благородный, чем обычная мелочная жизнь в поисках собственного продвижения, – это идеал служения. У идеала двойное значение. Служение олицетворяет все те традиционные ценности, которыми дорожат немногие привилегированные люди, столкнувшиеся с вызовом и справившиеся с ним: дорожат не как абстрактным принципом, а как самим условием эффективного выполнения своего промысла. И в то же время служение означает ответственность, которую эти немногие всегда должны нести за многих, кто от них зависит, – пассажиров, экипаж, торговцев, судовладельцев, брокеров.
Конечно, я упрощаю. И Конрад не был бы тем великим художником, каким является, если бы так излагал свое отношение к морю. Но моего упрощенного взгляда достаточно, чтобы понять, почему Конрад мог понравиться мальчику, бунтовавшему против среднего класса и не интересовавшемуся богемой. Он восхищался физической силой. Ему нравилось быть практичным и уметь работать руками. Его интересовали скорее вещи, чем чувства. Как и многие мальчики его класса и поколения, он был увлечен нравственным идеалом, который мог посрамить оппортунизм старших.
На самом деле к пятнадцати годам он решил стать врачом, а не моряком. Его отец был дантистом, поэтому Сассолл мог общаться с докторами. Уже в четыре года он околачивался возле амбулатории: номинально помогал упаковывать пузырьки с лекарствами, но практически присутствовал на консультациях, проходивших в соседней комнате. Тем не менее врач остался эквивалентом Великого мореплавателя.
Доктор для Сассолла в те времена выглядел так:
«Человек, знающий всё, но выглядящий изможденным. Однажды посреди ночи пришел врач, и я удивился, что он, оказывается, тоже спит – пижамные штаны торчали из-под его брюк. Он отдавал команды и был невозмутим, в то время как вокруг царили возбуждение и суета».
Сравните это с описанием капитана «Нарцисса» у Конрада:
Капитан Аллистоун, серьезный, со старым красным шарфом вокруг шеи, проводил целые дни на юте. Ночью он много раз появлялся в темноте люка, словно привидение над могилой, и останавливался под звездами, настороженный и немой, в развевающейся, точно флаг, ночной рубахе, затем бесшумно исчезал снова. <…> Он, владыка этого крошечного мира, редко спускался с олимпийских высот своего юта. Под ним, так сказать у его ног, – простые смертные влачили свое обремененное заботами незаметное существование [5]5
Пер. В. Азова.
[Закрыть].
В обоих случаях присутствует ощущение авторитета: причем такого, который пижамные брюки или ночная рубашка никоим образом не умаляют. Или вспомните описание Конрадом тяжелого момента в «Тайфуне». Если убрать слово «буря», то оно подходит к описанию болезни, а голос капитана Мак-Вира превращается в голос врача.
И снова он услышал этот голос, напряженный и слабый, но совершенно спокойный в хаосе шумов, словно доносившийся откуда-то из тихого далека, за пределами черных просторов, где бушевала буря; снова он услышал голос человека – хрупкий и неукротимый звук, который может передавать беспредельность мысли, намерений и решений, – звук, который донесет уверенные слова в тот последний день, когда обрушатся небеса и свершится суд, – снова он услышал его; этот голос кричал ему откуда-то издалека: «Хорошо!»
[6]6
Пер. А. Кривцова.
[Закрыть]
Вот из такого материала Сассолл сложил свой идеал ответственности.
Во время войны он служил флотским хирургом. «Это было счастливое время, тогда я делал серьезные операции на Додеканесе. Имел дело с реальными проблемами и в целом добивался успеха». На Родосе он преподавал крестьянам основы медицины. Считал себя спасателем жизни. Достиг мастерства и укрепил способность принимать решения. Он убедился, что те, кто жил просто, те, кто зависел от него, обладали качествами и тайнами жизни, которых ему не хватало. Имея над ними власть, он одновременно служил им.
После войны он женился [7]7
В этом эссе я не пытаюсь обсуждать роль жены Сассолла или его детей. Меня интересует его профессиональная жизнь.
[Закрыть] и выбрал отдаленную сельскую практику при Национальной службе здравоохранения, став младшим помощником старого врача, которого очень любили в округе, но который ненавидел вид крови и верил, что тайна медицины кроется в вере. Это дало молодому человеку возможность продолжать работать спасателем жизни.
Он всегда был перегружен работой и гордится этим. Бо2льшую часть времени Сассолл проводил на вызовах, часто ему приходилось пробираться через поля или идти пешком, неся свои черные коробки с инструментами и лекарствами по лесным тропинкам. Зимой нужно было прокладывать дорогу в снегу. Вместе с инструментами он тащил паяльную лампу для размораживания труб.
Сассолл мало работал в самой больнице. Он представлял собой что-то вроде передвижного стационара, состоящего из одного человека. Проводил операции по удалению аппендикса и грыжи на кухонных столах. Принимал роды в фургонах. Я не солгу, если скажу, что он искал несчастные случаи.
Он не терпел всё, кроме чрезвычайных ситуаций или серьезных болезней. Когда кто-то жаловался, не имея опасных симптомов, он приводил в пример выносливость греческих крестьян и тех, кто находится в «куда более бедственном положении», а следом рекомендовал заниматься спортом и, по возможности, принимать холодные ванны перед завтраком. Он имел дело только с кризисами, в которых был центральным персонажем или, другими словами, в которых пациент упрощался до степени физической зависимости от врача. Он и сам упростился, потому что выбранный им темп жизни делал невозможным и ненужным рефлексию.
С годами он менялся. Ему исполнилось тридцать: в этом возрасте уже нельзя просто быть собой, как в двадцать; чтобы оставаться честным, необходимо противостоять себе и судить с других позиций. Более того, он видел, что пациенты меняются. Чрезвычайные ситуации всегда представляются как свершившиеся факты. Наконец, поскольку он постоянно жил среди одних и тех же людей и его часто вызывали в один и тот же дом несколько раз для различных экстренных случаев, он начал замечать, как развиваются люди. Девушка, которую он три года назад лечил от кори, вышла замуж и приехала к нему на свои первые роды. Человек, никогда не болевший, вышиб себе мозги.
Однажды его вызвала пара пенсионеров преклонного возраста. Они прожили здесь тридцать лет. Никто не мог сказать о них чего-то особенного. Ездили на Ежегодную прогулку стариков. Ходили в паб в восемь вечера каждую субботу. Муж когда-то работал на железной дороге, а жена горничной в большом доме в соседней деревне. Старик сказал, что у его жены «шла кровь снизу».
Сассолл немного поговорил с ней, затем попросил раздеться, чтобы осмотреть. Пошел на кухню подождать, когда она будет готова. Там муж с тревогой посмотрел на него и взял часы с каминной полки, чтобы завести их. В таком возрасте, если один ложится в больницу, это может стать началом конца для обоих.
Когда он вернулся в гостиную, жена лежала на кушетке. Ее чулки были спущены, а платье задрано. «Она» оказалась мужчиной. Сассолл осмотрел «ее». Проблема заключалась в выраженном геморрое. Ни он, ни муж, ни «она» не упоминали половые органы, которых там не должно было быть. Он проигнорировал их наличие. Или, скорее, вынужденно принял этот факт, поскольку пара поступила так по своим причинам, о которых он никогда не узнает.
Он столкнулся с тем, что пациенты меняются. По мере того как они привыкали к нему, они иногда делали признания, для которых не было медицинских показаний. Он начал по-другому смотреть на значение термина «кризис».

Он начал понимать, что то, как Великие мореплаватели Конрада примирялись со своим воображением – отказывая ему в любом проявлении, но проецируя всё на море, с которым они затем сталкивались, как будто оно было одновременно их личным оправданием и их личным врагом, – не подходит для врача в его положении. Он стал относиться к болезням и медицине как к морю. Он понял, что должен встретиться лицом к лицу со своим воображением и исследовать его. Оно больше не должно вести к «невообразимому», как у Великих мореплавателей, размышляющих о ярости стихии, или – как в его случае – к мыслям только о сражениях в пасти самой смерти. (Клише тут необходимая часть картины.)

Он понял, что над воображением нужно работать на всех уровнях: сначала над собственным – потому что в противном случае искажаются наблюдения, – а затем над воображением пациентов.
Старый доктор умер. Сассоллу пришлось проводить больше времени в стационаре. Тогда он решил нанять дополнительного врача и разделить практику. Другой врач взял на себя хирургию. Затем, по-прежнему перегруженный работой, но имея больше времени на обычного пациента, он начал наблюдения за собой и другими.


Сассолл начал читать, особенно много Фрейда. Проанализировал, насколько это возможно сделать самому, черты своего характера и обнаружил их корни в прошлом. Это болезненный процесс, об этом писал и Фрейд, описывая собственный самоанализ. На протяжении полугода, в результате открывшихся ему воспоминаний, Сассолл страдал от эректильной дисфункции. Невозможно сказать, был ли кризис вызван исследованием основ «невообразимого», или он уже находился в кризисе и поэтому внимательнее всматривался в себя. В любом случае это чем-то напоминало изоляцию и кризис, предшествующие в сибирской и африканской медицине профессиональному становлению шамана и иньянги. Зулусы считают, что иньянга страдает от того, что духи не дают ему покоя, и становится «домом грез».
Когда Сассолл прошел это становление, он всё еще оставался максималистом. Сменил юношескую форму максимализма на более сложную и зрелую: отношение к недугу больного как к чрезвычайной ситуации, связанной с жизнью и смертью, сменилось намеком на то, что к пациенту следует относиться как к целостной личности, что болезнь часто является формой самовыражения, а не капитуляцией перед стихийными бедствиями.
Это опасная почва, потому что среди бесчисленных неопределенностей легко потеряться и забыть или пренебречь всеми точными навыками и информацией, которые привели медицину к тому, что появились время и возможность заниматься подобными интуициями. Мошенник – это либо шарлатан, либо целитель, который отказывается соотносить собственные немногочисленные догадки с общим сводом медицинских знаний.
Сассолл наслаждался подобным риском. Безопасный ход размышлений теперь напоминал ему безмятежную жизнь на берегу. «Здравый смысл уже много лет для меня ругательство, за исключением случаев, когда он применяется к легко оцениваемым проблемам. В работе он самый большой враг и искуситель. Меня так и подмывает принять очевидное, простое и легкое решение. Это подводило меня каждый раз, и одному богу известно, как часто я попадался и продолжаю попадаться в ловушки здравого смысла».
Теперь он довольно подробно прочитывает три медицинских журнала в неделю и время от времени проходит курсы повышения квалификации в какой-нибудь больнице. Он следит за тем, чтобы оставаться хорошо информированным. Но удовлетворение он получает в тех случаях, когда сталкивается с силами, которым предыдущий опыт не подходит и которые связаны с историей личности человека. Она одинока, и он пытается составить ей компанию.

Его признают хорошим врачом. Организация практики, предлагаемые им услуги, диагностические и клинические навыки, вероятно, недооцениваются. Его пациенты, возможно, не понимают, насколько им повезло. Но в каком-то смысле это неизбежно. Только самые осознанные считают удачей удовлетворение своих базовых потребностей. И именно на таком элементарном уровне его можно считать просто хорошим врачом.
Они бы сказали, что он прямолинейный, не боится работы, с ним легко разговаривать, он открыт, добр, он понимающий слушатель, всегда готовый высказаться при необходимости, обстоятельный. Также сказали бы, что он угрюм, совершает необычные поступки, шокирует, его трудно понять, когда он говорит о такой важной теме, как секс.
Его отклик на их нужды гораздо сложнее этих впечатлений. Нужно учитывать особый характер и глубину отношений «врач – пациент».
Первобытный знахарь, который был также жрецом, колдуном и судьей, стал первым в племени человеком, освобожденным от обязанности добывать пищу. Величина этой привилегии и власть говорит о его важности. Осведомленность о болезни – это цена, которую человек заплатил тогда и платит до сих пор. Осведомленность усиливает боль. Но это уже социальный феномен, и поэтому вместе с ним возникает лечение, сама медицина [8]8
О философском аспекте ранней медицины см. первые два тома «Истории медицины» Генри Сигериста: Sigerist H. Primitive and Archaic Medicine // History of Medicine. Vol. 1. New York: Oxford University Press, 1951; Sigerist H. Early Greek, Hindu, and Persian Medicine // History of Medicine. Vol. 2. New York: Oxford University Press, 1961.
[Закрыть].
Мы не можем реконструировать субъективное отношение члена племени к лечению. Но каково наше собственное отношение к лечению в сегодняшней культуре? Откуда берется необходимое доверие врачу?
Мы предоставляем доктору доступ к телу. Помимо врача, мы добровольно предоставляем такой доступ только возлюбленным – а многие боятся делать даже это. Хотя доктор – это сравнительно незнакомый человек.
Степень близости, подразумеваемая этими отношениями, подчеркивается стремлением всей медицинской этики (не только нашей) провести четкое различие между ролями врача и любовника. Обычно предполагается, что врач может видеть обнаженных женщин и прикасаться к ним там, где заблагорассудится, и это может вызвать у него сильное искушение заняться с ними любовью. Это оскорбительное допущение неразвитого воображения. Условия, в которых врач, скорее всего, будет осматривать своих пациентов, всегда являются сексуально обескураживающими.
Акцент в медицинской этике на сексуальную корректность делается не столько для того, чтобы ограничить врача, сколько для того, чтобы дать обещание пациенту: нечто большее, чем заверение, что им или ею не воспользуются. Обещание физической близости без сексуальности. Что означает такая близость? Детские переживания. Мы подчиняемся врачу, цитируя свое детство, и переносим на доктора роль почетного члена семьи.
В тех случаях, когда пациент зациклен на родителе, врач может заменить его. Но в таких отношениях сексуальность создает трудности. Когда мы болеем, то представляем себе врача в идеале как старшего брата или сестру.
Нечто подобное происходит и при смерти. Доктор – знакомец смерти. Когда мы зовем врача, то просим его вылечить нас и облегчить страдания, но, если он этого сделать не может, мы просим его засвидетельствовать смерть. Ценность свидетельства доктора состоит в том, что он видел умирание много раз. (Это, как молитвы и последние обряды, реальная ценность, которая когда-то была у священников.) Он живой посредник между нами и многочисленными мертвецами. Он принадлежит нам и принадлежал им. И нашим утешением, которое дает врач, является ощущение некоего братства.



Было бы большой ошибкой «нормализовать» мои слова, заключив, что поиск пациентом дружелюбного врача естественен. Его надежды и требования, какими бы противоречивыми, скептическими и неявными они ни были, гораздо глубже и тоньше.
Во время болезни разрываются многие связи. Болезнь разделяет и создает искаженную, фрагментированную форму самосознания. Врач через допустимую близость с больным компенсирует разрывы связей и подтверждает социальную значимость пациента.
Когда я говорю о братских отношениях – или, скорее, о неоформленном ожидании пациентом братства, – я не имею в виду, что врач должен вести себя как настоящий брат. От него требуется, чтобы он признал своего пациента с уверенностью идеального брата. Функция братства – это признание.
Это личное и глубоко интимное признание необходимо как на физическом, так и на психологическом уровне. Оно в первую очередь и составляет искусство постановки диагноза. Хорошие диагносты встречаются редко не потому, что врачам не хватает знаний, а потому, что большинство из них не учитывают релевантные факторы: эмоциональные, исторические, экологические, физические. Они занимаются поиском конкретных заболеваний, а не истины о человеке, которая может указывать на различные заболевания. Возможно, вскоре компьютеры будут ставить диагнозы. Но данные, загружаемые в программу, всё равно должны быть результатом интимного, личного признания пациента.
На психологическом уровне признание – это поддержка. Как только мы заболеваем, у нас появляется страх уникальности болезни. Мы спорим с собой, ищем рациональное объяснение, но страх остается. Для этого есть веская причина. Болезнь как неопределенная сила представляет собой потенциальную угрозу самому нашему бытию, а мы обязаны в высшей степени осознавать уникальность этого бытия. Другими словами, болезнь делит с нами нашу уникальность. Опасаясь ее, мы принимаем болезнь и делаем своей собственной. Вот почему пациенты испытывают облегчение, когда врачи дают название их состоянию. Название значит мало; они могут ничего не понимать в терминах; но, поскольку появилось название, они начинают бороться. Добиться признания симптомов, определить их, ограничить и обезличить значит стать сильнее.







Процесс, в котором участвуют врач и пациент, – диалектический. Врачу, чтобы полностью признать болезнь – я говорю «полностью», потому что признание должно быть сформулировано так, чтобы указать на конкретное лечение, – необходимо сначала признать пациента как личность: но для пациента – при условии, что он доверяет врачу, а это доверие в конечном итоге зависит от эффективности лечения, – признание врачом его болезни является помощью, потому что оно отделяет и обезличивает недуг [9]9
Полное исследование этой темы см. в блестящей книге Майкла Балинта «Врач, его пациент и болезнь»: Balint M. The Doctor, His Patient and The Illness. London: Pitman, 1964. (Рус. пер.: Балинт М. Врач, его пациент и болезнь / пер. А. Тишкова. Psyllabus, 2018.)
[Закрыть].
До сих пор мы обсуждали проблему упрощенно, предполагая, что болезнь – это то, что случается с пациентом. Мы игнорировали роль переживания болезни, эмоциональные и психические расстройства. Оценки врачей общей практики того, сколько клинических случаев на самом деле зависит от подобных факторов, варьируются от пяти до тридцати процентов: возможно, это связано с тем, что порой тяжело отличить причину от следствия, к тому же во всех случаях играет роль стресс.
Большинство несчастий похожи на болезнь в том смысле, что они тоже обостряют чувство уникальности. Всякое разочарование усиливает ощущение собственной инаковости и подпитывается им. Объективно говоря, это нелогично, поскольку в нашем обществе разочарование и несчастье гораздо более распространены, чем удовлетворенность. Но это не объективное сравнение. Речь идет о неспособности найти подтверждение себе во внешнем мире. Отсутствие подтверждения приводит к ощущению тщетности. И это чувство тщетности – суть одиночества; ведь, несмотря на все ужасы истории, существование других людей всегда обещает возможность достижения цели. Любой пример вселяет надежду. Но убежденность в своей уникальности уничтожает все эти примеры.
Несчастный пациент приходит к врачу рассказать про свою болезнь в надежде на то, что хотя бы эта его часть познаваема. Свое истинное «я» он не считает познаваемым. Он никто в этом мире, и мир для него ничто. Очевидно, что задача врача – если только он не просто вопринимает болезнь номинально, в результате чего обеспечивает себе «трудного» пациента, – состоит в том, чтобы признать человека. Если человек почувствует, что его признаю2 т – а такое признание вполне может включать те аспекты его характера, которые он сам еще не осознал, – безнадежная природа его несчастья изменится; у него даже может появиться шанс стать счастливым.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































