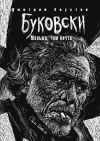Читать книгу "Подожди до весны, Бандини"

Автор книги: Джон Фанте
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Джон Фанте
Подожди до весны, Бандини
Эта книга посвящается моей матери Мэри Фанте с любовью и преданностью; и моему отцу Нику Фанте с любовью и восхищением.
Предисловие
Теперь, состарившись, я не могу оглядываться на «Подожди до весны, Бандини», не теряя следов этой книги в прошлом. Иногда я лежу ночью в постели, а фраза, абзац или персонаж из этой ранней работы просто гипнотизируют меня, и в полудреме я переплетаю их с нынешними фразами и черпаю из них какие-то мелодичные воспоминания о старой спальне в Колорадо, или о маме, или об отце, или о братьях и сестре. Мне трудно представить, что давно написанное способно успокоить меня так, как успокоит эта полудрема, и все же я не могу заставить себя оглянуться, открыть этот первый роман и прочесть его заново. Мне страшно, я не вынесу встречи с собственной работой. Я уверен, что никогда не прочту ее снова. Но вот в чем еще я уверен: всех людей в моей писательской жизни, всех моих персонажей можно найти в этой ранней книге. От меня самого ничего там больше не осталось – только память о старых спальнях да шуршанье шлепанцев моей мамы, идущей на кухню.
Джон Фанте
1
Он тащился по дороге, пиная глубокий снег. Вот человек, которому все обрыдло. Его звали Свево Бандини, жил он тремя кварталами ниже на той же улице. Он заколел, а в башмаках зияли дыры. Тем утром он залатал их изнутри кусками картона от коробки из-под макарон. За макароны в этой коробке еще не уплачено. Он вспомнил об этом, когда пихал картон в башмаки.
Снег он ненавидел. Он работал каменщиком, а от снега замерзал раствор между кирпичами, которые он клал. Теперь вот плелся домой, но в чем смысл – идти домой? Когда он был мальчишкой в Италии, в Абруцци, снега тоже терпеть не мог. Солнца нет, работы нет. Теперь же он – в Америке, в городе Роклин, штат Колорадо. Только-только вышел из Имперской Бильярдной. В Италии тоже есть горы вроде вон тех, белых, в нескольких милях к западу. Горы – огромное белое платье, отвесно сброшенное на землю. Двадцать лет назад, когда ему было двадцать, целую неделю голодал он в складках этого дикого белого платья. В гор-ном зимовье пытался развести огонь. Зимой там опасно. А он сказал: к черту опасности, потому что ему тогда было всего двадцать, а в Роклине у него осталась девушка, и ему нужны деньги. Однако крыша зимовья все равно прогибалась под тяжестью удушающего снега.
Он вечно его преследовал, этот красивый снег. Свево Бандини никак не мог понять, почему не поехал в Калифорнию. Надо же было остаться в Колорадо, в глубоком снегу – а теперь слишком поздно. Прекрасный белый снег похож на прекрасную белую жену Свево Бандини, такую белую, такую плодородную, – лежит сейчас в белой постели дома. На Ореховой улице, дом 456, Роклин, Колорадо.
Глаза у Свево Бандини слезились на холодном воздухе. Карие, мягкие, глаза женщины. При рождении он украл их у своей мамы – ибо, родив Свево Бандини, его мама больше не была прежней, вечно недужилась, глаза постоянно больные после родов, а потом умерла, и настала очередь Свево носить мягкие карие глаза.
Сто пятьдесят фунтов – вот сколько весил Свево Бандини, а еще у него был сын по имени Артуро: любил трогать Свево за плечи и нащупывать внутри змей. Прекрасный человек Свево Бандини – одни мускулы, а еще у него есть жена по имени Мария: стоило ей подумать о мускулах его чресел, как все ее тело и весь ее разум таяли вешними снегами. Она была такая белая, эта Мария, посмотришь на нее – и будто сквозь тончайшую пленку оливкового масла увидишь.
Diocane.Diocane.Это значит: Бог – собака, – и Свево Бандини повторял эти слова снегу. Зачем Свево нужно было проигрывать десять долларов в покер сегодня в Имперской Бильярдной? Он ведь такой бедный человек, трое детей к тому же, а за макароны не уплачено, за дом – тоже, за дом, где трое детей и макароны. Собака Бог – ох, собака.
У Свево Бандини жена была такая, что никогда не
говорила: дай мне денег купить еды для детей, – жена у него была с большущими черными глазами, болезненно яркими от любви, и в глазах этих виднелось что-то такое, лукавинка, с которой она заглядывала ему в рот, ему в уши, ему в желудок и ему в карманы. Глаза такие умные, что грустно: всегда знают, когда у Имперской Бильярдной дела идут хорошо. Такие глаза – и у жены! Они видели все: и чем он был, и чем надеялся стать, – но души его не видели.
Вот это-то и странно, поскольку Мария Бандини была из тех женщин, что рассматривали всех живых и мертвых как души. Уж Мария знала, что такое душа. Душа – та бессмертная штука, о которой она знала. Душа – та бессмертная штука, о которой она ни за что не хотела спорить. Душа – бессмертная штука. Ладно, чем бы она там ни была, душа все равно бессмертна.
Были у Марии белые четки – такие белые, что уронишь в снег и потеряешь навеки, – и она молилась за души Свево Бандини и своих детей. А поскольку времени больше не оставалось, надеялась она, что где-то в этом мире кто-нибудь – монахиня в какой-нибудь тихой обители, кто-то, все равно кто – найдет время и помолится за душу Марии Бандини.
Его ждала белая постель, где лежала жена, теплая, ждала, а он пинал снег и думал о том, что однажды изобретет. Просто вот такая мысль в голову пришла: снежный плуг. Модель он уже построил из сигарных коробок. Нет, что-то в этом есть. И тут он содрогнулся, как вздрагиваешь, когда ляжкой дотронешься до холодного железа, и неожиданно вспомнил, как забирался, бывало, зимними ночами в теплую постель к Марии, а крошечный холодный крестик у нее на четках прыснувшей холодной змейкой касался его тела, и он отпрядывал на холоднющую сторону постели, – и тут же подумал о спальне в том доме, за который не уплачено, о своей белой жене, бесконечно ожидающей страсти, – невыносимо, и сразу же в ярости оступился, попав ногой мимо тротуара, туда, где снег глубже, вымещая злость свою на снеге. Dio cane.Dio сапе.
У него был сын по имени Артуро: Артуро четырнадцать, и у него есть санки. Когда он сворачивал во двор дома, за который не уплачено, его ноги вдруг заспешили к верхушкам деревьев, и он оказался на спине, а санки Артуро все еще скользили прямо в сугроб, в утомленные снегом кусты сирени. Dio сапе! Говорил он этому мальчишке, маленькому мерзавцу, – не оставляй санки на дорожке. Свево Бандини почувствовал, как холод бросается на его руки, точно взбесившиеся муравьи. Он поднялся на ноги, воздел глаза к небу, погрозил Господу кулаком и чуть не рухнул в ярости обратно. Ах, этот Артуро! Ах, негодяй маленький! Он вытащил санки из-под сиреневого куста и с дьявольской методичностью отодрал полозья. Только завершив разгром, он вспомнил, что санки стоили семь пятьдесят. Он стоял, смахивал снег с одежды, со странным жаром в лодыжках, там, куда через верх башмаков набился снег. Семь долларов и пятьдесят центов раскурочено в куски. Diavolo! Пусть мальчишка сам себе теперь санки покупает. Все равно ему новые хотелось.
* * *
За дом не уплачено. Это враг его – дом. Со своим голосом, и всегда с ним разговаривает, как попугай, долдонит вечно одно и то же. Всякий раз, когда ноги заставляли скрипеть половицы крыльца, дом надменно произносил: ты не хозяин мне, Свево Бандини, и я никогда не буду тебе принадлежать. Стоило взяться за ручку входной двери – то же самое. Пятнадцать лет уже дом над ним насмехается и раздражает своей идиотской независимостью. Бывало, ему очень хотелось подложить под него динамит и взорвать к чертям. Когда-то в этом был вызов: дом так похож на женщину, дразнящую, мол, овладей мною. Но за тринадцать лет он устал и ослаб, а у дома заносчивости только прибавилось. Свево Бандини было уже все равно.
Банкир, владевший этим домом, – один из злейших врагов. Когда перед глазами вставало лицо этого банкира, сердце у Свево Бандини начинало колотиться таким голодом, что готово было пожрать в бешенстве самое себя. Хелмер, банкир. Грязь земли. Время от времени он вынужден стоять перед Хелмером и говорить, что денег у него не хватает, чтобы семью кормить. Перед Хелмером с его аккуратным седым пробором, мягкими руками, банкирскими глазами, похожими на устрицы, когда Свево Бандини говорил, что у него нет денег на взнос за дом. Приходилось проделывать это много раз, и мягкие руки Хелмера выводили его из себя. Он не мог разговаривать с таким человеком. Он ненавидел Хелмера. Ему хотелось сломать Хелмеру шею, вырвать у Хелмера сердце и прыгать на нем обеими ногами. О Хелмере он думал и бормотал про себя так: грядет день! грядет! Это не его дом, и достаточно лишь коснуться дверной ручки, чтобы вспомнить – дом ему не принадлежит. Ее звали Мария, и тьма казалась светом перед ее черными глазами. Он на цыпочках прошел в угол, к креслу возле окна с опущенной зеленой шторой. Когда он уселся, оба колена щелкнули. Как два колокольчика звякнули Марии, и он подумал: глупо, что жена так сильно любит мужа. В комнате холодрыга. Раструбы пара выкатывались из его дышавших губ. Он по-борцовски хрюкнул, запутавшись в шнурках. Со шнурка-ми вечно ерунда какая-то. Diavolo! Он, наверное, стариком на смертном одре лежать будет, а шнурки так и не научится завязывать, как другие мужчины.
– Свево?
– Ну.
– Не рви их, Свево. Зажги свет, и я развяжу. Только не злись и не рви их.
Иже еси на небеси! Матерь Божья! Как это на нее похоже! Злиться? На что тут злиться? Ох Господи, ему захотелось шарахнуть кулаком в окно! Ногтями он вгрызся в узел на шнурках. Шнурки! Зачем они вообще нужны – шнурки? Уннх. Уннх. Уннх.
– Свево.
– Ну.
– Я сделаю. Зажги свет.
Когда мороз загипнотизировал тебе пальцы, узел на бечевке становится упрямым, будто колючая проволока. Со всей мощью своей руки и плеча он дал выход нетерпению. Шнурок, клацнув, лопнул, и Свево Бандини чуть не вывалился из кресла. Он вздохнул, и жена его вздохнула.
– Ах, Свево. Ты их опять порвал.
– Ба, – сказал он. – Ты что, думаешь, я в постель в ботинках лягу?
Он спал нагишом, презирал исподнее, но раз в году, только снег замельтешит, всегда находил на стуле в углу разложенное для него длинное белье. Однажды фыркнул над такой заботой: то был год, когда он чуть не умер от гриппа и пневмонии; то была зима, когда он поднялся со смертного ложа, в бреду, в жару, тошнит от пилюль и микстур, шатаясь, добрел до кладовки, впихнул себе в глотку, давясь, полдюжины головок чеснока и вернулся в постель выгонять с потом смерть. Мария верила, что его спасли ее молитвы, а его религией лекарств был чеснок, но Мария утверждала, что чеснок – от Бога и, значит, Свево Бандини бессмысленно это оспаривать.
Он был мужчиной и терпеть не мог себя в длинном белье. Она была Марией, и от каждого пятнышка на его исподнем, от каждой пуговки и каждой ниточки, от каждого запаха и каждого касания кончики ее грудей болели радостью, исходившей из самой сердцевины земли. Женаты пятнадцать лет, и язык у него подвешен, и говорить он умел, и говорил часто о том и о сем, но едва ли когда произносил: я люблю тебя. Она, его жена, разговаривала редко, но частенько утомляла его этим своим «я тебя люблю».
Он подошел к кровати, пропихнул руки под одеяло и нащупал эти странствующие четки. Затем скользнул под одеяло сам и схватил ее неистово, сжав ее руки своими, обхватив ее ногами. Не страсть – просто холод зимней ночи, а она – печурка, а не женщина, чья печаль и чье тепло привлекли его с самого начала. Пятнадцать зим, ночь за ночью, и женщина – теплая и манящая к своему телу ноги как лед, руки и плечи как лед; он подумал о такой любви и вздохнул.
А незадолго до этого Имперская Бильярдная забрала его последние десять долларов. Если б только у этой женщины был хоть какой-нибудь недостаток, что скрыл бы своею тенью его собственные слабости. Взять, к примеру, Терезу Деренцо. Он женился бы на Терезе Деренцо, только она была экстравагантна, говорила слишком много, а изо рта у нее пахло, как из сточной канавы, и она – сильная мускулистая женщина – любила напускать на себя водянистую слабость в его руках: подумать только! К тому же Тереза Деренцо была выше его ростом! Что ж, с такой женой, как Тереза, он бы с удовольствием отдавал Имперской Бильярдной десять долларов за покером. Он бы думал об этом запахе, об этом трепливом рте и благодарил бы Господа за шанс спустить свои горбом заработанные денежки. Но не с Марией.
– Артуро разбил окно в кухне, – сказала она.
– Разбил? Как?
– Сунул в него голову Федерико.
– Сукин сын.
– Он не нарочно. Просто баловался.
– А ты что сделала? Ничего, я полагаю.
– Я намазала Федерико голову йодом. Царапина. Пустяки.
– Пустяки! Что ты хочешь сказать, пустяки? Что ты сделала с Артуро?
– Он разозлился. Хотел сходить в кино.
– Хотел и пошел.
– Детишки любят кино.
– Мерзкий сучонок.
– Свево, к чему так говорить? Твой собственный сын.
– Ты его избаловала. Ты их всех избаловала.
– Он на тебя похож, Свево. Ты тоже был плохим мальчишкой.
– Я был – черта с два! Ты не ловила меня, когда я братниной головой окна бил.
– У тебя не было братьев, Свево. Зато ты столкнул своего отца с лестницы, и он сломал себе руку.
– А что было делать, если отец… Ох, да ну его.
Он проерзал поближе и уткнулся лицом в ее заплетенные волосы. С самого рождения Августа, их третьего сына, правое ухо жены отдавало хлороформом. Она принесла этот запах с собой из больницы десять лет назад, или это просто воображение? Он ссорился с ней из-за этого годами, ибо она вечно отрицала, что из ее правого уха пахнет хлороформом. Даже дети пробовали нюхать – опыт не удался, они ничего не почувствовали. Однако запах там был, постоянно, совсем как той ночью в палате, когда он наклонился поцеловать ее после того, как она выкарабкалась – так близко к смерти, однако живая.
– И что с того, что я столкнул отца с лестницы? Какое это имеет значение?
– Тебя это избаловало? Ты избалован?
– Откуда мне знать?
– Ты не избалован.
И что это, к чертям собачьим, за логика? Разумеется, он избалован! Тереза Деренцо вечно талдычила, что он порочный, себялюбивый и избалованный. Бывало, это его приводило в восторг. А та – как бишь ее звали? – Кармела, Кармела Риччи, подружка Рокко Сакконе, – та вообще думала, что он дьявол, а ведь она была мудра, в колледж ходила, в Университет Колорадо, выпускница университета, а сказала, что он – изумительный подонок, жестокий, опасный, гроза молоденьких женщин. Но Мария – ох, Мария, она думает, что он ангел, чистый, как хлеб. Ба. Что Мария в этом понимает? Образования у нее нет, даже средней школы не закончила почему-то.
Даже средней школы. Ее звали Мария Бандини, но до того, как она за него вышла, ее имя было Мария Тоскана, и средней школы она так и не закончила. Она была младшей дочерью в семье с двумя девочками и мальчиком. Тони и Тереза – оба выпускники средней школы. А Мария? Семейное проклятье на ней, на самой последней из Тоскан, на этой девочке, которая хотела, чтобы все было по ее, и отказалась заканчивать среднюю школу. Тоскана-невежда. Та, что без школьного аттестата, – аттестат был почти в руках, три с половиной года в старших классах, но все равно – нет аттестата. У Тони и у Терезы были, а Кармела Риччи, подруга Рокко, даже поступила в Университет Колорадо. Бог против него. Из них из всех – ну почему ему нужно было влюбиться именно в эту женщину, что сейчас у него под боком, в эту женщину без аттестата о среднем образовании?
– Рождество скоро, Свево, – сказала она. – Помолись, а? Попроси Господа, чтобы Рождество было счастливым.
Ее звали Мария, и она постоянно повторяла ему то, что он уже знал. Неужели нужно напоминать, что Рождество скоро? Вот, пожалуйста – ночь пятого декабря. Когда мужчина засыпает рядом с женой в четверг, неужели необходимо сообщать ему, что завтра пятница? А этот мальчишка Артуро: за что ему такое наказание – сын, который балуется с санками? Ah, povera America! Да еще молиться, чтобы Рождество было счастливым. Ба.
– Ты согрелся, Свево?
Ну, вот опять – вечно ей нужно знать, тепло ему или нет. В ней чуть больше пяти футов росту, и он никогда не понимает, спит она или нет, такая она тихонькая. Жена как привидение, всегда довольна своей меньшей половиной постели, перебирает четки и молится, чтобы Рождество было веселым. Что ж тут удивляться, если он не может выплатить за этот дом, этот сумасшедший дом, где обитает жена – религиозная фанатичка? Мужчине нужна жена, которая разжигала бы его, вдохновляла и заставляла трудиться. А Мария? Ah, povera America!
Она соскользнула со своей половины кровати, ее ступни в темноте уверенно и точно нащупали шлепанцы на коврике, и он знал, что сначала она сходит в ванную, потом проверит мальчиков – последняя проверка перед тем, как вернуться в постель на всю оставшуюся ночь. Жена, которая вечно выскальзывает из постели посмотреть на трех своих сыновей. Ах, что за жизнь! Io sonofregato!
Ну как мужчине выспаться в этом доме, где вечная суматоха, когда жена постоянно удирает из постели без единого слова? Черт бы побрал Имперскую Бильярдную! Полный дом, дамы на двойках – и продул. Madonna! И он еще должен молиться за счастливое Рождество! С такой-то удачей он должен с Господом разговаривать! Jesu Christi, если Бог действительно есть, то пускай ответит – почему?
Так же тихо, как и уходила, она снова оказалась рядом.
– Федерико простудился, – сказала она.
Он тоже простудился – в душе. Его сын Федерико чихнет разочек, а Мария уже грудь ему камфарой натирает и лежит тут полночи, только об этом и говоря; Свево же Бандини страдает в одиночку – не тело болит у него, хуже, душа болит. Ну где еще на земле найдешь боль сильнее, чем в собственной душе? Помогла ему Мария? Поинтересовалась хоть разочек, страдает ли он от тяжелых времен? Обратилась к нему: Свево, возлюбленный мой, как твоя душа сегодня? Ты счастлив, Свево? Сможешь ли получить работу на зиму, Свево? Dio Maledetto! A она еще хочет веселого
Рождества! Да как Рождество может быть веселым, когда ты один среди троих сыновей и жены? Башмаки дырявые, в картах не везет, работы нет, чуть шею себе не сломал на этих проклятых санках – какое уж тут веселье на Рождество! Он что – миллионер? А мог бы стать, если б женился на той, на ком надо. Хе… впрочем, он был слишком глуп.
Ее звали Мария, и он чувствовал, как мягкость постели подается под ним, – и не сдержал улыбки, ибо знал, что она придвигается, и губы его приоткрылись принять их – три пальчика маленькой руки, коснувшихся его губ, уносящих его в теплую страну внутри самого солнца, а она слабо щекотала дыханием его ноздри из полных губ своих.
– Carasposa, – произнес он. – Жена моя дорогая.
Губы ее были влажны, и она провела ими по его глазам. Он тихонько рассмеялся.
– Я тебя убью, – сказал он.
Она засмеялась, потом прислушалась настороженно – не проснулись ли мальчики в соседней комнате.
– Che sara, sara, – сказала она. – Что будет, то и будет.
Ее звали Мария, и она была так терпелива, ожидая его, касаясь мышцы его чресел, так терпелива, целуя его тут и там, а затем великий жар, который он любил, поглотил его, и она откинулась на подушку.
– Ах, Свево. Так чудесно!
Он любил ее с такой нежной яростью, так гордясь собой, думая все время: она не такая дура, эта Мария, она знает, что хорошо. Большой пузырь, за которым они гнались к солнцу, взорвался меж ними, и он застонал от радостного освобождения, застонал, как мужчина, радуясь тому, что смог забыть ненадолго столько всего, а Мария, очень тихая на своей меньшей половине постели, прислушивалась к грохоту своего сердца и спрашивала себя, сколько он потерял в Имперской Бильярдной. Наверняка очень много; возможно, десять долларов, поскольку, хоть у Марии и не было аттестата, она могла прочесть мужские страдания на счетчике его страсти.
– Свево, – прошептала она.
Но тот уже крепко спал.
* * *
Бандини, снегоненавистник. Тем утром он выпрыгнул из постели в пять, как шутиха, корча рожи холодному утру, презрительно кривясь ему: ба, это Колорадо, задница творения Господня, вечно вымерзает, не место здесь итальянскому каменщику; ах, не жизнь у него, а сплошное проклятие. Поджимая стопы в комок, он добрел до стула, сдернул с него штаны и пропихнул в них ноги, не переставая думать, что теряет двенадцать долларов в день по шкале профсоюза, восемь часов тяжелой работы – и все из-за этого! Он дернул за штору за шнурок; та взлетела с пулеметным грохотом, и голое белое утро нырнуло в комнату, ярко забрызгав его с ног до головы. Он зарычал. Sporca chone: грязная морда, как он его называл. Sporcaccione ubriaco: пьяная немытая харя.
Мария спала с сонной чуткостью котенка, и эта штора разбудила ее быстро, глаза наполнились шустрым ужасом.
– Свево. Еще рано.
– Спи. Кто тебя спрашивает? Спи.
– Сколько времени?
– Мужчине пора вставать. А женщине время спать. Закрой рот.
Она так и не привыкла к его ранним подъемам. Ее часом было семь, не считая того времени, что она провела в больнице, а однажды залежалась в постели до девяти, так у нее от этого разболелась голова, этот же человек, за которого она вышла, всегда подскакивал в пять зимой и в шесть летом. Она знала, как он мучается в белой каталажке зимы; она знала, что когда она поднимется два часа спустя, он уже разгребет лопатой все комки снега до единого на всех дорожках, и во дворе, и за ним, да еще почистит полквартала улицы, под бельевыми веревками, весь тупик до самого конца, громоздя отвалы повыше, передвигая сугробы, злобно врезаясь в них своей плоской лопатой.
Так оно и вышло. Когда она встала и скользнула ногами в шлепанцы, пальцы врастопырку, словно обтрепанные цветочки, и выглянула в кухонное окно, он там и оказался: в тупике, за высоким забором. Великан, а не мужчина, гигант, ставший вдруг карликом, прятался за шестифутовой оградой, а его лопата то и дело выныривала из-за нее, взметая клубки снега к небесам.
Но он не развел огня в кухонной печке. Ох нет, никогда не разожжет кухонную печь. Что он – баба, огонь разводить? Хотя иногда можно. Как-то он повез их в горы жарить бифштексы, и абсолютно никому, кроме него самого, не позволено было разводить костер. Но кухонная печь! Он что – баба?
Такая холодина сегодня утром, такая холодина. Зубы Марии стучали и разбегались прочь. Темно-зеленый линолеум под ногами – словно каток, а сама печка – как глыба льда. Что это за печь, а? Деспот, неукротимый и своенравный. Мария постоянно ее улещивала, ублажала, уговаривала эту черную медведицу, подверженную припадкам бунтарства, бросавшую Марии вызов: а вот не запылаю; вздорная и сварливая тварь, которая, разогревшись и уже испуская сладкое тепло, вдруг впадала в неистовство и раскалялась до желтизны, грозя спалить весь дом. Только Марии удавалось справиться с этой черной тушей капризного железа, и она подкармливала ее по веточке, лаская робкое пламя – вот тебе еще чурочка, и еще, и еще одна, – пока то не начинало ворковать под ее ласками, железо грелось, духовка раздувалась, а жар бился в нее, и вот уже печь похрюкивала и постанывала от удовольствия, как идиотка.
Она была Марией, и печка любила только ее. Стоило Артуро или Августу закинуть ей в жадную пасть кусок угля, как печь сходила с ума от собственной лихорадки, краска на стенах пузырилась волдырями, а сама она пылала, пугающе пожелтев, – обломок ада шипел, зовя Марию, и та приходила хмуро и умело, с тряпкой в руке, подправляла тут и там, проворно задвигала вьюшки, перетряхивала все ее нутро, пока печь не возвращалась в свою нормальную глупую колею. Мария с руками не больше потрепанных розочек – а эта черная дьяволица была ее рабыней и взаправду нравилась Марии. Та чистила ее до блеска, до порочных искорок, и никелированная пластинка с торговой маркой злобно скалилась, словно зев, слишком гордясь прекрасными зубами.
Когда языки пламени наконец поднялись и печь простонала свое «доброе утро», Мария поставила воду для кофе и вернулась к окну. Свево стоял возле курятника, отдуваясь и опираясь на лопату. Наседки повылазили из сарая, квохтали, поглядывая на него – человека, способного поднять упавшие белые небеса с земли и перекинуть их через забор. Но из окошка было видно, что слишком близко от него куры не прогуливались. И она знала почему. Это были ее куры; они ели у нее из рук, а его терпеть не могли; они помнили – он тот, кто приходит субботними вечерами убивать их. Но это ничего; они очень благодарны, что он расчистил снег и они могут теперь ковыряться в земле, они это ценили, но доверять ему, как женщине, что приносила кукурузу, капавшую с ладошек, не могли. И со спагетти в тарелке тоже; они целовали ее своими клювиками, когда она приносила им спагетти; а этот мужчина – дело опасное.
Детей звали Артуро, Август и Федерико. Они уже проснулись, глаза карие и ярко омытые черной рекою сна. Все они спали в одной кровати, Артуро – двенадцать, Августу – десять, а Федерико – восемь. Итальянские мальчишки, дурачатся, трое в постели, с быстрыми особенными смешочками непристойностей. Артуро, тот уже много знал. Теперь он рассказывал им то, что знал, а слова выходили у него изо рта белым жарким паром в холодной комнате. Он много знал. Он много видел. Он знал много. Вы, ребятки, не знаете того, что видел я. Она сидела на крыльце. А я от нее вот так стоял. И видел много чего. Федерико, восемь лет.
– А чё ты видел, Артуро?
– Закрой рот, простофиля. Мы не с тобой разговариваем!
– Я никому не скажу, Артуро.
– Ах, заткнись. Ты еще маленький!
– Тогда скажу.
Тут они объединили силы и скинули его с кровати. Он ударился об пол, захныкал. Холодный воздух обхватил его своей внезапной яростью и всадил в тело сразу десять тысяч иголок. Он взвизгнул и попытался снова забраться под одеяло, но те были сильнее, и он рванул через всю комнату в спальню к маме. Та как раз натягивала хлопчатобумажные чулки. Он испуганно орал:
– Они меня вытолкнули! Это Артуро. И Август тоже!
– Ябеда! – завопили из соседней комнаты.
Он был для нее так красив, этот Федерико; и кожа его казалась такой прекрасной. Она подняла его на руки и потерла ему спину, пощипала за маленькую прекрасную попку, сжимая покрепче, вталкивая в него тепло, а он подумал о ее запахе – интересно, чем она пахнет, и как это хорошо утром.
– Поспи в маминой кроватке, – сказала она.
Он быстренько забрался туда, и она подоткнула одеяло так, что он весь затрясся от восторга, так обрадовавшись, что лежит на маминой стороне постели, а его голова – в гнездышке, оставленном мамиными волосами, потому что ему не нравилась папина подушка; та была какой-то кислой и крепкой, а мамина пахла сладко, и он от нее весь согревался.
– А я еще что-то знаю, – сказал Артуро. – Но не скажу.
Августу было десять; он соображал немного. Конечно, он знал больше, чем его негодяйский братец Федерико, но далеко ему до брата, лежавшего рядышком, Артуро, который много чего знал про женщин и про все остальное.
– Что ты мне дашь, если я тебе скажу? – спросил Артуро.
– Дам тебе свой никель на молоко.
– Никель на молоко! Какого черта? Кому нужен никель на молоко зимой?
– Тогда летом дам.
– Фигушки. Что ты мне сейчас дашь?
– Все, что хочешь у меня.
– Лады. А что у тебя есть?
– Ничего нет.
– Ладно. Тогда и я ничего не продаю.
– Тебе все равно нечего рассказывать.
– Черта с два нечего!
– Скажи за так.
– За так не бывает.
– Потому что ты врешь, вот почему. Ты врун.
– Не называй меня вруном!
– Ты врун, если не скажешь. Врун!
Он был Артуро, и ему стукнуло четырнадцать. Вылитый отец в миниатюре, только без усов. Верхняя губа у него изгибалась с такой нежной жестокостью. Веснушки роились по всему лицу, как муравьи на куске торта. Он был старше всех и считал себя довольно крутым – и никакому братцу-щеглу не сойдет с рук называть его вруном. Через пять секунд Август уже корчился. Артуро под одеялом навалился ему на ноги.
– Это мой захват большого пальца, – сказал он.
– Ай! Пусти!
– Кто врун?
– Никто!
Их матерью была Мария, но они звали ее Мамма, и она уже стояла рядом, до сих пор пугаясь материнской обязанности, по-прежнему ею озадаченная. Вот Август; его матерью быть легко. У него желтые волосы, и по сто раз на дню буквально из ниоткуда являлась ей эта мысль: у ее второго сына желтые волосы. Она могла целовать Августа, когда захочется, наклоняться и пробовать на вкус его желтые волосы и прижиматься ртом к его лицу и глазам. Хороший мальчик Август. Конечно, хлопот она с ним хватила. Слабые почки, как сказал доктор Хьюсон, но теперь все прошло и матрас по утрам уже не мокрый. Август теперь вырастет прекрасным человеком и никогда не будет мочить постель. Сотню ночей она провела на коленях с ним рядом, пока он спал, четки пощелкивали в темноте, пока она молилась, прошу тебя, Господи Благословенный, не дай моему сыну больше мочить постель. Сотню, две сотни ночей. Врач называл это слабыми почками; она звала это Божьей волей; а Свево Бандини считал это проклятой безалаберностью и склонялся к тому, чтобы выгонять Августа спать в курятник, будь у него хоть желтые волосы, хоть не желтые. Лечить предлагалось многими способами. Врач все время прописывал пилюли. Свево благоволил к ремню для правки бритвы, но она постоянно отвлекала его от этой мысли; а ее собственная мать Донна Тоскана настаивала, чтобы Август пил собственную мочу. Но ее звали Мария, как и мать Спасителя, и она пошла к этой другой Марии через мили и мили четок. И что, Август же перестал, разве нет? Когда она подсовывала под него руку ранними утренними часами, разве не был он сухим и теплым? А почему? Мария знала почему. Никто больше объяснить этого не мог. Бандини сказал: ей-богу, самое время; доктор сказал, что подействовали пилюли, а Донна Тоскана твердила, что все давно бы уже прекратилось, если б они вняли ее совету. Даже сам Август поражался и восторгался по утрам, когда просыпался сухим и чистым. Он помнил те ночи, когда открывал глаза и видел, что мама стоит рядышком на коленях, прижавшись к нему лицом, четки тикают, ее дыхание щекочет ему ноздри, и тихонькие слова шепотом: Богородице дево смилуйся – вливаются ему в нос и глаза, пока не начинал ощущать какую-то жуткую меланхолию, лежа между двумя этими женщинами, и беспомощность стискивала ему горло, от чего он решался сделать приятное им обеим. Он просто больше никогда не будет писать в постель.
Матерью Августа быть легко. Она могла играть его желтыми волосами когда заблагорассудится, поскольку он был полон чуда и загадки ее. Она так много для него сделала, эта Мария. Она заставила его вырасти. Она заставила его почувствовать себя настоящим мальчишкой, и Артуро уже больше не мог дразнить и мучить его за слабые почки. Когда на шепчущих ногах подходила она к его постели каждую ночь, ему стоило только почувствовать, как теплые пальцы ласкают его волосы, и он сразу вспоминал, что она и эта другая Мария из хлюзди превратили его в настоящего парня. Неудивительно, что она так хорошо пахла. А Мария никогда не забывала этого чуда его желтых волос. Откуда они взялись, только Бог знал, но она ими гордилась.