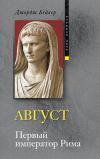Текст книги "О большой стратегии"

Автор книги: Джон Льюис Гэддис
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 4
Душа и государство
Вскоре после окончания Гражданской войны один молодой американец провел два тяжелых года среди народов Северо-Восточной Сибири. Это был Джордж Кеннан, приходившийся дальним родственником своему более известному полному тезке, жившему в XX веке – Джорджу Кеннану, создателю стратегии «сдерживания» во время холодной войны. Первый Кеннан, которому было тогда двадцать лет, исследовал маршруты для прокладки телеграфной линии, которая должна была соединить Соединенные Штаты с Европой: подводные кабели пока еще были ненадежны, и поэтому вариант проведения наземной трассы через Британскую Колумбию, российские Аляску и Сибирь и европейскую часть России, для чего нужно было пересечь под водой только Берингов пролив, казался достойным изучения. Проект был заброшен, когда в 1866 году наконец заработал Трансатлантический кабель, но до Кеннана эта новость шла несколько месяцев. У него уже не было будущего в отрасли международной телеграфной связи, и к тому же его поразил личный духовный кризис.
В своей книге «Палаточная жизнь в Сибири», вышедшей в 1870 году, Кеннан признавал, насколько легко ему оказалось выпасть из провинциального американского пресвитерианства, в котором был воспитан, и впасть в «поклонение злым духам, стоящим за всеми таинственными силами и явлениями Природы, такими как эпидемии и заразные болезни, бури, голод, затмения и великолепные полярные сияния». При первых испытаниях христианство оказалось удивительно неглубоким.
Никто из тех, кто когда-либо жил вместе с коренными обитателями Сибири, изучал их характер, находился под влиянием той же внешней среды и старался, насколько только мог, поставить себя на их место, никогда не усомнится в искренности их шаманов или их последователей и не станет удивляться тому, что поклонение злым духам должно было стать их единственной религией. Это единственная религия, возможная для таких людей в таких обстоятельствах.
Даже глубоко православные русские с длительным опытом религиозной практики могли чувствовать, что их Бог где-то далеко, а злые силы рядом: «Они принесли в жертву собаку, как самые настоящие язычники, чтобы смягчить ярость дьявольских сил, о которой свидетельствовала буря». Действия человека, делает вывод Кеннан, «управляются не столько тем, во что он верит интеллектуально, сколько тем, что он живо осознает»[177]177
George Kennan, Tent-Life in Siberia and Adventures Among the Koraks and Other Tribes in Kamtchatka and Northern Asia (New York: G. P. Putnam and Sons, 1870), p. 208–212. Еще о Кеннане см. в: Frederick F. Travis, George Kennan and the American-Russian Relationship, 1865–1924 (Athens: Ohio University Press, 1990).
[Закрыть].
Этот страх того, что лежит за пределами понимания, является корнем религии во всех известных нам великих культурах. Атеизм почти не имеет преемственности в истории. Но пока религии были политеистическими – когда каждая напасть была капризом определенного бога, – вера не представляла особых проблем для управления государствами. Боги тратили столько времени, ругаясь друг с другом, что смертные поддерживали своего рода равновесие между ними. Люди могли чтить богов или пренебрегать ими и даже по случаю создавать новых или упразднять старых – в чем особенно преуспели римляне[178]178
См.: Greg Woolf, Rome: An Empire’s Story (New York: Oxford University Press, 2012), p. 113–126; и Mary Beard, S.P.Q.R., p. 428–434; Бирд, S.P.Q.R., с. 526–532.
[Закрыть]. Ни одна система верований не угрожала официальной власти.
Исключением были евреи, для которых существовали не распри между богами, а проявления амбивалентности единого бога, который еще больше все усложнил, избрав их для формирования государства[179]179
Евреи ни в коем случае не были одиноки в своем монотеизме, но его последствия для них самих, а также для христиан и мусульман были более значимы для формирования последующей истории, чем последствия какой-либо другой веры. Полезное введение в этот предмет см. в: Jonathan Kirsch, God Against the Gods: The History of the War Between Monotheism and Polytheism (New York: Penguin, 2005).
[Закрыть]. История Израиля стала историей сердитого спора между этим богом, действующим через своих ангелов и пророков, и его избранным народом, говорящим с ним через царей, священников, а один раз даже старика, сидящего на куче пепла и скребущего свои струпья[180]180
Блестяще задокументировано в: Jack Miles, God: A Biography (New York: Knopf, 1995).
[Закрыть]. Но, как отметил Эдвард Гиббон, первый крупный современный историк Рима, иудаизм был исключающей религией. Будучи «избранными», евреи не стремились никого обращать в свою веру, поэтому их государство никогда не имело имперских притязаний, свойственных Римской империи[181]181
Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire (New York: Modern Library, 1977), I, p. 382–383, 386; Эдуард Гиббон, История упадка и разрушения Великой Римской империи, т. 2 (Москва: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008), с. 16.
[Закрыть]. Август мог управлять ею так же, как Галлией, Испанией или Паннонией, не опасаясь вырастить соперника.
Принцепс не мог знать того, что во время его правления возникла другая монотеистическая религия, на этот раз инклюзивная: «чистая и смиренная религия», писал Гиббон, которая «тихо закралась в человеческую душу, выросла в тишине и неизвестности, почерпнула свежие силы из встреченного ею сопротивления и наконец водрузила победоносное знамение креста на развалинах Капитолия». Тщательно скрывая свои взгляды, Гиббон утверждал, что своим восхождением христианство обязано миссионерскому пылу, гибкости в отношении ритуала, утверждениям о чудесах, обещанию жизни после смерти и, конечно, «неопровержимой ясности самой доктрины и верховному промыслу ее Творца»[182]182
Gibbon, The Decline and Fall, p. 383; Гиббон, История упадка и разрушения, с. 15–16.
[Закрыть]. Хоть и через столетия, но эта империя первой добилась процветания – чего так и не удалось Риму – в мировом масштабе.
При этом, однако, в ней постоянно возникала дилемма: какие именно обязательства подданные этой империи несут перед кесарем и какие – перед Богом?[183]183
Евангелие от Матфея 22:21.
[Закрыть] Могло бы христианство выжить без защиты государства? Могло бы государство претендовать на легитимность без санкции христианства? Поиск ответов на эти вопросы занимал умы в Средневековье и в начале Нового времени. Кроме того, не ясно даже и теперь, вызвало ли христианство «падение» Рима, как полагал Гиббон, или – о чем говорит наследие Августа – обеспечило бессмертие римских институтов. Эти противоположности формировали «западную» цивилизацию на протяжении всего последующего времени. Не в последнюю очередь это приняло форму противоположности двух по-настоящему больших стратегий, параллельных по своим целям, но созданных двумя мыслителями, одного из которых мы считаем сегодня одним из величайших святых, а второго, жившего через тысячу лет после первого, – одним из самых закоренелых грешников.
I
Августин никогда не считал себя святым. Он родился в 354 году в маленьком городке Тагасте в Северной Африке и известен в анналах автобиографии – жанра, который он по большей части и создал, – тем, что изображал себя, даже у груди матери, ненасытным паразитом: «Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей». В отрочестве он отказывался учить греческий язык, потому что его к этому принуждали, был очарован «Энеидой», а не арифметикой, и плакал о Дидоне, а не о Боге. Он тратил время на разные игры и нередко жульничал. Волнения о нем родителей его не трогали. Он искал удовольствий, красоты и истины только в мирских вещах: «маленький мальчик и великий грешник»[184]184
St. Augustine, Confessions, translated by R. S. Pine-Coffin (New York: Penguin, 1961), p. 28, 32–33, 39–41; Августин Аврелий, Исповедь (Москва: Издательство «Ренессанс», СП ИВО – СиД, 1991), с. 59, 65, 72–73. Все же лучшая биография – это классическая книга: Peter Brown, Augustine of Hippo: A Biography, revised edition (Berkeley: University of California Press, 2000; first published in 1967).
[Закрыть].
И все это было еще до того, как он подростком открыл для себя секс. «[Г]орело сердце мое насытиться адом, не убоялась душа моя густо зарасти бурьяном темной любви… и стал я гнилью пред очами Твоими, – нравясь себе». «Продолжай», – тайком шептали читатели на протяжении веков. И он продолжает:
Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бившей ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков… Наоборот, когда отец мой увидел в бане, что я мужаю, что я уже в одежде юношеской тревоги, он радостно сообщил об этом матери.
Уже достаточно! Но Августин, не смущаясь, рассказывает дальше: он посвящает целые страницы своей «Исповеди» грушевому дереву, с которого он и ватага его друзей стрясли все плоды – хотя они были кислыми – и скормили свиньям. «О, вражеская дружба, неуловимый разврат ума, жажда вредить на смех и в забаву! Стремление к чужому убытку без погони за собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что говорят: „пойдем, сделаем“, и стыдно не быть бесстыдным»[185]185
Augustine, Confessions, p. 45–53; Августин Аврелий, Исповедь, с. 74–85.
[Закрыть].
Это плодовое дерево стоит на втором месте по популярности в иудеохристианской традиции, и Августин использует и этот образ, и многое другое в этом странном произведении (зачем публиковать исповедь, тайную и обращенную к Богу?)[186]186
Недавний (и спорный) ответ см. в: Robin Lane Fox, Augustine: Conversions to Confessions (New York: Basic Books, 2015), особенно p. 522–539.
[Закрыть], чтобы спросить: Как всемогущее божество может допустить изъяны в сотворенном им мире? «Разве не читал я, – беззастенчиво пишет Августин, – о Юпитере, и гремящем и прелюбодействующем? Это невозможно одновременно»[187]187
Augustine, Confessions, p. 36; Августин Аврелий, Исповедь, с. 69.
[Закрыть]. Что же можно сказать в связи со всем этим о Боге христиан?
В эпоху Августина этот вопрос был весьма насущным, поскольку в 313 году император Константин узаконил все религии. После столь недавних гонений на христиан в правление Диоклетиана это казалось невероятным чудом, но дела Рима, даже после объявления христианства официальной религией этого государства, едва ли улучшились. Престолонаследие по-прежнему находилось во власти непредсказуемых факторов. Границы были слишком протяженны и недостаточно защищены. Волны «варваров», о которых было известно не больше, чем о жителях Сибири во времена Кеннана, ударяли в римские сторожевые заставы, подобно волнам, текущим из неизмеримых глубин Азии. В 410 году, когда Августину было пятьдесят шесть, вестготы разграбили сам Рим, а через двадцать лет он умер, в буквальном смысле осажденный вандалами, в порту Гиппон-Регий в Северной Африке, где долго служил епископом[188]188
Brown, Augustine of Hippo, p. 431–437.
[Закрыть].
Августин написал свою «Исповедь» вскоре после того, как занял эту должность, для которой он считал себя совершенно не готовым. Бо`льшую часть третьего десятка лет своей жизни он провел в манихействе, стремясь объяснить зло ограниченным могуществом бога. Наконец, осознав, что это слишком простое объяснение, а также под влиянием своей настойчивой матери Моники и авторитетного наставника Амвросия, епископа Миланского, Августин прошел медленное и болезненное обращение в христианство, которое он ярко описывает в своей книге. И даже тогда он надеялся всего-навсего основать монастырь в Гиппоне, пока христиане этого города не вынудили его принять священство, а затем не сделали его епископом[189]189
Ibid., p. 131–133.
[Закрыть].
Такой подход к делу – привлечение епископов как профессиональных спортсменов – может показаться странным, но он отражал отчаянный дефицит источников власти на закате римского правления. Епископы были духовными лидерами, одновременно выполняя функции магистратов, стражей порядка и общественных организаторов. Богословское образование было не так важно, как твердая воля, умение убеждать и прагматизм в делах. В своем зрелом возрасте Августин обладал всеми этими качествами, но у него было еще одно качество, о котором не догадывалась его паства: способность использовать представившуюся ему возможность с максимальным эффектом. С этого «насеста» на краю распадавшегося римского мира, который он даже не сам выбирал, Августин задался целью примирить веру и разум в грядущих мирах. Разговор в «Исповеди» начинается с добровольного публичного самоуничижения – но оно дало Августину «разгон» для взлета во всей его последующей работе[190]190
Эту мысль я позаимствовал из: David Brooks, The Road to Character (New York: Random House, 2015), p. 212.
[Закрыть].
II
«О граде Божьем» – главный труд Августина, который он писал на протяжении многих лет и закончил незадолго до смерти, – это книга не о различиях между небом и землей, как часто полагают, а скорее о правильном разграничении земных юрисдикций. Сильно упрощая[191]191
В основном я в качестве руководства полагался на: G. R. Evans, “Introduction,” in St. Augustine, Concerning the City of God Against the Pagans, translated by Henry Bettenson (New York: Penguin, 2003), p. ix – lvii, а также на заметки, подготовленные Майклом Гэддисом, которыми он поделился со мной в отважной попытке объяснить «О граде Божьем».
[Закрыть], его идею можно выразить так: есть один Бог и может быть только один кесарь. В этой жизни люди должны быть верны и тому и другому. Найденный ими баланс между двумя служениями определяет их шансы на вечную жизнь, но требования кесаря и Божий суд отражают не только безусловную реальность, но и конкретные обстоятельства. Неожиданное не может быть неожиданным для Бога, но Августину хватает смирения, чтобы ничего не утверждать наверняка. Человеку же предвидеть неожиданное не дано.
Человек, таким образом, должен принимать те или иные решения перед лицом неизвестности, ведь Бог наделил его даром – или наложил на него проклятие – свободной воли. Это плата за первородный грех, но также возможность, допускающая надежду: человеческому существованию не обязательно быть бессмысленным; человек – не просто игрушка капризных богов. Определение обязанностей человека по отношению к кесарю и Богу становится поэтому величайшей стратегической задачей, поскольку она требует соизмерения ограниченных человеческих возможностей с устремлением, не имеющим границ: устремлением к жизни после смерти.
К сожалению, трактат «О граде Божьем» лишен той ясности, с какой написана «Исповедь». Это чрезвычайно пространный и аморфный литературный колосс, настоящий «Моби Дик» теологии, в котором циклы и эпициклы, ангелы и демоны, мифы и истории теснят друг друга без какого-то определенного порядка. Сделать из него руководство по стратегии, не говоря уже о спасении души, дьявольски сложно. Тем не менее странным, почти чудесным образом Августин выигрывает при чтении его строк вне контекста. Вы можете брать темы из разных мест книги, освобождать их от оговорок и отступлений, которыми он их снабдил, и они, как правило, оказываются вполне осмысленными. Его стиль затемняет внутреннюю логику, и это нигде не проявляется так очевидно, как при рассмотрении вопросов войны и мира[192]192
См.: John Mark Mattox, Saint Augustine and the Theory of Just War (New York: Continuum, 2006), p. 4–6; David D. Corey and J. Daryl Charles, The Just War Tradition: An Introduction (Wilmington, Delaware: ISI Books, 2012), p. 53.
[Закрыть].
Когда христианин имеет право не подставлять другую щеку, а сражаться и, если необходимо, убивать? Какие обязанности может наложить христианский правитель на своих подданных для защиты своего государства? Как спасти государство, не погубив при этом человеческие души, и возможно ли это вообще? Зачем вообще об этом волноваться, если, как утверждает Августин, мир кесаря порочен, а мир Бога совершенен? И что именно в ответах Августина (несовершенных, как он сам признает) обусловило их всеобщее признание и влияние на все попытки решения проблемы «справедливой войны» во все последующие века?
III
Гений Августина в том, что его занимают скорее сами противоречия: порядок и справедливость, война и мир, кесарь и бог, чем их причины. Он рассматривает противоположности как гравитационные силы, не стараясь определить, что такое гравитация. Выбор человека лежит между противоположностями, но нет никакой формулы, которая бы предписывала, каким именно должен быть этот выбор. На каждое «не убий» Августин находит в священных текстах одобрение обратного поведения[193]193
Corey and J. Daryl Charles, The Just War Tradition, p. 56–57.
[Закрыть]. Он ставит вопросы об авторском намерении за много веков до появления постструктурализма. Противоположности – до определенного предела – совсем не смущают его.
Это делает его учение процедурным, а не абсолютным. Отдавая дань уважения неоплатонизму, повлиявшему на раннее христианство, Августин показывает, что реальность всегда отстает от идеала: можно стремиться к нему, но никогда нельзя рассчитывать на его достижение. Это стремление, таким образом – лучшее, что под силу человеку в падшем мире, и он сам выбирает, к чему стремиться. Тем не менее не все цели легитимны, не все средства пригодны. Поэтому Августин стремится помочь человеку в его выборе, уважая его право выбирать. Он делает это, обращаясь к нашему разуму – даже, можно сказать, к нашему здравому смыслу.
Возьмем, например, вопрос о том, зачем нужны государства: если Бог всемогущ, то кому нужны кесари? Без кесарей, отвечает Августин, не было бы христиан, а это не могло бы отвечать Господней воле. Быть христианином само по себе означает свободно выбирать следование Христу; но в результате такого выбора мало что осталось бы, если бы всех христиан скормили львам. Однако кесари делали это не так уж часто: на протяжении трех веков от смерти Иисуса до смерти Константина Римская империя, несмотря на периоды репрессий, была на удивление гостеприимным местом для новой религии[194]194
Таков аргумент в: Douglas Boin, Coming Out Christian in the Roman World: How the Followers of Jesus Made a Place in Caesar’s Empire (New York: Bloomsbury, 2015), но его косвенно предвосхитил еще Гиббон, писавший, что римские императоры благодушно проглядели распространявшееся христианство.
[Закрыть]. Это было одной из причин, по которым «упадок» Рима в IV и V веках вызывал у Августина и его товарищей по христианской вере такую тревогу.
Из обобщения на основе наблюдений следовало, что порядок должен предшествовать справедливости, ибо какие права возможны в условиях постоянного страха[195]195
Своего рода порядок существует даже в бандах подростков, о чем Августин знал из своего подросткового опыта и что очень хорошо показано в фильмах The Sopranos, The Wire и Breaking Bad.
[Закрыть]? Мирная вера – единственный источник справедливости для христиан – не может процветать без защиты либо в форме терпимости, как было в Риме до Константина, либо в форме официального эдикта, как было после[196]196
За исключением неудачной попытки императора Юлиана возродить культ прежних богов во время своего недолгого правления, 361–363 гг.
[Закрыть]. Град Божий – это хрупкая структура внутри греховного града земного.
Именно это побуждает христиан вверять власть избранным грешникам – мы называем это «политикой», – и Августин, при всем его благочестии, является политическим философом. Точно так же, как с закатом римской власти он стал авторитарным епископом, готовым идти на меньшее зло (или, как он это называл, «суровость во благо»[197]197
Corey and Charles, The Just War Tradition, p. 57.
[Закрыть]), дабы предотвратить бо`льшее[198]198
Brown, Augustine of Hippo, p. 218–221. Хотя позже Браун смягчил это суждение в свете новых свидетельств, а также признал, что в 1960-е гг., когда он писал первое издание, молодые ученые с особым пылом восставали против научных авторитетов: Brown, Augustine of Hippo, p. 446.
[Закрыть]. Августин боролся с отклонениями от ортодоксии, которые он атаковал почти с ленинским рвением, как будто единственным способом укрепления веры является ее очищение от всех нюансов. Тем не менее в своих взглядах он проявил бо´льшую широту, чем в своей политике: последствия его мысли оказались шире, долговечнее и в конечном счете гуманнее.
Августин заключал, что война, если она необходима для спасения государства, может быть меньшим злом, чем мир, и что можно сформулировать «процедурные условия» ее необходимости. Имела ли место провокация? Исчерпали ли соответствующие властные структуры мирные альтернативы? Будет ли насилие средством, а не самоцелью? Было ли применение силы соразмерным поставленным целям (ибо в противном случае оно уничтожало бы то, что оно призвано защитить)? Могут ли эти человеческие решения (а у Августина никогда не было сомнений в том, что они именно таковы) способствовать достижению какой-либо божественной цели? Так, чтобы град Божий и град земной могли сосуществовать, не ломая при этом грешный мир?
IV
Конечно же, были прецеденты, когда мудрость войны ставилась под сомнение: это делали и Артабан, и Архидам, и Никий, хотя и безуспешно, а обреченные мелосцы у Фукидида высказывали запоздалые опасения в отношении хода уже начатой войны. Но до Августина никто не формулировал условий, которые должно соблюдать государство, решающее начать войну. Это возможно только в рамках инклюзивного монотеизма, ведь только Бог, претендующий на вселенскую власть, может судить души земных правителей. И только Августин в его эпоху столь уверенно говорил от Его имени. Автор «Исповеди», считавший себя ничтожным рабом, прошел долгий путь.
Августин оформил свои стандарты в виде вопросника, а не в виде инструкций. Он знал, как часто пророки громогласно изрекали запреты, чтобы затем отменить их перед лицом необходимости или в соответствии с новыми инструкциями Свыше[199]199
См., например: Mattox, Augustine and the Theory of Just War, p. 48–49.
[Закрыть]. При всей своей суровости в искоренении ересей Августин предпочитал действовать убеждением в вопросах войны и мира: «подумал ли ты об этом?» или «может быть, стоит сделать вот так?» В этой области он не видел необходимости угрожать, и благодаря этому обрел многих последователей на протяжении веков[200]200
Mattox, Augustine and the Theory of Just War, p. 171.
[Закрыть].
Это объясняется тем, что вопросники легче менять с изменением условий, чем инструкции. Моряки сверяются с чек-листами перед выходом в море. На войне их просматривают при планировании операций. Хирургам они нужны, чтобы обеспечить наличие всех необходимых инструментов и ничего не забыть после операции. Пилоты проходят их, чтобы гарантировать безопасный взлет и мягкую посадку – желательно в нужном аэропорту. Они нужны родителям, отправляющимся в поездку с маленькими детьми. Вопросники ставят обычные вопросы в таких ситуациях, которые могут оказаться непредвиденными, и их смысл в том, чтобы, оказавшись в такой ситуации, не быть застигнутым врасплох.
Существенная неопределенность у Августина была связана со статусом душ в граде земном, поскольку лишь самые достойные могут надеяться войти в град Божий. С дохристианскими божествами такие различия проводились редко: в языческих религиях жизнь после смерти была одинаково мрачной и для героя, и для подлеца, и для всех «промежуточных типов»[201]201
Что весьма ярко показывают Гомер и Вергилий, лучшие проводники по потустороннему миру.
[Закрыть]. Но с христианским Богом все не так: поступки человека при жизни приобретают огромное значение после его смерти. Вот почему было так важно вести войну по правилам. Ставки вряд ли могли бы быть выше.
V
Но у вопросников Августина есть свои сложности. Если необходимость вести войны по правилам столь велика, то почему он, подобно белке, прячущей свои запасы, скрыл так много из написанного им на эту тему, так, что потребовалось ждать еще много веков, пока другие мыслители: Фома Аквинский, Грациан, Гроций, Лютер, Кальвин, Локк, Кант – не отыскали, не раскопали, не кодифицировали и не применили идеи Августина к сфере государственного управления[202]202
Обзор этих исследований см. в: Corey and Charles, The Just War Tradition, chs. 4–9.
[Закрыть]? Каким образом он надеялся спасти государства или души, спрятав средства достижения этого спасения? Из «Исповеди» видно, что Августину доступна лучезарная ясность, и то же самое следует из тысяч проповедей, произнесенных им в сане епископа, многие из которых дошли и до нас[203]203
Их высокую оценку см. в: Brown, Augustine of Hippo, p. 491–493.
[Закрыть]. Возможно, в этом и заключалась проблема.
На протяжении второй половины карьеры епископа на Августине лежало очень много обязанностей. Это давало ему право на услуги писцов, которые при записи его мыслей пользовались скорописью[204]204
Lane Fox, Augustine, p. 2–3.
[Закрыть], но это создавало проблему разбора объемных рукописей, ведь у кого было время пройти через все эти записи, организовать их и сделать удобочитаемыми? Августин «тонул» в своих записях подобно тому, как Никсон утонул в тех магнитофонных записях, которые делались по его распоряжению. Поэтому, хотя его идеи влияли на теорию войны на протяжении еще многих веков – у ученых обычно хватает времени на то, чтобы копаться в туманных текстах, – гораздо менее понятно, сдерживали ли они людей в тех войнах, которые велись после него[205]205
См.: James Turner Johnson, Just War Tradition and the Restraint of War: A Moral and Historical Inquiry (Princeton: Princeton University Press, 2014; first published in 1981), p. 121–173.
[Закрыть].
Но тут есть, по-видимому, и более серьезная проблема, которую нельзя было бы решить и самым ясным изложением. Дело в том, что Августин никогда не был последовательным монотеистом[206]206
Здесь я развиваю (боюсь, далее той точки, где она была бы со мной согласна) мысль Джиллиан Эванс: G. R. Evans, “Introduction,” in City of God, p. xlvii.
[Закрыть]. Он поклонялся Разуму не меньше, чем Богу, но в его представлении Разум ограничивает Бога не более, чем он ограничивал Юпитера: «Это невозможно одновременно». И именно в этом пункте противоположности уже смущают Августина.
Почему вообще бывают войны? Они, конечно, говорят о греховности человека, отпавшего от Бога. Но поскольку Бог всемогущ, то и войны должны случаться по Его воле, хотя Августин и утверждает, что Его действия убедительно говорят о Его любви к человеку. Значит, каким-то образом войны должны быть благом для человека: может быть, потому, что он наказывается ими как ребенок для его же блага, или потому, что он переходит со смертью в лучший мир? Но если это так, то как одни войны могут быть справедливы, а другие нет? И зачем вообще устанавливать здесь какие-то нормы? Августин предполагает, что они освещают путь, которым праведники града земного приходят в град Божий, оставляя позади неправедных.
Что же отличает эти качества? Это не пацифизм: Августин считает военную службу необходимой для сохранения государства, без которого христианство не может выжить. Кроме того, эта служба является безусловной: он настаивает на том, что христианские воины обязаны подчиняться приказам и могут лишь надеяться, что они будут отвечать требованиям справедливости. Соответствие же их этим требованиям зависит от обстоятельств, которые может определить только Бог. Поэтому даже несправедливые войны, если они ведутся ради Христа, могут становиться справедливыми[207]207
Michael Gaddis, There Is No Crime for Those Who Have Christ: Religious Violence in the Christian Roman Empire (Berkeley: University of California Press, 2005), p. 131–150.
[Закрыть]. На Мелосе Августин мог бы принять сторону афинян. Он – теологический доктор Панглосс[208]208
Незабвенный антигерой вольтеровского «Кандида», который полагал, что все, даже Лиссабонское землетрясение 1759 г., случается к лучшему. Рассуждения Августина, изложенные более точно, чем я могу это сделать здесь, см. в книге: Mattox, Augustine and the Theory of Just War, p. 32–36, 56–59, 94–95, 110–114, 126–131.
[Закрыть], видящий в худшем из того, что может произойти, лучшее из возможного.
По крайней мере, так это представляется. Но, пожалуй, компромисс возможен там, где уже нельзя опираться на вопросники Августина, там, где есть реальный простор для маневра. Делая выбор между порядком и справедливостью, войной и миром, кесарем и Богом, вы склоняетесь в определенном направлении. Вы соразмеряете устремления с возможностями, потому что у Августина справедливость, мир и бог относятся к первым, а порядок, война и кесарь – ко вторым.
Но такое соразмерение, в свою очередь, предполагает их взаимозависимость. Справедливость недостижима в отсутствие порядка, мир может требовать войны, кесарь должен быть милостив – возможно даже, как Константин, обращен – чтобы человек мог достичь Бога. Каждая возможность делает достижимым и некоторое устремление, подобно тому как у Сунь-цзы практика ограничивает применение принципов. Но в чем суть этого ограничения? Мне кажется, эта суть – в соразмерности: применяемые средства должны соответствовать поставленной цели или, по крайней мере, не извращать ее. В этом и состоит «склонение» Августина: он склоняется к логике стратегии, которая выходит за пределы времени, места, культуры, обстоятельств и разницы между святыми и грешниками.
VI
Уже давно считается, что Макиавелли жарится в аду и, что еще хуже, неплохо себя чувствует[209]209
Sebastian de Grazia, Machiavelli in Hell (New York: Random House, 1989), p. 318–340.
[Закрыть]. Такая мысль не пришла бы в голову ни Августину, ни многим из его современников. Гиппон-Регий и Флоренция, где в 1469 году родился и провел большую часть своей жизни Никколо Макиавелли, были географически не так уж далеко друг от друга: оба города лежали почти на ближней периферии широко распростершейся Римской империи. Однако к концу XV века роль Рима сильно изменилась. Его императоры стали папами, которые управляли двумя абсолютно разными империями: слишком мирским градом земным, ограниченным папской областью в Центральной Италии, и Римско-католической церковью – вселенским градом Божиим, находившимся в неуютном соседстве со светскими державами Центральной и Западной Европы, некоторые из которых уже распространяли свою власть – отчасти под присмотром Рима – до границ Южной и Юго-Восточной Азии, а также на недавно открытые земли, которые скоро стали называться Америкой.
Из своего кабинета высоко над площадью Синьории во Флоренции молодой Макиавелли, который становился все более влиятельным функционером в правительстве этого города-государства, мог видеть празднества в честь Америго Веспуччи: Веспуччи были флорентийцами, и он был знаком с этим семейством. Уже в первом предложении своего «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», которое он начал писать в 1515 году, уже впав в немилость, он говорит, что «изобретать новые правила и порядки всегда было не менее опасно, чем искать неизведанные земли и моря». Однако причина этого не в гневе Господнем, а в человеческой зависти. Августина беспокоило и то и другое. Макиавелли, недавно заточенный в тюрьму и подвергнутый пыткам, боится Бога меньше, чем человека[210]210
Niccolò Machiavelli, The Discourses on the First Ten Books of Titus Livius, translated by Leslie J. Walker, S. J., with revisions by Brian Richardson (New York: Penguin, 1970), p. 97; Никколо Макиавелли, “Рассуждения о первой декаде Тита Ливия”, в: Никколо Макиавелли, Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Государь, перевод М. А. Юсима (Москва: РОССПЭН, 2002), с. 9. См. также: De Grazia, Machiavelli in Hell, p. 21. Лучшая биография из недавно написанных: Miles J. Unger, Machiavelli: A Biography (New York: Simon and Schuster, 2011).
[Закрыть].
Не то чтобы он не верил в Бога или не почитал его. Бог часто упоминается в его текстах – это было вполне принято в той культуре, в которой он вырос. Но, может быть, боги древних и христианский Бог, как осторожно намекает Макиавелли, – это одно и то же? Он редко ходит к мессе, что вызывает толки – и даже шутки – среди его друзей. Кроме того, Макиавелли никогда не берется говорить от имени Бога и не пытается объяснить его, как это делает Августин, если не считать единственной важной фразы в «Государе» – книге, за которую Макиавелли, как полагают многие, и горит в аду: «Бог не желает брать на себя все»[211]211
Machiavelli, The Prince, p. 103; Макиавелли, “Государь”, с. 437. См. также: De Grazia, Machiavelli in Hell, p. 58–70.
[Закрыть].
Непонятно, почему это место вызвало протесты – ведь Макиавелли тут же осмотрительно добавляет: «…дабы не лишить нас свободной воли и той части славы, которая принадлежит нам». Разве не Бог придумал свободную волю? Разве она не должна вести к спасению и славе тех, кто его достигнет? Для Августина такого рода вопросы шли против его веры во всемогущество Бога: как возможна свобода в предопределенном мире? Чувствуя себя неуютно с этими противоположностями, он попытался примирить их, но потерпел здесь колоссальное поражение[212]212
То, как это произошло, подробно объясняется в книге: Brown, Augustine of Hippo, p. 400–410.
[Закрыть]. Макиавелли, в отличие от него, воспринимает все это намного спокойнее. Если Бог сказал, что воля свободна, значит, Он именно это и имел в виду. Не слишком ли самонадеянно пытаться ограничить Его пределами разума? Не станет ли человек свободнее, отказавшись от этих попыток?
Отсюда можно заключить, следуя классификации Исайи Берлина, что Августин был «ежом», а Макиавелли – «лисой». Вдохновляясь идеей Ф. Скотта Фицджеральда, можно сделать вывод о том, что Макиавелли обладал первоклассным умом и мог, мысля, удерживать в сознании противоположные идеи, и что Августин, при всей его добросовестности, все-таки отставал от него в этом отношении. Ни одно из этих предположений не кажется невероятным. Однако более важным различием может быть различие темпераментов: заимствуя выражение Милана Кундеры[213]213
Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, translated by Michael Henry Heim (New York: Harper and Row, 1984); Милан Кундера, Невыносимая легкость бытия (Москва: Иностранка, 2014).
[Закрыть], можно сказать, что Макиавелли находил «легкость бытия» выносимой. Для Августина же – может быть, оттого что в юности он перенес травму, описанную в его истории с грушевым деревом, – она была невыносимой.
VII
Как сказали бы мои студенты, это значит научиться «не париться», и Макиавелли, отделенный от них несколькими веками, употребляет глагол, имеющий тот же смысл:
Мне небезызвестно мнение, которого придерживались и придерживаются многие, о том, что течением мирских дел целиком управляют судьба и Бог, и люди, опираясь на свое разумение, не только не могут изменить его, но и не могут никак на него повлиять. Отсюда можно было бы сделать вывод, что не следует особенно упорствовать в делах, а предпочтительнее все предоставить велению случая… Обдумывая это, я иной раз в какой-то мере склоняюсь к названной точке зрения.
Но все же он не хочет стать легким перышком, добычей всех ветров. «Тем не менее, дабы не подавлять нашей свободной воли, я допускаю истинность утверждения, что судьба наполовину распоряжается нашими поступками, но другую половину или почти столько оставляет нам». Пятьдесят процентов на судьбу, пятьдесят процентов на волю человека – и ничего на волю Бога. Человек, как это ни рискованно, предоставлен сам себе[214]214
Machiavelli, The Prince, p. 98; Макиавелли, “Государь”, с. 432–433. Также см.: Unger, Machiavelli, p. 218–219.
[Закрыть].
Макиавелли знает из истории наводнений реки Арно во Флоренции, что реки способны причинять огромные разрушения. Но люди, если они дальновидны, могут уменьшить эту опасность, используя насыпи и плотины[215]215
В 1504 г. Макиавелли даже поддержал придуманный Леонардо да Винчи план изоляции Пизы, города-соперника Флоренции, путем поворота русла реки Арно. Проект постигла неудача, вызванная сочетанием топографических ошибок, неожиданных дождей и диверсий хитрых пизанцев. Это был один из нескольких жестоких провалов, положивших конец служебной карьере Макиавелли. Подробно об этом см.: Unger, Machiavelli, p. 143–146.
[Закрыть]. Бог может одобрять идею, но гидравликой он сам не занимается. С государствами, говорит Макиавелли, дело обстоит примерно так же. Если они управляются плохо, их быстро губит – в результате внутренних мятежей или внешних войн – человеческая жадность. Если же государства управляются в духе того, что Макиавелли называет непереводимым словом virtù[216]216
Вдумчивый переводчик Макиавелли объясняет многие слова автора, не имеющие эквивалентов в английском языке: Harvey C. Mansfield, “Introduction,” in Machiavelli, The Prince, p. xxv. Более полный анализ этого термина см. в: Philip Bobbitt, The Garments of Court and Palace: Machiavelli and the World That He Made (New York: Grove Press, 2013), p. 76–77.
[Закрыть], – то они могут если не всесторонне контролировать, то хотя бы ограничивать роль судьбы или случая.
Для этого нужно уметь подражать, приспосабливать идеи к новым условиям и уметь учитывать внешние влияния. Макиавелли одобряет изучение истории: «люди все время идут по путям, проложенным другими, и подражают им в своих поступках, но не могут следовать чужим путем и достичь той же доблести, что и образцы, поэтому разумный человек должен все время шествовать по тропинкам, протоптанным великими людьми, и подражать выдающимся, чтобы в отсутствие равной доблести сохранялось хотя бы ее подобие». Это и есть приспособление идей к новым условиям: это «подобие» есть Фукидидово различение между прямым повтором и примерным сходством, которое с течением времени лишь усиливается. А что значит «учитывать внешние влияния»? «Опытные лучники, – говорит Макиавелли, – зная удаленность места, в которое они целятся, и дальнобойность лука… выбирают цель гораздо выше мишени, но не для того, чтобы пустить стрелу на такую высоту, а для того, чтобы, прицелившись столь высоко, достичь желаемого»[217]217
Machiavelli, The Prince, p. 22. См. также: Unger, Machiavelli, p. 33–34.
[Закрыть]. Отклонение неизбежно – определенно из-за силы тяжести, возможно, из-за ветра, и кто знает, из-за чего еще? А цель, вероятно, будет двигаться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?