Текст книги "Вольтер"
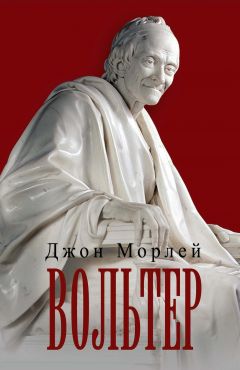
Автор книги: Джон Морлей
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В этом отношении история находится в таком же, ни лучше, ни хуже, положении, как и новейшее объяснение происхождения и состояния всего органического мира. Здесь все мы подходим к конечному выводу, по которому все есть не что иное, как случайность. Естественный отбор, или переживание наиболее приспособленного в мировой борьбе за существование, считается в настоящее время самыми компетентными судьями главнейшей причиной, обусловливающей уничтожение, сохранение и распределение органических форм на земле. Но появление как тех форм, которые являются победителями, так и тех, которые погибают, все еще остается тайной, а для науки случайность и тайна, и сами по себе и временно, есть одно и то же. Короче говоря, существует неизвестное начало, лежащее в основании разнообразия форм творения. Так и в истории, возвышение Римской или Итало-Греческой империи было спасением для всего Запада, но тем не менее появление в тот момент, когда анархия угрожала быстрым разрушением Римскому государству, человека, способного понять наилучшим образом сущность необходимого нового строя, имело такой же характер случая, как и непоявление людей с подобной же силой и с таким же предвидением в эпохи столь же важных кризисов предшествующих и позднейших. Появление такой великой творческой силы, какой был Карл Великий в восьмом столетии, едва ли может убедить нас в том, что раз потребность существует, то она неизменно вызывает такого руководителя, какого требуют условия времени; так как стоит только вспомнить, что условия конца восьмого века не отличались существенным образом от условий начала шестого века и однако же в более раннюю эпоху не появлялось ни одного преемника Теодориху, способного продолжать его работу. Достаточно исследовать происхождение и основные условия тех типов цивилизации, по которым управляются западные общества и по которым совершается их движение вперед, чтобы заметить в этих самобытных условиях что-то неисповедимое, некоторый элемент того, что является как бы случайным. Никакая наука до сих пор не может еще объяснить нам, как из всего предыдущего ряда существ произошло такое видоизменение, как человек; тем более история не в силах объяснить закон, по которому произошли наиболее поразительные видоизменения в сфере умственных и душевных качеств в роде человеческом. Появление видоизменений как одного, так и другого рода есть факт, который не может быть исследован до основания. Трудно вообразить себе земной шар не населенным людьми или же населенным, как может случиться в отдаленном будущем, существами, обладающими настолько более усовершенствованной организацией, чтобы вытеснить человека. Трудно также представить себе, чем была бы в настоящий момент Западная Европа и все те обширные страны, которые озаряются светом ее, если бы природа или неведомые силы не произвели Лютера, Кальвина или Вольтера.
То, что во Франции по смерти Людовика XIV явился человек со всеми теми особенными умственными дарованиями, какими обладал Вольтер, соединявший их с неутомимой деятельностью, пользовавшийся, кроме того, долгой жизнью, что имел возможность развить свои умственные силы до самого крайнего их предела, какой только возможен, – это была одна из счастливых случайностей. Такая комбинация физических и умственных условий, столь удивительно благоприятствовавших развитию вольтеровских идей, была обстоятельством, не зависящим от состояния окружающей атмосферы, – обстоятельством, которое могло быть по справедливости названо провиденциальным. Если бы Вольтер видел все то, что он видел действительно, но был бы ленив, или если бы он был столь же проницателен и столь же деятелен, каким он был действительно, но прожил бы лишь пятьдесят лет вместо восьмидесяти четырех, – вольтерьянство никогда бы не пустило глубоких корней[8]8
Comte A. Philosophie positive, p. 520.
[Закрыть]. Но благодаря его гению, трудолюбию и долговечности, при тех условиях, какие имели место в действительности, широко распространившееся движение стало неизбежностью.
Итак еще раз, мы не можем выбирать. Те, кого темперамент или воспитание делают сторонниками нерушимого порядка, не в силах дать прогрессу постепенное и гармоническое движение, какое наиболее им нравится и какое они, быть может, и вправе считать движением, наилучше обеспечивающим достижение цели.
Освобождение человеческого разума, подобное вольтерьянству, может быть только результатом движения многих умов, а между ними лишь немногие действуют под влиянием умеренных, логических и научных умозаключений, масса же ищет крайних выводов. Следуя внушениям своей фантазии и симпатий, а не строю дисциплинированного ума, люди поражаются только тем, что ярко и колоссально. Они хорошо знают свои собственные нужды, а лучшие стремления их остаются безмолвными. Их живые, но незрелые мысли бродят во мраке, но под влиянием инстинкта они устремляются вперед – в ту сторону, где тьма, как кажется им, начинает рассеиваться. Они плохие критики и не искусны в анализе, но когда настает время, они никогда не ошибаются узнать слова: свобода и истина, с каким бы несовершенством эти последние ни были высказаны. Никогда какому-либо вполне лживому пророку не удавалось еще обмануть целый ряд поколений, не удавалось разделить нацию на две резко отличающиеся половины. Вольтер же на самом деле успел в этом и на целое столетие разделил самые эмансипированные нации запада на два лагеря. Этого не в силах сделать тот, кто только осмеивает все и кто так же быстро исчезает, как промелькнувшая молния, а не становится центром солнечного света.
Существует много различных направлений вольтерьянства, но ни одно из них, как бы оно ни было близко еще к великому циклу старых идей, не может прямо или косвенно не считать себя обязанным первому освободителю, хотя бы в этом менее всего желали бы признаться представители. Все писавшие о Вольтере обращали внимание на бесчисленное множество изданий его сочинений – множество, в сравнение с которым не могут идти никакие другие издания авторов в такой же самый промежуток времени. Он один из самых плодовитых писателей, и вместе с тем издания его сочинений принадлежат к самым дешевым. Вы можете приобрести одну из книг Вольтера за несколько полупенсов, и хозяин дешевых книжных лавок в дешевых кварталах Лондона и Парижа скажет вам, что такая дешевизна нисколько не зависит от недостатка спроса, но как раз напротив. Так ярко для многих даже в настоящее время горит еще этот светоч, который с научной точки зрения должен считаться потухшим и для многих на самом деле уже давно потух и заменен другим. Причина такой жизненности заключается в том, что сам Вольтер жил полной жизнью в то время, когда работал над своими творениями, и в том, что движение, вызванное его творчеством, еще не исчерпало всего содержания.
Чем же следует характеризовать это движение? Историки католической церкви обыкновенно начинают свое повествование рассказом о растлении человеческой природы и общественном разложении, предшествовавших новой религии. Подобным же образом и значение реформации может быть понято только тогда, когда мы обратим внимание на всю необъятную массу суеверия, несправедливости и упорного невежества, которые покрыли теологическую идею католической церкви столь толстой корой, что сделали ее совершенно негодной для руководства обществом, так как она с одинаковой силой отталкивала как интеллектуальное мышление, так и нравственное понимание, как знание, так и чувства лучших и наиболее развитых людей того времени. Таким же точно путем может быть понято и оценено и громадное значение Вольтера. Франция переросла уже формы своей средневековой жизни. Дальнейшее ее общественное развитие было роковым образом приостановлено тесными оковами старого строя, которые жали ее и упорно впились в нее, подобно прожорливому паразиту, извлекающему из корней все их питательные элементы, разъедающему ткань и высасывающему все соки живого дерева. Часто рисовали эту картину, и нам нет надобности пытаться еще раз воспроизвести ее во всех подробностях. Все общественные силы и весь общественный строй были в союзе с заклятыми и патентованными врагами света, все интересы которых, порождаемые желанием разделить власть и богатство, заключались в одном: удержать разум в подчиненном положении. И что было еще важнее, сама нация не проявляла никакого признака, что она сознает существование необъятой области знания, лежащей непосредственно перед ней, и еще менее – хотя бы малейшего желания или намерения достигнуть прочного обладания этой областью. Та умственная пытливость, которая так скоро дала столь удивительные плоды, не обнаруживала еще признаков жизни. Эпоха необыкновенной деятельности только что закончилась; творческий и артистический гений Франции поднялся до высочайшей степени, какой он когда-либо достигал раньше начала нашего столетия. Великий век Людовика XIV был веком блестящей литературы и неподражаемого красноречия. Но, несмотря на плодотворное семя, посеянное Декартом, это был век авторитета, протекции и патронатства. Следовательно, все те, которые находились вне покровительства, то есть все те, которые ничего не могли придать к блеску и достоинству церкви и пышности двора, тем самым подпадали под давление гнета. Это не должно, однако, затемнять для нас действительное величие более ранней и лучшей поры правления Людовика XIV. Указывали уже на то, что существеннейшая заслуга Людовика XIV перед потомством заключается в покровительстве, которое он оказывал Мольеру; основание же, почему это заслуживает особой похвалы, состоит в том, что покровительство оказывалось, несмотря на резко критический характер сочинений Мольера, направленных как против ханжи и лицемера, так и против царедворца. Но этот факт, заключая в себе элементы критики и будучи потому наиболее ценным достоянием того времени, не имеет значения для общей положительной характеристики века Людовика. Мольер является критиком случайно; в нем нет ничего органически отрицательного, и его комедии – просто изображение в драматической форме особенностей данной цивилизации. Нарисованные им ханжи и нахалы не делают из него в большей мере разрушительной и критической силы, чем Боссюэ, который восставал против греха и излишеств человеческого тщеславия. Эпоха эта была от начала до конца верна себе и своим идеям. Сам Вольтер обратил внимание на эти черты и удивлялся им. Величайший из всех разрушителей, он понимал, что все наши усилия направлены именно к достижению таких моментов, какой представляло то время кратких моментов веры и самоуверенности. Мы боремся из-за того, чтобы другие могли наслаждаться; и многие поколения борются, спорят из-за того лишь, чтобы одно из них могло считать кое-что за вполне доказанное и проверенное.
Слава века Людовика XIV состояла в высшем развитии тех идей, которые немедленно вслед за тем потеряли свою прелесть, значение и силу влияния на человеческие умы. Благородная и почтенная иерархия, августейший и могущественный монарх, двор с веселой и утопающей в роскоши знатью – все лишилось обаяния, когда пред изумленными взорами людей внезапно предстал страшный фантом, полный реальной действительности, – фантом гибели нации. От речей Боссюэ до «Détail de la France» Буагильбера, от мягких напоминаний с ораторской кафедры о том, что даже величество должно умереть, до жалости Вобана к бедствиям простого народа[9]9
Вобан и Буагильбер: см.: Daire E. Les Economistes f nanciers du XVIII siècle. 1851.
[Закрыть]; от Корнеля и Расина до художественного изображения Лабрюйером[10]10
Лабрюйер (La-Bruyère, 1639–1696), знаменитый своими «Характеристиками». См. другие подобные же цитаты у Тэна: Происхождение общ. строя современной Франции. СПб. 1880. С. 429 и след.
[Закрыть] «некоторых диких животных мужского и женского пола, рассеянных по полям, – грязных, истощенных, опаленных солнцем, прикованных к той земле, которую они копают и пашут с непоколебимым упорством животных, которые обладают некоторой способностью произносить членораздельные звуки и, подымаясь на ноги, предъявляют человеческое лицо, да и на самом деле суть люди»: этот контраст существовал уже в течение целых поколений. Но физические бедствия, причиненные войнами Людовика XIV, усилили темные стороны, а блеск гения, обреченного на прославление традиционного авторитета и строя того времени, усилил, в свою очередь, яркость светлых сторон, – и давно существовавший контраст вдруг ясно предстал пред изумленными взорами немногих; в то же время медленно стала выдвигаться вперед, хотя и в бледных очертаниях, новая и глубочайшая проблема, имеющая в них поднять нашу цивилизацию до высоты, о которой немногие даже и в настоящее время могут дать себе отчет.
Нет основания предполагать, что Вольтер постоянно видел перед собой это поразительное и ужасное зрелище; первый о нем заговорил Руссо и, начиная с Руссо, ни государственные люди, ни философы, обладающие достаточной проницательностью, чтобы видеть даже и то, чего они страшились или что ненавидели в душе, не выпускали уже из виду задач относительно реорганизации общественных отношений. Задача же Вольтера была другого рода, она имела подготовительный характер: сделать популярным гений и авторитет разума. Основы общественного здания были таковы, что прикосновение к ним разу ма имело роковое значение для всего строя, который тотчас же и начал распадаться на мелкие куски. Авторитет и обычай оказывают упорное и непреодолимое сопротивление разуму лишь до тех пор, пока учреждения, которым они покровительствуют, действительно приносят явную пользу обществу. Но по смерти Людовика XIV стало заметно пропадать не только очарование и блеск, но и сознание общественной пользы духовного и политического абсолютизма. Духовный абсолютизм оказывался неспособным поддерживать даже наружным образом согласие и порядок в теологическом отношении, а политический абсолютизм благодаря своим чрезмерным издержкам, своему всевозрастающему стремлению подавлять личную энергию и мысль в общественных делах, своей международной политике, которая являлась пустой и бесплодной по своим целям, злополучной и неспособной в выборе средств, быстро расточал источники национального благосостояния и злонамеренно подрывал самый корень общественной жизни. Внести разум в столь тяжелую атмосферу значило, употребляя старинное образное выражение, впустить воздух в комнату с мумиями. А то, что принес с собой Вольтер, было именно разум, – слишком, если хотите, односторонний, слишком задорный, чересчур насмешливый и неумолимо рассудительный, но все же разум. Кто измерит последствия того различия, которое имело место в истории двух великих наций: во Франции духовный и политический абсолютизм пал пред мощным гением чистого разума, тогда как в Англии он уступил под давлением общественной выгоды ввиду протестов против монополий, беневоленций[11]11
Беневоленции (benevolenses) – подать, взимавшаяся в прежнее время в Англии под видом добровольного приношения.
[Закрыть] и корабельной пошлины (shipmoney). Во Франции теория завладела всеми общественными вопросами, прежде чем был сделан хотя один шаг к ее приложению, тогда как в Англии общественные принципы прилагались прежде, чем они получали какое-нибудь теоретическое оправдание. Во Франции первым действительным врагом принципов деспотизма был Вольтер – поэт, философ, историк, критик; в Англии – кучка простых дворян (squires). Правда, традиционный авторитет во Франции был подорван хотя отчасти, но роковым образом еще до Вольтера одним из самых смелых мыслителей и одним из самых проницательных и проникнутых скептицизмом ученых; под него подкапывались и писатели, обладавшие остроумной беззаботностью Монтеня, и апологисты-рационалисты, подобные Паскалю, давшие место и значение самому сомнению, указав на весь мрак и безбрежность пучин его. Трактат Декарта о «Методе» был издан в 1637 году, а рассуждение Бейля о «Комете» (Bayle’s «T oughts on the Comet»), первый удар в ряду критических нападений на предрассудки и авторитет в делах веры, было опубликовано в 1682 году. И метафизик, и критик – оба выступили на путь исследования, и каждый настоятельно стремился или найти основания для веры, или же обнаружить с фатальной ясностью отсутствие таковых. Декарт занялся умозрительными настроениями и склонялся к тому, чтобы примирить известный ряд идей об отношениях между человеком и вселенной и о виде вселенной и ее образовании с логикой разума. Бейль, предшественниками которого и окружающей средой были протестанты, заботился не о замене одних доказательств другими, но о том, чтоб иметь ясное доказательство по отношению ко всему, существование чего может быть допущено. Я не имею в виду здесь проводить какую-либо параллель или делать намек на равенство между редким гением Декарта и относительно менее совершенными талантами Бейля. Какое бы большое значение мы ни придавали возрождению мысли, произведенному Бэконом в Англии, или же тому, которое было вызвано блестящей группой экспериментаторов в Италии, но, однако, Декарт отмечает собой новую эпоху в развитии человеческого ума, потому что он резко отделил науку от теологии и установил систему знания, а Бейль имеет значение лишь в истории развития критицизма. Тем не менее хотя и далеко различными путями и при громадном несходстве умственных способностей, но и тот и другой губительным образом затронули идеи, господствовавшие во Франции.
Однако же удар, окончательно рассеявший и уничтоживший эти идеи, был нанесен не Декартом и Бейлем, а непосредственно Вольтером и косвенно под влиянием Англии. В семнадцатом столетии почва еще не была достаточно подготовлена. Социальные требования еще не тяготели над обществом. Органы власти были все еще в полной силе и выполняли свои обязанности не с тем механическим равнодушием, каким характеризуется следующее столетие. Принятию скептических идей, как идей дружественных и освободительных, необходимо должно было предшествовать продолжительное знакомство с ними как с идеями враждебными. Они, быть может, никогда ни в каком обществе не получали значения, пока не находили себе союзников во вражеском лагере официальной ортодоксии, и притом, когда эта ортодоксия была еще в состоянии оказывать им сильное общественное сопротивление. Универсальные способности Вольтера создали одно из самых могущественных орудий для проведения этих смелых и пытливых идей в среду людей различных классов и состояний, считая в том числе как многочисленный круг обычных читателей и посетителей театра, так и более ограниченный – знати и правителей; и еще более: блеск и всесторонность его дарований привлекали и возбуждали большинство писателей того времени, давали им определенное направление и сообщали им в некоторой степени свойственную только Вольтеру ловкость в проведении принципов рационалистического мышления.
В результате всего этого оказалось, что громадное число лиц, бывших официально врагами свободной критики, сделались в душе соумышленниками и соучастниками великого заговора. Этот факт, в соединении с независящими от него причинами, как неспособностью лиц, державших власть в своих руках, так или иначе отвечать на вопиющие общественные потребности того времени, был причиной того, что стены Капитолия оказались подкопанными и беззащитными, и только немногие из священных гусей, все еще оставшихся верными, бесполезно гоготали. В первые века влияние христианства, как на это часто указывали, сказывалось даже на тех людях, которые менее всего или вовсе не были тронуты его учением, во всем, что только было в них светлого и правдивого. Еще более верно, что личность Вольтера благодаря ее необыкновенной силе наложила свой отпечаток на склад и жизнь даже тех, кто наиболее упорно держался старого порядка. Поборники авторитета принуждены были поневоле защищать свое дело непривычным для них орудием – рационализмом, и если бы не было Вольтера-писателя, то авторитет никогда бы не имел на своей стороне такого бойца, как, например, Жозеф де Местр, самый знаменитый и способный из реакционеров. В ответ на излюбленное утверждение защитников католицизма, что все хорошее в его врагах есть результат того самого учения, которое они отвергают, можно, по меньшей мере, столь же справедливо утверждать, что заметное изменение к лучшему в самом духовенстве и в его стремлениях в период времени между регентством и революцией[12]12
«Je ne sais si, à tout prendre, et malgré les vices éclatants de quelquesuns de ses membres, il у eut jamais dans le monde un clergé plus remarquable que le clergé catholique de France au moment ou la Révolution l’a surpris, plus éclairé, plus national, moins retranché dans les seu es vertus privées, mieux pourvu de vertus publiques et en même temps de plus de foi: la persécution l’а bien montré». («И если все принять во внимание, то, несмотря на все поразительные пороки некоторых из его членов, я не знаю, было ли когда-нибудь в мире духовенство более замечательное, чем католическое духовенство Франции в тот момент, когда ее охватила революция, – более просвещенное, более народное, менее удовлетворяющееся одними личными добродетелями, наиболее одаренное добродетелями общественными и в то же время верой: преследование ясно показало это».). De Tocqueville A. Ancien régime, liv. II, сh. II.
[Закрыть] есть услуга, невольно оказанная католицизму теми справедливыми и либеральными идеями, распространению которых так могущественно содействовал Вольтер. Де Местр сравнивает разум, отрицающий теологическое предание, с ребенком, бьющим свою кормилицу; но то же самое сравнение и в такой же мере можно применить и к вере, оказавшей неблагодарность тому разуму, который ее очистил и возвысил.
В перевороте, произведенном Вольтером, наиболее поразительно то, что это единственный в истории великий переворот, который ничем не был связан с аскетизмом и совершил все свои победы, не прибегая к этому средству столь могущественному, непреодолимому и удобному, но вместе с тем и столь опасному. Такие революции всегда бывают реакцией против всеобщей испорченности нравов и мрака невежества. Они являются энергическим протестом наиболее возвышенных способностей и стремлений человеческой природы; но в продолжение некоторого времени – и это как бы неизбежное следствие всякого могучего движения – они, кажется, всецело сосредоточиваются на уничтожении тех партий противоположного лагеря – партий, которые, по-видимому, внесли жизнь в эту среду унижения и позора. С непреклонным гневом и решимостью в душе люди вовсе не заботятся о том, чтобы объяснять, сглаживать резкости и поступать сдержанно, и под влиянием одного из наиболее поразительных инстинктов нашей природы прибегают к системе умерщвления плоти, которая, по их мнению, может очистить души от заразы, царящей вокруг грубости. В таком восторженном состоянии духа, находят спасение только в удалении из общественной жизни, углублении в дела личной совести и суровом отрешении от всех мирских желаний. Немного найдется таких типичных честных людей, которыми по временам – даже в эпохи, наименее проникнутые аскетическим и реакционным духом, и в то время, когда с точки зрения более непосредственной и широкой теории все идет нормальным ходом – не овладевало бы подобное состояние духа: страсть к простоте, строгость к самому себе, дисциплина, во всех мелочах, точная регламентация и действительная чистота жизни.
Вольтерьянство, однако, было чуждо малейшего оттенка аскетизма. Паскаль заметил, что умеренные мнения, именно потому, что они умеренные, так приятны людям, что было бы удивительно, если б они когда-либо оказались неприятны. На это Вольтер возражал: «Напротив, разве опыт не доказывает, что влияние на умы приобретается только в том случае, когда предлагают людям сделать что-либо трудное и даже невозможное, или же уверовать в его возможность? Предложите им что-либо лишь просто не противоречащее здравому смыслу, и весь мир скажет вам: «да мы это и сами знаем». Но укажите им на что-либо трудное, непрактичное, изобразите божество вечно вооруженное громом, заставьте кровь литься пред алтарями – и вы обратите внимание толпы, и каждый скажет о вас: «он, несомненно, прав, иначе он не проповедовал бы так смело столь удивительные вещи»[13]13
«Rem, sur les Pensées de M. Pascal». Oeuvres, vol. XLIII, p. 68.
[Закрыть]. Итак, влияние Вольтера вытекало из обращения его не к тем сторонам человеческой природы, на которых строят дело свое приверженцы аскетизма; напротив, прямо и косвенно он указывал на полное проявление, на всестороннюю деятельность всех способностей человеческой природы, и это ключ ко всему его учению. Он не обладал ясностью и спокойствием эллинского миросозерцания, но зато он обладал эллинской восторженностью во всякой сфере умственной деятельности, и эту смелую пытливость духа он делал общим достоянием.
Вспомним, что вольтерьянство прежде всего и по непосредственному своему значению было только умственным движением, так как вначале оно явилось прямой реакцией против подчинения умственной стороны человеческого духа стороне нравственной, – подчинения, которое было доведено до крайности. Истинны ли наши мнения, вполне ли они отвечают существующим фактам, не противоречат ли друг другу? Сияет ли нам разум неподдельным светом знания и поддерживаем ли мы более всего нашу склонность к критическому анализу, усовершенствованию и распространению знания и средств его приобретения? Вольтерьянство имело в виду эти вопросы. Система же, для которой все это было резкой антитезой ее собственной формулы, всегда, даже и в наименее мрачных своих выражениях, зорко оберегала обширный круг наиболее важных фактов от проницательного взора того духа исследования, которым благодаря вольтерьянству люди научились пользоваться при обсуждении всякого предложенного им положения.
В течение многих столетий истину понимали как природу реального, всеобщего (real, universal), о которой люди имели полное представление. Истина органически была одна; отношения людей ко всему сверхъестественному, их взаимные отношения друг к другу, отношения вещей во внешнем мире – все постигалось в едином синтезисе, в пределах которого и подчиняясь которому совершалось всякое умственное движение. Постепенно развивающийся дух исследования разрушил этот синтезис, и философы, занимающиеся упорно не одними только естественнонаучными изысканиями, перестав считать за неоспоримую исходную точку то, что истина была их вполне достоверным достоянием, пошли двумя различными путями. Люди одного склада ума стали сомневаться в том, есть ли истина нечто на самом деле существующее и возможно ли для человечества раскрытие ее. Мыслители другого склада, принимая эту доктрину невозможности для человеческого разума познать и доказать истину, приходили к иному выводу; они возвращались назад и заключали, что, следовательно, древнее предание содержит в себе именно ту достоверную истину, обладание которой было признано невозможным для человеческого знания. Этот косвенный способ снова возвратить себе то положение, от которого они сами, по собственному своему разумению, отказались, был невозможен для такого живого и прямого ума, каков был ум Вольтера. Как бы ни был ум его полон ложными понятиями в разных областях знания – о племени, о спросе и потреблении и в особенности о пещерной жизни, – во всяком случае он был более свободен, чем у большинства и, конечно, чем у большинства этих подначальных приверженцев разных школ, от влияния театральных идолов и от тех двух крайностей, из которых одна слишком поспешно строит положительную и иерархическую систему знаний, а другая впадает в скептицизм и неопределенные изыскания безграничного[14]14
Bacon F. Novum Organum. § 67.
[Закрыть].
Благодаря такой особенности умственного склада Вольтера – называйте ее пагубной и слепой ограниченностью или же благоразумной и гармонически развитой ясностью ума – три из наиболее влиятельных школ современного мышления осудили Вольтера с беспощадной жестокостью. Всякий, кто отстаивает какую бы то ни было систему, является врагом знаменитого человека, разрушившего господствовавшую в его время систему и такими средствами, которые с одинаковой силой и так же непосредственно могут быть направлены и против всякой другой системы. Всякий, кто только полагает, что мы уже переворачиваем последний лист книги познания, какое бы заглавие ни стояло на ней, искренно и всецело ненавидит направление ума и побуждения человека, всю свою жизнь думавшего, что он и его поколение были первыми пионерами, которые, сбросив с себя цепи, приблизились к солнечному свету и получили возможность созерцать безграничный мир реальных вещей. С этого времени приверженцы западноевропейских религиозных учений стали питать неумолимое презрение и ненависть к врагу, который более всего способствовал низведению их учений, некогда столь гордо торжествовавших, к данному положению, когда они принуждены под разными предлогами и с весьма устарелыми притязаниями защищать благоразумную терпимость на сравнительно скромной почве. Соглашаемся, однако, что эта вражда не покажется чрезмерно поразительной, если только мы вспомним о вызовах со стороны Вольтера.
Многие, как из тех, которые питают хотя малейшую надежду на будущее восстановление древнекатолической веры, так и из тех, которые нисколько не сожалеют о ее падении, относятся менее враждебно к иезуитам, чем к Вольтеру. Конт, например, выработавший доктрину с соответствующей выведенной из нее системой жизни, по которой главный принцип метода общественной деятельности состоял в том, чтобы разрушать созидая, прямо отводит второстепенное место требованиям Вольтера относительно свободы наших желаний[15]15
Один или два критика ставят мне в вину это место как не вполне справедливое в отношении того великого мыслителя, к которому оно относится. Мои обязательства к этому мыслителю, посредственные и непосредственные, столь велики, несмотря на полную для меня невозможность следовать ему в его идее общественного переустройства, что мысль о том, что и я могу нечто прибавить к сумме ложного толкования, жертвами которого были сам Конт и его доктрины, особенно неприятна мне. Вот почему я привожу здесь одно место, в котором Конт, кажется, отзывается несколько сочувственнее о Вольтере, чем в словах, указанных в тексте: «Toutefois, l’indispensable nécessité mentale et sociale d’une telle élaboration provisoire laissera toujours, dans l’ensemble de l’histoire humaine, une place importante à ses principaux coopérateurs, et surtout a leur type le plus éminent, auquel la postérité la plus lointaine assurera une position vraiment unique; parceque jamais un pareil of ce n’avait pu jusqu’alors échoir, et pourra désormais encore moins appartenir à un esprit de cette nature, chez lequel la plus admirable combinaison qui ait existé jusqu’ici entre les divers qualités secondaires de l’intelligence presentait si souvent la séduisante apparence de la force et du genie». («Во всяком случае неизбежная умственная и общественная потребность в такой подготовительной работе доставит всегда важное место в общечеловеческой истории своим главным сотрудникам, и в особенности их более высокому типу, за которым самое отдаленное потомство обеспечит единственное в своем роде значение, потому что никогда до сей поры такая заслуга не выпадала – а в будущем тем менее можно ожидать этого – на долю такой натуры, которая благодаря счастливой комбинации, какая только существовала до сих пор, различных второстепенных качеств ума часто представляла обольстительный вид силы и гения».)
С этими словами мы должны, однако, сопоставить как тот глубоко интересный факт, что Вольтер является в календаре только как драматический поэт, так и весь характер и дух учения Конта, выразившийся в особенности в одном месте, где он говорит, что «une pure critique ne peut jamais mériter beaucoup d’éstime» («чистая критика никогда не может заслуживать большого уважения»). (Politique Positive. ch. III, р. 547).
[Закрыть].
В этих требованиях, собственно, нет ничего удивительного, если мы примем во внимание, что Вольтер, побуждаемый собственными дарованиями, решился заменить для себя старую коллективную традицию деяний и веры системой индивидуализма, и что он выказал себя слишком горячим противником царства авторитета и общественного застоя, ниспровержению чего он посвятил всю свою жизнь, чтобы содействовать каким-либо образом восстановлению подобного же царства, только лишь с измененным лозунгом. Быть может, он единственный великий француз, который умел терпеливо мириться со всем – но только не со сдержанностью в области критики – и предоставлял будущему пересоздание общественного строя, выбор средств и времени. Склонность успокаиваться на выводах из незаконченного опыта и настаивать на поспешном дополнении неполного анализа синтезом à priori было фатальным качеством его соплеменников от Декарта до Конта. Вольтер не заслуживает никакой особенной похвалы за такую свою сдержанность, потому что она была не столько результатом обдуманного убеждения – чего мы должны ожидать, судя по времени, – сколько неспособностью ясно понимать необходимость некоторого культа и прочной организации нашего знания как основного требования человеческого разума и существенного условия постоянного прогресса. Как бы мы ни оценили эту мудрую сдержанность, однако факт, что Вольтер не мог выставить со своей стороны никакой системы вместо разрушаемой им вполне объясняет нам презрение к нему со стороны тех, для которых установление какой бы то ни было, но всеобщей и упорядоченной веры представляется полезнее для людей, чем кажущийся хаос той перепутавшейся и громадной растительности, какой в настоящее время заросло поле европейской мысли.
Существует третье мнение, столь же мало в свою очередь снисходительное к Вольтеру, как и предыдущие, – мнение научное, или культурное. Возражения с этой стороны высказываются в различных формах; некоторые из них спокойны и могут навести на размышления, другие несколько легкомысленны и грубы. Все они, по-видимому, приходят к тем выводам, что нападение Вольтера на религию ввиду отсутствия в нем и тени религиозного духа породило дальнейшее зло, вызвав в каждом, на кого только распространялось его влияние, озлобление и нравственную дерзость, – наихудшие пороки, какие только могут быть в характере отдельного человека или целого поколения. Считая, что истина относительна и условна, а понимание значения веры доступно только тем, кто спокойно отдает должное истории, ее происхождению и росту, они находили, что Вольтер небрежно, не философски и злонамеренно отнесся к тому, что обладало истиной, как к чему-то такому, что всегда было безусловно ложно, – к тому, что было результатом мнений и стремлений лучших людей, как к чему-то такому, что имело своим источником низкое лукавство людей самых испорченных. Они находили, что благодаря заразительному действию Вольтера медленный, подобный осеннему процесс постепенного разложения, который должен был совершаться и совершался бы, обратился в грязную арену борьбы страстей; что, имея в виду овладеть и обогатить людей широкой критикой жизни, он исключил из самой жизни ее глубочайшие, святейшие и возвышенные начала, а самую критику сузил и низвел с того ее положения, где она являлась тонким искусством определения и сравнения идей, на степень хитрых уловок словесного состязания, доказательств, аргументов и злобной полемики.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































