Текст книги "Вольтер"
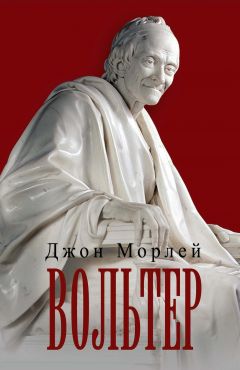
Автор книги: Джон Морлей
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Весьма важное значение в частной жизни каждого человека после его отношений к женщине и семье имеет то, каким образом ведет он свои денежные дела, как приобретает и расходует деньги. Все это свидетельствует о многих внутренних качествах человека и, как на это часто указывали, служит мерилом его важнейших добродетелей: честности, трудолюбия, великодушия, самопожертвования и многих других, имеющих в виду поддержать трудное равновесие между заботами о себе и попечениями о других. Вольтер весьма рано понял, что терпеть нужду – значит быть в зависимости; что богач и бедняк – это молот и наковальня; что, как показывает жизнь гениальных людей, не гением эти последние достигают богатства и счастья; и он решил с самого начала, что автор французской эпопеи не должен терпеть горькую участь Тасса и Мильтона, что он, со своей стороны, желает быть во всяком случае молотом, а не наковальней[124]124
Oeuvres, LXV, p. 395.
[Закрыть]. «Я так был измучен, – писал он в 1752 году, – унижениями, позорящими литературу, что, не желая более испытывать чувства омерзения, решился добиться того, что бездельники называют великой фортуной»[125]125
Oeuvres, LXV, p. 91.
[Закрыть]. Он стал издавать свои книги. Получив небольшое состояние от отца, он, говорят, увеличил его на две тысячи фунтов стерлингов, открыв в Англии подписку на «Генриаду». Вообще он не зарывал своего таланта в землю, но ловко пользовался всеми способами удвоить его: спекулировал в банках, по подрядам в армию и проч. – одним словом, он не зевал и пускал в ход все узаконенные средства для превращения одного фунта стерлингов в два. Он давал герцогу Ришелье и другим взаймы большие суммы и, как предполагают, за приличные проценты, хотя часто безнадежные[126]126
Переписка с аббатом Муссино (Abbé Moussinot) за 1737 и следующие годы. Oeuvres, LXIII, p. 122, 160, 176 и т. д.
[Закрыть]. После долгого опыта Вольтер пришел к тому заключению, что хотя он иногда и терял свои деньги, благодаря банкирам-ханжам, последователям Ветхого Завета, которые строго соблюдают Моисеев закон и скорее согласятся умереть, чем отказаться от праздности в субботу и не надуть в воскресенье, тем не менее в итоге он все-таки не потерял ничего, если не считать большой потери времени[127]127
Сorr., 1752; Oeuvres, LXV, р. 115.
[Закрыть].
Легко поднять на смех великого жреца человечества, который занимается денежными спекуляциями. Но вспомним, что Вольтер никогда не заявлял притязания быть таким великим жрецом; что его денежные операции, в сущности, были сходны с банкирскими и коммерческими операциями настоящего времени и что для человека, проповедующего новые идеи, весьма благоразумно, с одной стороны, поставить себя вне необходимости угождать книгопродавцам или театральному партеру, а с другой – запастись средствами, необходимыми для укрывательства от беспрерывных преследований власти. Современные ему завистливые писаки подтрунивали над его скупостью, и эта скверная черта до сих пор еще связывается с воспоминаниями о нем. Следует, однако, заметить, что хорошие и великодушные люди, никогда не уклонявшиеся от борьбы с Вольтером, когда он бывал не прав, как, например, Кондорсе, относились к подобному мнению с презрением и объясняли его гнусной готовностью людей верить во все, что освобождает только их от необходимости воздавать заслуженное уважение[128]128
Condorcet N. Op. cit., p. 37.
[Закрыть]. Тот, кому не нравится благоразумие в денежных делах людей, отличающихся интеллектуальным превосходством, похож на сантиментального любовника, который теряет все свои иллюзии при виде хорошего аппетита своей возлюбленной.
Во всяком случае, Вольтер обладал двумя существенными достоинствами, каких обыкновенно недостает скупцам: во-первых, он великодушно помогал как тем, кто имел право, так и тем, кто не имел права на его помощь, и, во-вторых, был способен переносить значительнейшие потери с ненарушимым спокойствием. Мишель, главный откупщик податей, сделался банкротом, и Вольтер потерял вследствие этого большую сумму денег; тот самый Вольтер, который обыкновенно разражался целым безграничным потоком ругательств и жалоб, когда какой-нибудь неизвестный писака, зарабатывая себе гинеи, клеветал на него, Вольтер на эту существенную потерю ответил одной желчной фразой и безобидным четверостишием.
Невольно спросишь, как же человек, считающий себя действительно несчастным, мог бы удовлетвориться одной строфой по адресу того, кто обокрал его[129]129
De Graf gny. Op. cit., p. 323.
[Закрыть].
Из переписки Вольтера с герцогиней Саксен-Готской видно, что он отказался принять тысячу луидоров, предложенных ей в виде вознаграждения за составление «Летописей империи».
Много также говорилось по поводу того, как Вольтер торговался с Фридрихом об условиях, на каких он согласился бы приехать в Берлин; но прусский король был не из тех, с кем следовало бы церемониться в подобных делах. Он был бережливейший из смертных; как король, он жил на средства других людей, а потому всякое сбережение в его положении было истинно царственной добродетелью.
Торг этот не представляет сам по себе ничего привлекательного, но не следует предполагать скупости ни с той, ни с другой стороны. Все дело в том, что характер Вольтера представлял любопытное соединение необыкновенной щедрости и упорного копеечного скряжничества. Его знаменитая ссора с президентом де Бросс (de Brosses) по поводу четырнадцати саженей дров представляет один из наихудших в этом роде фактов. Вольтер, арендовавший у Бросса Турнэ, настаивал, чтобы он подарил ему эти четырнадцать сажен. Де Бросс справедливо ответил, что он со своей стороны может распорядиться только тем, чтобы эти дрова поставлялись за счет Вольтера; и по такому ничтожному поводу завязалась длинная переписка, в которой Вольтер выказал себя в самом непривлекательном виде: человеком навязчивым, вероломным, без чувства собственного достоинства и с низкими побуждениями[130]130
Foisset. Correspondance de Voltaire avec de Brosses etc., 1836.
[Закрыть]. Но это, к счастью, единичный случай в жизни Вольтера; вообще же он строго следовал μεγαλοπρέπεια Аристотеля, т. е. добродетели щедрой роскоши.
Жизнь Вольтера в Сирэ была полна беспрестанного труда. Божественная Эмилия окружила, подобно богине Гомера, своего героя облаком. В каждом доме из ряда мельчайших, неуловимых и неопределимых влияний складывается своя нравственная атмосфера, которая или предрасполагает лиц, живущих вместе, к труду и привычке давать себе отчет в каждом своем поступке, или же расслабляет их и отнимает энергию в достижении поставленной цели. В Сирэ господствовал почти монашеский образ жизни. Г-жа Графиньи говорит, что хотя Вольтер по долгу вежливости и заходил от времени до времени в ее апартаменты, но обыкновенно избегал садиться, утверждая, что громадная потеря времени, которое люди тратят в разговорах, есть самое пагубное сумасбродство, в каком только можно обвинить человека[131]131
De Graf gny. Op. cit., p. 239.
[Закрыть]. Он обыкновенно по целым дням просиживал за своим письменным столом или же производил в своей комнате физические опыты. И только один раз в течение суток люди, живущие в этом доме, собирались вместе, а именно в девять часов вечера, во время ужина. До этого же времени свято оберегался покой и уединение каждого, как самой хозяйки, которая изучала Лейбница и переводила Ньютона, так и неофициального хозяина, который собирал материалы для исследования о веке Людовика XIV, или же занимался тщательной отделкой «Магомета», или же, наконец, производил различные исследования относительно горения. Этот строгий устав не воспрещал, однако, театральных представлений, когда какая-нибудь труппа, хотя бы театра марионеток, заходила в пустынные окрестности Шампаньского замка. Иногда после ужина Вольтер показывал волшебный фонарь и, подражая в своих объяснениях странствующему артисту, возбуждал в друзьях неудержимый хохот над своими врагами[132]132
Ibid., p. 242.
[Закрыть]. Но как только оканчивались вечерние развлечения, маркиза возвращалась в свою комнату и садилась за работу до самого утра; и только какие-нибудь два часа сна отделяли ночной труд от дневного. Много было у госпожи дю Шатле врагов и хулителей и две желчные женщины оставили нам злобные характеристики ее; но никто из них не мог стать выше красивой фразы, остроумной карикатуры или жесткой сатиры, какими светская пустота того времени наполняла свое скучное и бесцельное существование. Переводчица «Начал Ньютона» не принадлежала к этому обществу и относилась с полным равнодушием к насмешкам, сарказму и ненависти тех женщин, которых она справедливо считала ниже себя. Мы привыкли удивляться женщинам того времени, а между тем они умели лишь скрывать под маской остроумных слов равнодушие ко всему и пустоту своего существования, – здесь не ищите ни прелести тихой и трудолюбивой домашней жизни женщин старого времени, ни благородной широты взглядов женщин последующего поколения. Госпожа дю Шатле при всех своих недостатках стояла неизмеримо выше всех этих насмешниц и злых сплетниц. Ее интересовало все, что обращало только на себя общественное внимание, кроме клеветы. Никто не слышал, чтобы она поднимала кого-нибудь на смех; когда же ей говорили, что некоторые лица не отдают ей должного, то она отвечала, что это ее нисколько не интересует. Все это ставит маркизу дю Шатле, конечно, выше тех, кто обладал способностью к едким остротам, и та жизнь, какую она вела в Сирэ, конечно, была достойнее жизни парижских салонов, описанной с такой горечью Вольтером:
Là, tous les soirs, la troupe vagabonde,
D’un peuple oisif, appelé le beau monde,
Va promener de réduit eu réduit
L’inquiétude et l’ennui qui la suit.
Là sont en foule antiques mijaurées,
Jeunes oisons et bégueules titrées,
Disant des riens d’un ton de perroquet,
Lorgnant des sots, et trichant au piquet.
Blondins у sont, beaucoup plus femmes, qu’elles
Profondément remplis de bagatelles,
D’un air hantain, d’une bruyante voix,
Chantant, dansant, minaudant à la fois.
Si par hasard quelque personne honnête,
D’un sens plus droit et d’un goût plus heureux,
Des bons écrits ayant meublé sa téte,
Leur fait l’af ront de penser à leurs yeux;
Tout aussitôt leur brillante cohue,
D’étonnement et de colére émue,
Bruyant essaim de frélons envieux,
Pique et pour suit cette abeille charmante[133]133
Lettre à M-dme la Marquise du Châtelet, sur la Calomnie. Oeuvres, XVII, p. 85.
[Закрыть].
(Там каждый вечер без цели шатается шайка праздного люда, которую зовут большим светом, она слоняется из одного в места в другое, желая прогнать томящую скуку. Там – толпа старых жеманниц, молодых ветрениц и титулованных дур, болтают всякие пустяки тоном попугая, плутуют в пикет и лорнируют болванов. Там блондины больше похожи на женщин, чем женщины сами на себя; исполненные вздора, они с гордой осанкой громко кричат, они разом поют, танцуют и жеманятся. Если случайно попадется им на глаза честное лицо, со здравым смыслом и изящным вкусом, обогатившее свой ум знакомством с художественными творениями, и если оно осмелится оскорбить их, высказав в их присутствии здравую мысль, тотчас же вся эта блестящая толпа, изумленная и злобная, – весь этот шумный рой завистливых шершней бросается преследовать и жалить эту милую пчелу.)
Нельзя винить госпожу дю Шатле в том, что жизнь Вольтера в Сирэ не представляет образца спокойного и тихого жития в течение их пятнадцатилетнего сожительства. Много страниц можно было бы исписать одним только перечислением передвижений Вольтера с места на место, отчасти под влиянием законного опасения попасть в лапы подозрительного и осторожного правительства, отчасти же из-за желания направить руку этого последнего на своих врагов, но в большинстве случаев вследствие неугомонной непоседливости его натуры. Ради Амстердама, Гаги, Брюсселя, Берлина, маленького двора Люневиля и большого света Парижа он слишком часто покидал свой уединенный замок в Сирэ, хотя, возвратившись в него, всякий раз искренно признавался, что нигде не был так счастлив, как здесь. И если правда, что маркиза делала жизнь Вольтера несколько тяжелой для него, то, читая ее письма, нельзя не заметить, что и он, хотя не вследствие недостатка добрых чувств и привязанности, создавал для нее крайне тягостное существование. Кроме несходства в нравственном отношении, между ними существовала заметная разница также в складе ума, что, несомненно, должно было обнаруживаться и внешним образом. Вольтеру со временем несколько наскучили Ньютон и точное знание, тогда как маркиза отличалась скорее ригоризмом в своем неустанном преследовании этих сухих истин, что так часто свойственно бывает образованным женщинам, стоящим вне деловой жизни. И она, и Вольтер – оба выступили соискателями премии, предложенной Академией за исследование об условиях горения (1737), но ни один из них не имел успеха, так как их конкурентом был знаменитый Эйлер[134]134
Леонард Эйлер (Euler), знаменитый математик и физик, род. 1707, ум. 1783 в Петербурге.
[Закрыть]. Вторая и третья премии были даны двум менее сведущим соискателям только потому, что их исследования опирались на картезианскую философию, т. е. были научно ортодоксальны. Оба философа Сирэ принимали участие, хотя с разных точек зрения, также и в долго длившихся физико-математических прениях по вопросу об измерении движущих сил, которые впервые поднял Лейбниц в конце семнадцатого столетия[135]135
См. Уэвелля «Историю индуктивных знаний» (Whewell W. History of the Inductive Sciences, bk. VI, ch. V.
[Закрыть]. Маркиза издала в 1740 году свой разбор Лейбница и стала на его сторону против Ньютона и Декарта. Появление этой книги сопровождалось крайне злобным шипением и двусмысленной славой, о каких теперь не имеют и понятия[136]136
De Graf gny. Op. cit, p. 313–321.
[Закрыть]. В заметке, написанной по поводу книги своего друга, Вольтер удивительно просто и удобопонятно изложил результаты этого специального спора относительно vis viva[137]137
Exposition du Livre des Institutions Physiques. Oeuvres, XLII, p. 196–206.
[Закрыть] жизненной силы, причем сам он оставался ньютонианцем, а в 1741 году представил записку в Академию наук, в которой оспаривал взгляды Лейбница[138]138
Oeuvres, XLII, p. 207 etc.
[Закрыть].
Вольтер не был одним из тех «газетных философов», чье вторжение в область физических знаний встречает вполне заслуженный отпор со стороны профессиональных представителей; он сам деятельно занимался разными экспериментами и после него осталось несколько писем, в которых Вольтер дает поручения своему поверенному в Париже о высылке ему реторт, воздушных насосов и других приборов, со следующим благоразумным наставлением, нисколько не свидетельствующим о его скупости: «При покупке вещей, – пишет он, – вам следует, мой друг, всегда предпочитать вполне доброкачественные, хотя бы они были и подороже, дешевым, но посредственным». Его переписка за некоторые годы показывает, насколько действительно искренен был его интерес к науке и насколько усердно он занимался ею. И между тем достаточно ясно, что человек, сделавший так много для популяризации во Франции самых знаменитых физиков, сам не обладал истинно научными способностями. После долгих и настойчивых трудов в этой области Вольтер спросил Клеро[139]139
Corresp. 1737; Oeuvres, LXIII, p. 182.
[Закрыть] о сделанных им успехах. Последний с полной откровенностью, которую Вольтер сумел оценить, ответил, что даже при более упорном трудолюбии едва ли он станет в науке выше посредственности и что он только напрасно растрачивает то время, которое ему следовало бы посвятить поэзии и философии[140]140
Алекси Клод Клеро (Alexis Claude Clairault, 1713–1752), французский математик.
[Закрыть]. Этот совет был принят, ибо, как мы уже сказали, Вольтер никогда не страдал ложным самолюбием, – и таким образом самостоятельные изыскания в области физических явлений были отложены в сторону. Однако всякие сожаления о труде, затраченном Вольтером на эти изыскания, были бы совершенно неосновательны; не потому, что научные занятия расширяют пределы поэтического творчества и обогащают фантазию новыми образами, но потому, что чем большим числом отдельных наук в совершенстве человек овладел, – наук, в пределах и содержании которых он дает себе ясный отчет, хотя бы при этом был совершенно неспособен содействовать дальнейшему прогрессу их, – тем более возрастает сознательное доверие к силам собственного разума и уважение к последнему, что так укрепляет и возбуждает человека в избранном им специальном труде. Мы не думаем, однако, настаивать на том, что подобные энциклопедические познания составляют необходимое условие такого доверия к самому себе для всякой натуры; но, без сомнения, это верно по отношению к Вольтеру. «Так или иначе, мой дорогой друг, – писал он Сидевилю (Cideville), – но следует искать всевозможных выражений для стремлений нашего духа. Это пламя вложено в нас Богом, и мы обязаны поддерживать его всем, что только считаем наиболее драгоценным. Мы должны наполнять наше существование всевозможными стремлениями и открыть нашу душу для всяких познаний и чувствований, и на все это хватит времени и найдется место, если только мы не будем поступать беспорядочно»[141]141
Corr., 1737; Oeuvres, LVI, p. 428.
[Закрыть].
Для нас теперь, когда мы имеем перед глазами факт, ясно, что если существовал когда-либо человек, который не питал специального призвания ни к науке, ни к поэзии, ни к теологии, ни к метафизике, а именно к литературе, т. е. к искусству, так трудно поддающемуся определению, – представлять всякого рода идеи в двояком отношении: со стороны практической и со стороны теоретического их значения, – то таким человеком был Вольтер. Он сам останавливался над крайне смутным и запутанным значением этого термина, но высказанная им недостаточно продуманная мысль, что литература, не составляя отдельного искусства, может быть рассматриваема как в некотором более обширном роде грамматика знаний[142]142
Voltaire. Le Dictionnaire Philosophique (далее Dictionnaire philosophique – Примеч. ред.), V; Oeuvres, LVI, p. 428.
[Закрыть], не выясняет сколько-нибудь удовлетворительно понятия о литературе. Хотя и верно, что литература не составляет какого-либо специального искусства, но не менее верно и то, что существует определенный склад ума, наиболее годный для успешной работы в этой области. Литература, собственно, есть искусство формы, чем и отличается от тех проявлений умственной энергии, которые накопляют новый материал и тем увеличивают основной капитал уже приобретенных знаний или дают новый толчок чувствам и сообщают оригинальное определенное выражение страстям. Подводить под понятие литературы творения Шекспира, Мольера, Шелли и Гюго в такой же мере ошибочно, как и причислять к ней сочинения Ньютона и Локка. Или вот другой пример из сочинений Вольтера: «недостаточно сказать о словаре Бейля, что это есть литературная компиляция; недостаточно будет даже считать его плодом обширной учености, потому что отличительное и высшее достоинство этого труда составляет его глубоко диалектический характер. Эта книга образует литераторов и, следовательно, стоит выше их»[143]143
Ibid., LVI, p. 430.
[Закрыть].
Что же такое дает нам литература, что ставит ее так высоко, хотя далеко не на самом первом месте, в ряду великих гуманизирующих искусств? Не она ли является тем главным деятелем, который образует и питает широту жизненных интересов и уравновешивает в суждениях эти два драгоценных человеческих качества и который расширяет наши симпатии и дает устойчивость нашим взглядам? К несчастью, литература часто отождествляется с приторной улыбкой, жеманством элегантного легкомыслия, с пустой виртуозной изысканностью и представляется чем-то вроде мадригала. Но все это совершенно не вяжется с мыслью о Вольтере, истинном первосвященнике в области литературы. Этим мы хотим сказать, что хотя Вольтер и не был одарен особенно высоким талантом глубокой поэтической концепции, тонкой философской проницательностью, победоносной силой знания, но он обладал в высшей степени обширной и искренней любознательностью, сильным, точным и крайне восприимчивым умом, врожденной с наклонностью к искренности и справедливости и необыкновенной силой выражения. Если задача литературы придавать форму, распространять свет, благодаря которому обыкновенные люди получат возможность увидеть великое множество идей и фактов, не блистающих в свете собственной их атмосферы, то ясно, что Вольтер обладал поразительными дарованиями в этом отношении. У него был большой запас знаний, и он всегда был наготове, с одной стороны, увеличить и расширить этот запас, а с другой – что еще важнее – поделиться им со всеми. Он не считал ниже собственного достоинства писать о полустишии для энциклопедии. «Это не весьма блестящая работа, – говорил он, – но она, быть может, будет полезна для литераторов и любителей. Ни к чему не следует относиться с презрением, и я, если вам угодно, готов написать объяснение на слово – запятая»[144]144
Corr., 1758; Oeuvres, LXXV, p. 50.
[Закрыть]. Он обладал весьма разносторонним вкусом; любил Расина, не забывая в то же время о величавом образе Шекспира. Вместе с тем он был свободен от той слабости, которая так часто ассоциируется с разносторонностью, когда последняя не вытекает из истинной силы и независимого ума: он не закрывал глаза на недостатки великих людей. Любя Мольера, он признавал, однако, и неполноту в построении его драматических произведений, замечал и грубый фарс, до какого так часто спускался этот знаменитый писатель[145]145
Temple du Goût. Oeuvres, XV, p. 99.
[Закрыть]. Его уважение к возвышенности и пафосу Корнеля не мешало ему видеть в нем натянутость и холодное резонерство[146]146
Corr., 1743; Oeuvres, LXIV, p. 119.
[Закрыть]. Пусть читатель вспомнит замечательные слова, сказанные им Вовенаргу: «Не составляет ли это удел только человека подобного вам – иметь одно преимущество и никаких исключений?»[147]147
Oeuvres de Vauvenargues (собр. соч. Л. К. Вовернага – Примеч. ред.), II, р. 252.
[Закрыть]. Этому прекрасному принципу Вольтер обыкновенно оставался всегда верен, как всякий великий ум, если только он обладает соответствующей образованностью.
(Всякий писатель в его глазах прав, если он обладает искусством нравиться: он критикует его без злобы, он ему аплодирует с восторгом.)
Наконец, Вольтер мог без затруднений излагать все, какого бы предмета ни пришлось коснуться, с полной ясностью, а это то и составляет самую главную цель речи. Его слог подобен прозрачному потоку чистейшей горной воды, катящему свои быстрые и словно живые волны под сверкающими лучами солнца. «Вольтер, – сказал некто из его врагов, – первый человек в мире в деле изложения на бумаге того, что другие люди думают». Эти слова, сказанные с целью злобного порицания, указывают на заслуживающее в действительности глубокого уважения достоинство Вольтера.
В чем кроется тайна подобной способности, разъяснить трудно. Никакой спектральный анализ не в силах разложить этот волшебный луч на его составные части. Во всяком случае, это скорее пронизывающий металлический свет электричества, чем теплый луч солнца. Мы можем подметить некоторые внешние стороны, которыми блещет поразительный слог Вольтера. Мы можем понять его необычайную простоту, почти первоначальную близость к буквальному смыслу, остроту и точность и – что стоит выше всего этого – его удивительную сжатость. Мы замечаем, что никогда и ни один писатель не употреблял так мало слов и не достигал в то же время такого совершенного эффекта[149]149
На публичных чтениях в Париже в 1850 г. была высказана мысль, что слог Вольтера в этом отношении не мог производить своего полного действия: «Тгор d’artif ce, – говорит С. Бёв, – trop d’art nuit auprès des espits neufs; trop de simplicité nuit aussi; ils ne s’en étonnent pas, et ils ont jusqu’à un certain point besoin d’être étonnés» (Sainte-Beuve C. A. Causeries du lundi, I, p. 289) (Слишком много изящества, слишком много искусства вредит успеху среди нетронутых умов; но и слишком много простоты вредит также: они не поражаются ей, а между тем до известной степени у них есть потребность поражаться».).
[Закрыть]. Тот, кто не может сжато излагать свои мысли, кто становится при этом поверхностным и бессодержательным, с завистью посмотрит на эти страницы, где сжатость фразы пропорциональна силе мысли. Мы решительно не находим у Вольтера пустых стремлений достигнуть словами тех глубоких и сложных эффектов, какие могут быть успешно произведены только сочетанием красок или музыкальных звуков. Никто и никогда лучше его не понимал истинных границ, перейдя которые живое слово не может производить уже надлежащего впечатления, а также той свободы и тех средств, которыми располагает искусство речи. Александрийские стихи Вольтера, его остроумные повести, его героически комические рассказы, его изложение Ньютона, его исторические повествования, его диалоги – все носит на себе одну и ту же печать, все отличается той же естественностью, точностью и сжатостью выражения, тем же решительно безошибочным пониманием, что свойственно и может быть допущено в каждом данном роде литературных произведений. На первый взгляд может показаться несколько парадоксальным это указание на сжатость слога автора, произведения которого исчисляются десятками томов. Но подобное возражение не имеет никакого значения. Иной писатель может отличаться невыносимой растянутостью на страницах всего лишь одного тома, и Вольтер совершенно справедливо замечает, что в одном томе «Системы природы» Гольбаха в четыре раза больше слов, чем нужно. Он утверждал также, что Рабле мог бы быть без малейшего ущерба сокращен до одной восьмой, а Бейль – до одной четверти, и что едва ли нашлась хотя бы одна книга, которая осталась бы неурезанной в опытных руках божественных муз[150]150
Temple du Goût. Oeuvres, XV, p. 95.
[Закрыть]. С другой стороны, автор может не употреблять и одного лишнего слова на протяжении ста томов. Стиль нисколько не зависит от количества написанного, и мир так жестоко терпит от массы написанных книг – не потому, что число их слишком велико, а потому, что все это необъятное количество страниц, написанных с целью высказать так много, в действительности ровно ничего не говорит.
Однако никакое изучение этой внешней стороны, этой легкости и сжатости речи не раскроет нам тайны, скрывающейся внешностью, лежащей в самом Вольтере, глаз и рука которого никогда не ошибались в надлежащем выборе всего, что соответствует данному роду прозы и поэзии. Вольтер, быть может, первый мастер в свете относительно выбора подходящих выражений; он самый резкий писатель в мире, но у него нет ни одной фразы неестественно выразительной, ни одного натянутого сравнения; он самый остроумный писатель, но у него нет ни одной строчки пошлого плутовства. И эта необычайная чуткость меры и сообразности благодаря прирожденному складу и дальнейшей работе так всецело проникала мысль Вольтера, что постоянно давала себя знать, как бы самопроизвольно, без всякого искусственного напряжения и усилия. Вольтер менее, чем кто-либо другой, заботился об академической правильности литературного языка, и между тем никто другой не достиг такой чистоты и достоинства выражений, так мало соблюдая при этом формальные правила. Интересно, что в его сочинениях совершенно отсутствует та с большим трудом достигаемая простота, в какой некоторые писатели более позднего времени находят окончательное выражение для многих своих мыслей. Та напряженная борьба, какую пережило общество после Вольтера, научила людей умерять и оценивать надлежащим образом всяческие свои предположения; она привела их к необходимости медленно следовать за истиной по крутым и извилистым тропинкам. Новые звуки поразили чувства людей, и всякой мысли пришлось иметь дело со столь сложными обстоятельствами, о каких до той поры не знали. Поэтому-то, по мере того как все лучшие писатели стремились к простоте и непосредственности, складывался и новый стиль, в котором многостороннее освещение предмета концентрировалось в какой-нибудь одной фразе. Если Вольтер не употреблял подобных концентрирующих слов и оборотов, то это указывает только на то, что мысль для него представлялась менее сложной, чем для последующего поколения. Хотя литературный язык Мильтона и Бёрка[151]151
Эдмунд Берк (Edmund Burke, 1729–1797), знаменитый государственный деятель и политический писатель.
[Закрыть] не боится сравнения с величайшими художниками слова во Франции, однако в Англии нет ни одного писателя, которого можно было бы поставить совершенно наряду с Вольтером. Но такого другого нет и во Франции. У Свифта, более чем у кого другого из английских писателей, многие страницы напоминают в некотором отношении Вольтера, и, вероятно, Вольтер заимствовал идею своих знаменитых повестей у автора «Гулливера», как Свифт в свою очередь идею рассказа о Бочке («Сказка бочки». – Примеч. ред.) – из истории Меро и Энегю (т. е. истории Рима и Женевы) Фонтенеля. Свифт обладает той же точностью, изобретательностью, иронией, тем же умением говорить совершенно прямо о вещах и сохранять серьезность при самых невозможных положениях, чем отличается и Вольтер. Но Свифт часто обнаруживает свирепость и животную грубость как в мысли, так и в фразе; Вольтер же нигде не выказывает ни того, ни другого. Даже среди вольностей, какие он допускает в «Девственнице» и своих романах, он никогда не забывает относиться должным образом к французской речи. В Расине и Буало, говорит он, его всегда очаровывало их умение высказать все то, что они хотят, нисколько не нарушая при этом гармонии и чистоты языка[152]152
Corr., 1732; Oeuvres, LXII, р. 218.
[Закрыть]. Сфера литературной деятельности Вольтера была далеко шире той, в которой работали эти поэты; ему приходилось ступать по многим скользким местам, и тем не менее он заслуживает той же похвалы, какой он удостоил их.
К несчастью, одним из многих вредных последствий революции, для которой так много потрудился Вольтер, было то, что и в его отечестве, и в Англии эта чистота и гармония речи – вопреки примерам великих художников, живших с того времени – в общем пришли в упадок. Как во Франции, так и в Англии обыденный, вульгарный язык действительно проник в литературу и завоевал себе место на том основании, что он реален; искусственная вульгарность выдает себя за крайнюю простоту; и так как горбатый великан производит более сильное впечатление, то некоторые действительно гениальные люди, для того только, кажется, чтобы обеспечить себе славу, ударились в шарж. Одним словом, реакция против поддельного благородства стиля завела людей слишком далеко, так как реакция против прославленных начал старого строя зашла слишком далеко. В конце концов стиль, о чем каждый должен помнить, никогда не может быть чем-либо иным как только отражением идей и склада ума, – и вот когда сознание своего достоинства, как единое руководящее начало, уступило место сантиментальной любви к человечеству – часто искренней, а часто и притворной – тогда и старые способы выражения, проникнутые чувством личного достоинства, вышли из употребления. И в защиту этого переворота приводятся те аргументы, какими также, кстати, мог бы воспользоваться и Диоген, отстаивая нечистоту своей бочки против нападений доктрины чистого белья.
Следует заметить, что в то время, или же по крайней мере с того времени, когда влияние Вольтера достигло своего апогея, литература явно стремилась занять место в рядах оппозиции. В наше время литературная профессия поставлена наряду с другими занятиями, и ее представители в большинстве случаев усваивают традиционные социальные идеи времени, так точно, как усваивают их священники, юристы, врачи. Современный нам литератор играет такую же собственно роль, как древний софист, на обязанности которого лежало поддерживать, прославлять и распространять ходячие предрассудки. Быть же литератором во Франции в половине восемнадцатого столетия значило быть официальным врагом ходячих предрассудков и защищавших их в церкви и в общественных собраниях софистов. Родители прислушивались к высказываемым намерениям своего сына отправиться в Париж и заняться литературной деятельностью или же познакомиться с писателями с таким же ужасом, с каким почтенный афинянин выслушивал известие о том, что его сын стал последователем Сократа. Но да успокоятся господа классики: мы вовсе не намерены проводить во всем параллель между Сократом и Вольтером. Мы настаиваем только на том, что каждый из них был вождем в борьбе против софистов своего времени, хотя их тактика и боевые орудия существенно различались. Условия изменились, и для вождя позднейшего времени перо явилось наиболее действительным орудием; католическое духовенство завладело кафедрой и исповедальней, а его враги вооружились печатным словом.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































