Текст книги "Манхэттен"
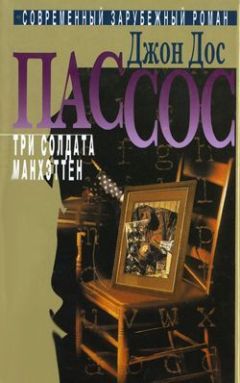
Автор книги: Джон Пассос
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
V. Паровой каток
Сумерки нежно гладят извилистые улицы. Мрак сковывает дымящийся асфальтовый город, сплавляет решетки окон и слова вывесок и дымовые трубы и водостоки и вентиляторы и пожарные лестницы и лепные карнизы и орнаменты и узоры и глаза и руки и галстуки в синие глыбы, в черные огромные массивы. Из-под его катящегося все тяжелее и тяжелее пресса в окнах выступает свет. Ночь выдавливает белесое молоко из дуговых фонарей, стискивает угрюмые глыбы домов до тех пор, пока из них не начинают сочиться красные, желтые, зеленые капли в улицу, полную гулких шагов. Асфальт истекает светом. Свет брызжет из букв на крышах, перебегает под колесами, пятнает катящиеся бочки неба.
Паровой каток, грохоча, ползал взад и вперед по свежепропитанному дегтем щебню у кладбищенских ворот. Запах горелого масла, пара и раскаленной краски исходил от него. Джимми Херф пробирался по краю дороги. Острые камни кололи ноги сквозь истоптанные подметки. Он прошел мимо закопченных рабочих и пересек новое шоссе, унося в ноздрях запах чеснока и пота. Пройдя сто ярдов, он остановился на пригородной дороге, туго стянутой с обеих сторон телеграфными столбами и проволокой. Над серыми домами и серыми лавками гробовщиков небо было такого цвета, как яйцо реполова. Майские червячки копошились в крови. Он снял черный галстук и сунул его в карман. В голове у него дребезжала песенка:
Я так устала от фиалок.
Возьмите их скорей…
Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам, звезда бо от звезды разнствует во славе, такожде и воскресение мертвых… Он быстро шагал, шлепая по лужам, полным неба, стараясь вытряхнуть из ушей гудящие, хорошо смазанные слова, стряхнуть с пальцев ощущение черного крепа, забыть запах лилий.
Я так устала от фиалок.
Возьмите их скорей.
Он пошел быстрее. Дорога поднималась в гору. В канаве, вьющейся в траве среди одуванчиков, ярко журчала вода. Все реже попадались дома; на стенах сараев облезлые буквы выговаривали: ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ ЛИДИИ ПИНКХЭМ, КРАСНЫЙ ПЕТУХ, ЛАЮЩАЯ СОБАКА… А у мамы был удар, и ее похоронили. Он не помнил, как она выглядела; она умерла, вот и все. С забора донеслось влажное чириканье воробья. Крошечная ржаво-красная птица полетела дальше, села на телеграфную проволоку и запела, перелетела на край брошенного котла и запела, полетела дальше и запела. Небо стало темно-синим, волокнистые перламутровые облака клубились на нем. Еще на одно последнее мгновение он услышал подле себя шуршание шелка, почувствовал нежное прикосновение к своей руке руки в длинном, отороченном кружевами рукаве. Он лежит в колыбели, поджав ноги, похолодев от страха перед мохнатыми подползающими тенями; и тени разбегаются и прячутся по углам, когда она склоняется над ним – кудри надо лбом, широкие шелковые рукава, маленький черный кружок в уголку рта, целующего его рот. Он пошел быстрее. Кровь бурлила, густая и горячая, в его жилах. Волокнистые облака сливались в розовую пену. Он слышал, как шаги его звучат по гулкому асфальту. На перекрестке блики солнца играли на острых, колючих почках молодого бука. Напротив висела доска «ИОНКЕРС». Посредине дороги валялась иззубренная консервная банка. Он погнал ее перед собой, сильно поддавая ногой. Ина слава солнцу, ина слава луне, ина слава звездам… Он шел дальше.
– Здравствуй, Эмиль! – Эмиль кивнул, не поворачивая головы. Девушка побежала за ним и схватила его за рукав. – Так-то ты поступаешь со старыми друзьями? Теперь, когда ты водишь компанию с этой королевой деликатесов…
Эмиль отдернул руку:
– Я очень спешу, вот и все.
– А что, если я пойду к ней и расскажу, как мы с тобой стояли под ее окнами на Восьмой авеню и обнимались и целовались, чтобы заставить ее сдаться?
– Это была идея Конго.
– А разве она не помогла?
– Конечно.
– А мне разве ничего за это не полагается?
– Мэй, ты хорошая, милая девушка. На той неделе, в среду вечером, я свободен. Я поведу тебя в театр… Ну, как вообще прыгаешь?
– Отвратительно. Пытаюсь устроиться танцовщицей у Кэмпеса. Там бывают парни с деньгой. Довольно с меня матросов и грузчиков… Я хочу стать респектабельной.
– О Конго что-нибудь слышала, Мэй?
– Получила от него открытку из какой-то чертовой дыры – не разобрала откуда… Смешно, право… Просишь денег, а присылают тебе открытки… Это за все-то ночи… И знаешь, Лягушатник, он ведь был у меня единственный.
– Прощай, Мэй. – Он внезапно сдвинул ей соломенную шляпу с незабудками на затылок и поцеловал ее.
– Перестань, Лягушатник! Нашел место целоваться – на Восьмой авеню, – заныла она, пряча желтую прядь под шляпку. – Можешь зайти ко мне, если хочешь.
Эмиль пошел дальше.
Пожарная машина, паровой насос и выдвижная лестница пролетели мимо, сотрясая улицу грохотом. Тремя кварталами дальше из-под какого-то дома клубился дым и вырывались языки пламени. Толпа напирала на цепь полисменов. Из-за спин и шляп Эмиль увидел на крыше соседнего дома пожарных и три блестящих, молчаливых ручейка воды, играющие в верхних окнах. Кажется, это напротив магазина деликатесов. Он начал прокладывать себе дорогу в толпе на тротуаре. Вдруг толпа расступилась. Два полисмена тащили негра, руки которого болтались взад и вперед, точно сломанные палки. Третий шел сзади и бил негра дубинкой по голове, сначала справа, потом слева.
– Кажется, поджигатель.
– Поймали поджигателя.
– Это был поджог.
– Жалкий же у него вид.
Толпа сомкнулась. Эмиль стоял рядом с мадам Риго на пороге лавки.
– Cheri que ça me fait une emotiong… J’ai horriblemong peur du feu[26]26
Дорогой, меня это очень тревожит… Я страшно боюсь огня (фр.).
[Закрыть].
Эмиль стоял несколько позади нее. Одной рукой он медленно скользил по ее талии, а другой поглаживал ее руку выше локтя.
– Все кончено. Огня больше нет, только дым… Ты застрахована, не правда ли?
– Конечно, на пятнадцать тысяч.
Он сжал ее локоть, потом убрал руки.
– Viens, ma petite, on va rentrer[27]27
Пойдем, малышка, пора возвращаться (фр.).
[Закрыть].
Как только они вошли в лавку, он схватил ее пухлые руки:
– Эрнестина, когда мы обвенчаемся?
– В следующем месяце.
– Я не могу ждать так долго. Это невозможно. Почему не в ближайшую среду? Тогда я мог бы тебе составить инвентарь лавки… Я думаю, не продать ли нам это место и не переехать ли в город, чтобы побольше зарабатывать.
Она погладила его по щеке.
– P’tit ambitieux, – сказала она с глухим смешком, от которого запрыгали плечи и высокий бюст.
На Манхэттене они пересаживались. У Эллен лопнула на большом пальце перчатка, и она нервно поглаживала дырку указательным пальцем. На Джоне был дождевик с поясом и красновато-серая шляпа. Когда он, улыбаясь, поворачивался к ней, она невольно отводила глаза и смотрела на длинные плети дождя, мерцавшие на мокрых рельсах.
– Ну вот, Элайн, дорогая… Теперь, принцесса, мы пересядем в поезд со станции Пенн. Смешное занятие! – Они вошли в вагон. Джон недовольно прищелкнул языком, заметив темные пятна от дождевых капель на светлой шляпе. – Поехали, малютка… О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими…
Новый дорожный костюм Эллен был узок в локтях. Она старалась быть веселой и прислушиваться к журчанью его речи, но что-то заставляло ее лицо хмуриться; когда она выглядывала в окно, она видела только коричневые болота, миллионы черных фабричных окон, грязные улицы, ржавый пароход в канале, сараи, вывески «Булл Дурхэм» и круглолицых гномов «Спирминт», изрешеченных и исполосованных дождем. Блестящие полосы дождя на вагонных окнах стекали прямо, когда поезд останавливался, и становились все более и более косыми, по мере того как поезд ускорял ход. Колеса стучали в ее голове: Ман-хэт-тен, Ман-хэт-тен. До Атлантик-Сити было еще далеко. Кстати, мы едем в Атлантик-Сити… Дождь лил сорок дней и сорок ночей… Я буду веселой… Опрокинулась в небе лейка… Я должна быть веселой.
– Элайн Тэтчер Оглторп – очень красивое имя, правда, дорогая? Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви…
Было так уютно сидеть в пустом вагоне на зеленом бархатном диване, слушать глупую болтовню склонившегося к ней Джона, смотреть на коричневые топи, мелькавшие за исхлестанными дождем окнами, вдыхать свежий воздух, пахнувший устрицами. Она посмотрела ему в лицо и рассмеялась. Он покраснел до корней рыжевато-белокурых волос. Он положил руку в желтой перчатке на ее руку в белой перчатке:
– Теперь ты моя жена, Элайн.
– Теперь ты мой муж, Джон.
Они, смеясь, смотрели друг на друга в уютном уголке пустого вагона. Белые буквы «Атлантик-Сити» изрекали приговор над рябым от дождя морем.
Дождь заливал тротуар и налетал порывами на окно, точно его выплескивали из ведра. Сквозь шум дождя она слышала монотонный ропот прибоя на берегу у освещенного мола. Она лежала на спине, глядя в потолок. Рядом с ней на широкой кровати спал Джон, ровно, по-детски дыша, подложив под голову сложенную вдвое подушку. Он чувствовал ледяной холод. Она осторожно соскользнула с кровати, чтобы не разбудить его, встала у окна и глядела на длинные римские «V» огней на тротуаре. Она распахнула окно. Враждебный дождь хлестнул ей в лицо, исколол щеки, смочил ночную рубашку. Она прижала лоб к раме. О, я хочу умереть. О, я хочу умереть. Весь тугой холод ее тела сосредоточился в желудке. Меня сейчас стошнит. Она пошла в ванную комнату и закрыла дверь. Когда ее вырвало, она почувствовала себя лучше. Она опять забралась в постель, осторожно, чтобы не задеть Джона. Если она заденет его, она умрет. Она лежала на спине, крепко прижав руки к бокам, сдвинув ноги. Колеса поезда мягко рокотали в ее голове. Она заснула.
Ветер, трясший оконные рамы, разбудил ее. Джон лежал далеко на другом краю кровати. От ветра и дождя, струившегося по окну, было так, словно комната, и широкая кровать, и все предметы двигались, неслись вперед, точно воздушный корабль над морем. Шел дождь сорок дней и сорок ночей… В какую-то щель холодной окаменелости мотив песенки просачивался, как струя теплой крови… Опрокинулась в небе лейка. Она осторожно провела рукой по волосам мужа. Он поморщился во сне и захныкал: «Не надо» – голосом маленького мальчика; этот голос заставил ее рассмеяться. Она лежала, смеясь, на другом краю кровати, смеясь безнадежно, как когда-то смеялась с подругами в школе. И дождь хлестал в окно, и песня звучала все громче, пока не загремела в ее ушах духовым оркестром.
Шел дождь сорок дней и сорок ночей,
Опрокинулась в небе лейка.
Лишь один человек пережил потоп —
Длинноногий Джек с Перешейка.
Джимми Херф сидел напротив дяди Джеффа. Перед ним на синей тарелке – баранья котлета, жареная картошка, небольшая горка горошка, украшенная петрушкой.
– Так вот, подумай об этом, – говорит дядя Джефф. Яркая люстра освещает отделанную ореховым деревом столовую, сверкает в серебряных ножах и вилках, в золотых зубах, в часовых цепочках, в галстучных булавках, утопает в темноте тонких сукон, играет круглыми бликами на полированных блюдах, лысых головах, судках.
– Ну, что скажешь? – спрашивает дядя Джефф, заложив большие пальцы в проймы пестрого жилета.
– Шикарный клуб, – говорит Джимми.
– Богатейшие, лучшие люди страны завтракают здесь. Посмотри на тот круглый стол в углу. Это стол Гозенхеймера… Налево. – Дядя Джефф нагибается и понижает голос: – А вот тот, с выдающейся челюстью, – Уайлдер Лапорт.
Джимми, не отвечая, разрезает баранью котлету.
– Ну-с, Джимми, ты, наверное, знаешь, почему я привел тебя сюда… Я хочу поговорить с тобой. Теперь, когда твоя бедная мать… ушла от нас, Эмили и я являемся твоими опекунами в глазах закона и исполнителями воли бедной Лили… Я хочу рассказать тебе, как обстоят дела. – (Джимми кладет вилку и ножик и сидит, уставившись на дядю, сжимая холодными руками ручки кресла, следя, как двигается тяжелая синяя челюсть над рубиновой булавкой в широком шелковом галстуке.) – Тебе шестнадцать лет. Так, Джимми?
– Да, дядя.
– Ну так вот… Когда имущество твоей матери будет продано, ты будешь обладать состоянием приблизительно в пять тысяч пятьсот долларов. К счастью, ты умный малый и скоро поступишь в университет. Этой суммы при умелом обращении должно хватить тебе на жизнь и ученье в Колумбийском университете, если ты настаиваешь на нем… Что до меня, то я, а также, наверное, и тетя Эмили предпочли бы видеть тебя в Йельском или Принстонском университете. По-моему, ты счастливый малый. В твои годы я подметал в Фредериксбурге контору и зарабатывал пятнадцать долларов в месяц. И вот что я еще хотел сказать: я не замечаю в тебе склонности к коммерческим делам… гм… не замечаю энтузиазма, желания зарабатывать и добиться материального благополучия. Посмотри кругом. Жажда денег и энтузиазм сделали этих людей такими, каковы они теперь. Эти же чувства дали мне возможность создать себе комфортабельный очаг, культурную обстановку, в которых ты сейчас живешь… Я понимаю – тебя несколько странно воспитывали; бедная Лили не сходилась с нами во многих взглядах. Но в настоящий момент оформление твоей жизни только начинается. Теперь как раз время для закладки фундамента твоей будущей карьеры. Я советую тебе, мой друг, последовать примеру Джеймса и пробивать себе дорогу при содействии нашей фирмы… Отныне вы оба мои сыновья… Тебя ожидает тяжелый труд, но это хорошее начало, оно открывает тебе широкие перспективы. И помни: если человеку повезет в Нью-Йорке, то ему повезет всюду и везде.
Джимми следит, как широкий серьезный рот дяди Джеффа произносит слова, и не дотрагивается до сочной бараньей котлеты.
– Ну, чем же ты намерен быть? – Дядя Джефф нагибается к нему через стол и глядит на него выпуклыми серыми глазами.
Джимми поперхнулся кусочками хлеба, краснеет и наконец говорит, заикаясь:
– Чем хотите, дядя Джефф.
– Значит, ты этим же летом будешь работать в течение месяца у меня в конторе? Войдешь во вкус работы и заработка, как подобает мужчине? Приглядишься, как делаются дела?
Джимми кивает.
– Ну-с, ты пришел к чрезвычайно разумному решению, – басит дядя Джефф, откидываясь на спинку кресла; полоса света пробегает по его серо-стальным волосам. – Между прочим, что ты хочешь на десерт? Когда-нибудь, Джимми, когда ты будешь крупным дельцом, через много лет, ты вспомнишь этот разговор. Это начало твоей карьеры.
Девица у вешалки улыбается из-под презрительной башни белокурых волос, подавая Джимми его шляпу: среди великолепных котелков, канотье и величественных панам, висящих на крючках, она выглядит помятой, грязной и поношенной. В его желудке что-то кувыркается, когда лифт начинает спускаться. Он выходит в переполненный народом мраморный вестибюль. Не зная, куда идти, он некоторое время стоит, прислонившись к стене, засунув руки в карманы, наблюдая толпу, которая локтями прокладывает себе дорогу к вращающейся двери. Розовощекие девицы жуют резинку, востроглазые девицы с челками, желтолицые мальчики его возраста, юные франты в шляпах набекрень, потнолицые посыльные, перекрестные взгляды, подрагивающие бедра, тяжелые челюсти, жующие сигары, худые, вогнутые лица, плоские тела молодых мужчин и женщин, брюхатые старики – все течет, толкаясь, шаркая, через вращающиеся двери на Бродвей, с Бродвея, двумя бесконечными потоками. Поток засосал Джимми, он выносит его из дверей и опять в двери днем, и ночью, и утром, вращающиеся двери выдавливают из него годы, как фарш из сосиски. Внезапно все его мускулы каменеют. Дядя Джефф может провалиться к черту вместе со своей конторой! Эти слова звучат внутри его так громко, что он оглядывается по сторонам, не услышал ли их кто-нибудь.
Пусть все они идут к черту! Он расправляет плечи и прокладывает себе дорогу к вращающейся двери. Он наступает кому-то на ногу.
– Смотрите, куда идете, черт бы вас взял!
Он на улице. Резкий ветер набивает ему рот и глаза пылью. Он идет вниз к Бэттери, ветер дует ему в спину. На кладбище Святой Троицы стенографистки и конторские мальчики едят сэндвичи среди могил. Чужеземцы толпятся у пароходных пристаней. Светловолосые норвежцы, широколицые шведы, поляки, чумазые, низкорослые, пахнущие чесноком жители средиземного побережья, огромные славяне, три китайца, несколько человек ласкарийцев. В маленьком треугольнике перед таможней Джимми поворачивается и долго смотрит в глубокую воронку Бродвея, лицом к ветру. Дядя Джефф может провалиться к черту вместе со своей конторой!
Бэд сел на край койки, потянулся и зевнул. В комнате пахло потом, кислым дыханием и мокрой одеждой. Храп, стоны и бормотание спящих, скрип кроватей. Где-то далеко горела тусклая, одинокая электрическая лампочка. Бэд закрыл глаза и уронил голову на грудь. Господи, как хорошо было бы заснуть. Боже мой, как хорошо было бы заснуть. Он крепко обхватил колени руками, чтобы сдержать их дрожь. Отче наш, иже еси на небеси, как хорошо бы заснуть.
– В чем дело, дружище? Не можете уснуть? – послышался спокойный шепот с соседней койки.
– Никак не могу.
– Я тоже.
Бэд посмотрел на большую голову с курчавыми волосами. Сосед облокотился на кровать.
– Гнусная, вонючая, вшивая дыра, – продолжил он так же ровно. – А стоит сорок центов. Чтоб они провалились вместе со своими ночлежками…
– Давно вы в этом городе?
– В августе будет десять лет.
– Господи…
С другого конца комнаты кто-то зашипел:
– А ну-ка, вы, заткнитесь! Тут вам не пикник!
Бэд понизил голос:
– Как подумаешь, что я столько лет мечтал попасть в этот город… Я родился и вырос на ферме.
– Почему же вы не едете обратно?
– Не могу.
Бэду было холодно; он пытался осилить дрожь. Он натянул одеяло до самого подбородка и, завернувшись в него, смотрел на говорившего.
– Каждую весну я говорю себе: я уйду, поселюсь там, где трава, лужайки, где коровы идут с пастбища, – и все никак не могу уехать. Привязался!
– Что вы все это время делали в городе?
– Не знаю… Большей частью сидел на Юнион-плейс, потом в Медисон-сквер. Был в Хобокене, и в Джерси, и Флэтбуше, а теперь я – бродяга с Баури.
– Клянусь, я сбегу отсюда завтра же! Страшно тут… Больно много фараонов и сыщиков…
– Вы могли бы просить милостыню… Но послушайтесь моего совета: возвращайтесь на ферму к старикам, и все пойдет на лад.
Бэд соскочил с кровати и грубо схватил собеседника за плечо:
– Идемте-ка к свету, я вам кое-что покажу. – Голос Бэда звенел как-то странно в его собственных ушах. Он прошел вдоль ряда храпящих коек. Бродяга – расхлябанный человек с курчавыми выцветшими волосами, такой же бородой и глазами, как бы вколоченными в лицо, – вылез из-под одеяла, совершенно одетый, и последовал за ним. Под лампочкой Бэд расстегнул рубашку и спустил ее с тощих плеч. – Посмотрите на мою спину.
– Господи Исусе! – прошептал тот, проводя рукой с длинными желтыми ногтями по спине, исполосованной глубокими красными и белыми шрамами. – В жизни не видел ничего подобного.
– Вот что сделал со мной мой старик. Двенадцать лет он истязал меня, когда ему хотелось. Он полосовал меня плетью и прижигал спину каленым железом. Говорили, что он мой отец, но я знаю, что это вранье. Когда мне было тринадцать лет, я сбежал. Вот тогда-то он поймал меня и начал истязать. Теперь мне двадцать пять.
Они молча вернулись к своим койкам и улеглись.
Бэд лежал, глядя в потолок, натянув одеяло до глаз. Он посмотрел на дверь в конце комнаты и увидел там человека в коричневом котелке, с сигарой во рту. Он закусил нижнюю губу зубами, чтобы не закричать. Когда он снова посмотрел туда, человека не было.
– Послушайте, вы еще не спите? – прошептал он.
Бродяга промычал что-то.
– Я хочу рассказать вам… Я размозжил ему голову мотыгой. Размозжил ее так, как вы раздавили бы гнойный нарыв. Я говорил ему, чтобы он оставил меня в покое, но он не хотел… Он был жестокий, богобоязненный человек и хотел, чтобы все его боялись. Мы копали землю за старым пастбищем… сажали картошку. Я оставил его там до ночи; голова у него была раздавлена, как гнойный нарыв. Из-за забора с дороги его не было видно. Потом я зарыл его, пошел домой и сварил себе кофе. Он никогда не давал мне кофе. Я встал до рассвета и вышел на дорогу. Я думал, что в большом городе я буду как иголка в стоге сена. Я знал, где он хранит свои деньги. У него была пачка денег, величиной с вашу голову. Но я боялся и взял только десять долларов… Вы еще не спите?
Бродяга замычал.
– Когда я был мальчишкой, я дружил с девочкой старика Саккета. Мы часто сидели вместе на старом леднике в лесу Саккета и говорили о том, как мы поедем в Нью-Йорк и разбогатеем. И вот я здесь и не могу найти работы и все время боюсь. Сыщики преследуют меня повсюду – люди в коричневых котелках, со значками под пальто. Прошлой ночью я хотел пойти с одной девкой, но она увидела в моих глазах этот страх и выгнала меня… Она видела его в моих глазах.
Он сидел на краю койки, нагнувшись к самому лицу бродяги, говоря свистящим шепотом. Бродяга внезапно схватил его за руку:
– Слушайте, сынок, вы совсем спятите с ума, если так будет продолжаться. Есть у вас деньги? – (Бэд кивнул.) – Отдайте-ка их лучше мне на хранение. Я человек бывалый. Я вытащу вас. Одевайтесь и идите погуляйте. Заверните в закусочную за углом. Вам надо как следует поесть. Сколько у вас денег?
– Сдача с доллара.
– Дайте мне четвертак и хорошенько поешьте на все остальные деньги.
Бэд натянул штаны и дал бродяге четвертак.
– Возвращайтесь скорее, выспитесь хорошенько, а завтра мы с вами отправимся на вашу ферму и заберем тот сверток с деньгами. Как вы сказали – величиной с мою голову?.. Мы спрячем его так, что никто не найдет. Поделим пополам. Идет?
Бэд стиснул его руку деревянными пальцами. Потом, не завязав шнурков на башмаках, поплелся к двери и вниз по заплеванной лестнице.
Дождь перестал, прохладный ветер, пахнувший лесом и травой, рябил лужи на чисто вымытых улицах. В закусочной на Чэтем-стрит три человека спали сидя, нахлобучив шапки на глаза. Бармен читал за стойкой спортивный листок. Бэд долго ждал, пока ему подадут. Он чувствовал себя спокойным, беззаботным, счастливым. Ему подали коричневатую молотую солонину, и он ел ее с наслаждением, растирая языком о зубы поджаренную картошку, запивая ее очень сладким кофе. Начисто вытерев тарелку хлебной коркой, он взял зубочистку и вышел.
Ковыряя в зубах, он вышел грязным, темным переулком к Бруклинскому мосту. Человек в коричневом котелке курил сигару, стоя на середине широкого туннеля. Бэд прошел мимо него бодро и непринужденно. Плевать мне на него! Пусть идет за мной. Под арками моста было совершенно пусто. Только один полисмен стоял, зевая и глядя на небо. Казалось, что идешь среди звезд. Внизу улицы разбегались во все стороны, унизанные огнями фонарей между чернооконными глыбами домов. Река мерцала внизу, как Млечный Путь наверху. Пучок огня на буксире безмолвно, мягко скользнул во влажную темноту. Автомобиль пронесся по мосту, сотрясая звоном разбитого банджо стальные стропила и паутину кабелей.
Дойдя до решетки воздушной дороги на той стороне моста, он повернул обратно. Все равно, куда идти, теперь все равно некуда идти. Краешек синей ночи за его спиной побагровел, как багровеет железо на наковальне. За черными трубами и линией крыш засияли бледно-розовые контуры загородных строений. Мрак становился жемчужным, теплым. Все они – сыщики и охотятся за мной, все эти люди в котелках, бродяги с Баури, старухи в кухнях, трактирщики, трамвайные кондукторы, фараоны, девки, матросы, грузчики, швейцары… Так я и скажу ему, вшивому бродяге, где у старика лежат деньги!.. Один против всех. Один против всех этих проклятых сыщиков. Река была гладкая, ровная, как сине-стальной ствол ружья. Все равно, куда идти, теперь все равно некуда идти. Тени между верфями и зданиями были рассыпчаты, как синька. Мачты окаймляли реку; дым, пурпурный, шоколадный, мясисто-розовый, карабкался к свету. Теперь все равно некуда идти.
Во фраке с золотой цепочкой, с красной печаткой на пальце, он едет венчаться, сидя в карете рядом с Мэри Саккет, он едет в карете, запряженной четверкой белых лошадей, в ратушу, где мэр назначит его олдерменом; и свет сияет все ярче и ярче, он едет в шелку и бархате венчаться, он едет на розовом плюше в белой карете с Мэри Саккет, между шпалерами людей, которые машут сигарами, кланяются, бросают в воздух коричневые котелки, олдермен Бэд едет в карете, полной бриллиантов, со своей невестой-миллионершей… Бэд сидит на перилах моста. Солнце взошло за Бруклином. Окна Манхэттена охвачены пламенем. Он дергается вперед, скользит, висит на одной руке, солнце – в глаза. Вопль застревает у него в гортани, когда он падает.
Капитан буксира «Пруденс» Макэвой стоял на капитанском мостике, положив руку на штурвал. В другой руке он держал кусочек бисквита, который он только что окунул в кофе; кофейная чашка стояла на полке подле нактоуза. Он был хорошо сложенный мужчина с густыми бровями и пушистыми, черными, нафабренными усами. Он собирался было положить в рот кусок пропитанного кофе бисквита, как вдруг что-то черное с гулким всплеском упало в воду в нескольких ярдах от парохода. Тотчас же человек, высунувшийся из машинного отделения, закричал: «Кто-то спрыгнул с моста!»
– Будь он проклят! – сказал капитан Макэвой, роняя бисквит и хватаясь за штурвал.
Течение швыряло пароход, как соломинку. В машинном отделении трижды прозвонил колокол. Негр побежал на нос с багром в руках.
– Помоги ему, Рыжий! – крикнул капитан Макэвой.
После долгой возни они вытащили на палубу что-то длинное, черное, неподвижное. Колокол. Капитан Макэвой, хмурясь и волнуясь, выровнял нос и вновь повел буксир по течению.
– Жив, Рыжий? – спросил он хрипло.
Лицо у негра было зеленое, его зубы стучали.
– Нет, сэр, он себе начисто свернул шею, – медленно ответил Рыжий.
Капитан Макэвой забрал усы в рот.
– Будь он проклят! – пробурчал он. – Нечего сказать, приятный сюрприз – как раз в день моей свадьбы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































