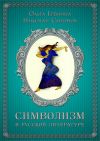Автор книги: Джонатан Стоун
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Литература, общество и институты
Институциональное понимание символизма ставит перед нами вопрос об агентности, обо всех тех, кто насаждал это новое литературное направление в России. Роль конкретных фигур как агентов развития русского символизма обычно затмевается впечатлением, будто он пришел в Россию в виде уже сложившейся эстетики с собственной преданной (пусть и небольшой) аудиторией. Символизм – это сумма людей и практик, осуществлявших посредничество между актом художественного производства и его восприятием читателями. Без учета этого факта трудно в полной мере оценить весь труд, затраченный на утверждение в России символистской идеи[10]10
Это один из аспектов обсуждения модернистского института в книге Лоуренса Рейни: Rainey L. S. Institutions of Modernism: Literary Elites and Public Culture. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1998. P. 4–5.
[Закрыть]. Подчеркивая вклад живых людей из плоти и крови, создававших символистские институты публикации и сети распространения, я стремлюсь показать важность личности для привнесения в русскую литературу этой новой эстетической концепции. Располагая существующим образцом – понятием символизма европейского, русские символисты ставили перед собой задачу адаптировать его к локальному контексту. Отчасти это требовало экспликации и теоретического обоснования соответствующей эстетики на русском языке. Однако также надо было создать материальный корпус произведений, которые приобрели бы ценность как на литературном рынке, так и в поле культурного производства. Поэтому первостепенной задачей стало закрепление за термином «символизм» определенной эстетики.
Понятие института как организующего принципа в исследовании концептуальной истории русского символизма предполагает сочетание индивидуального и коллективного творчества. Для символистов институт становится как средством, так и моделью взаимодействия с читателями, играя значительную роль в формировании этого взаимодействия. Институты воплощают собой сети, которые складываются из обеспечивающих такое взаимодействие сил. Институты находят материальное выражение в своей продукции – книгах, журналах и альманахах; состоят из социальной динамики авторов, редакторов, критиков, издателей и читателей; физически присутствуют в редакциях и салонах; и обладают отчетливыми нематериальными чертами пропагандируемого ими художественного мировоззрения. В совокупности все перечисленные элементы и составили институты русского символизма. Символизм был в равной степени институциональной принадлежностью и художественной идентичностью: представляется, что это обстоятельство лежит у самых истоков движения.
Поэт-символист находился в постоянном поиске подходящего читателя – иными словами, другого символиста. Круг производства, распространения и потребления символизма был настолько изолированным и самореференциальным, что различия между автором, читателем и критиком стирались. Как было сказано первым русским читателям символизма в 1892 году, идеальный поэт-символист – это тот, кто «говорит символами, понятными лишь таким же поэтам, как он сам»[11]11
Эта цитата приписывается Малларме. Венгерова З. Поэты символисты во Франции // Вестник Европы. 1892. № 9. С. 128.
[Закрыть]. Сама зыбкость дефиниции символизма указывает на симбиоз между утверждением абстрактного смысла этого течения и организацией, публикацией и распространением символистских произведений среди русской публики. Это в свою очередь подводит нас к пересечениям печатной культуры, эстетической солидарности и концептуальной истории: все перечисленные области должны так или иначе учитывать вопрос аудитории. Именно это сообщество, увиденное через призму читательской динамики, и составляет предмет моего исследования, показывающего символизм с позиций социологии символистских текстов. Такая трактовка заметно отличается от подхода к символизму, который изучает «жизнь и творчество» и сосредоточивается на теоретических декларациях символистов и деконтекстуализированных образцах их художественного творчества. Потребность в новой концептуальной истории русского символизма становится особенно очевидной с учетом всех тех элементов его литературного производства, которые обычно отодвигаются на задний план или игнорируются в пользу рассмотрения исключительно текстов и биографий наиболее видных символистов.
Одна из главных задач исследований, направленных на преодоление указанной методологической ограниченности, – подчеркнуть важность отдельных акторов, кругов и сетей взаимодействия, без которых символистская литература не могла бы быть создана. По словам Элвина Кернана, «литература – это не только объекты и события, но и роли»; похожее мнение высказывает Роберт Эскарпит, утверждая, что «каждый без исключения литературный факт предполагает наличие писателя, книги и читателя»[12]12
Kernan A. B. The Imaginary Library: An Essay on Literature and Society. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1982. P. 12; Escarpit R. Sociology of Literature. 2nd ed. London: Cass, 1971. P. 1. См. также: Duncan H. D. Language and Literature in Society. New York: Bedminster, 1961. P. 58–74; Рейтблат А. И. Русская литература как социальный институт // Писать поперек. М.: Новое литературное обозрение, 2014. Г. А. Толстых связывает гибкость таких ролей с развитием символистской книги; см.: Толстых Г. А. Книготворческие взгляды русских поэтов-символистов // Книга. Исследования и материалы. 1994. № 68. С. 210.
[Закрыть]. Все это – составляющие литературного движения, часто упускаемые из виду в работах о его эстетике, однако чрезвычайно значимые для его адаптации к конкретному культурно-социальному контексту. Они раскрывают механизмы обретения символистскими произведениями читателя. Для того чтобы определить и понять это новое искусство, очень важно учитывать этот процесс с отразившимися в нем восприятием и приемом соответствующей эстетики публикой того времени.
Подход, при котором во главу угла ставится многообразие читательских кругов и подчеркивается первостепенная роль институтов, обеспечивавших взаимодействие между аудиторией и литературой, сосредоточивается на сетях акторов, сформировавших эстетику движения[13]13
О многообразии русской читающей публики см.: The Space of the Book: Print Culture in the Russian Social Imagination / Ed. M. Remnek. Toronto: University of Toronto Press, 2011. P 12–14; Brooks J. Readers and Reading at the End of the Tsarist Era // Literature and Society in Imperial Russia, 1800–1914 / Ed. by W. Mills Todd III. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1978. P. 97–150. Рейчел Полонски описывает становление модернизма в России как процесс, осуществляемый в акте чтения, особенно иностранных произведений. Polonsky R. English Literature and the Russian Aesthetic Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
[Закрыть]. Обращение к этим сетям позволяет выявить материальные и концептуальные звенья между ответственными за производство книги институтами и читателями, наделявшими ее ценностью. Русский символизм – особенно релевантная модель для исследования кругов акторов и агентов, задающих рамки создания литературы. В настоящей книге подчеркивается новая роль публики, возникшая вместе с культурным производством модернизма.
Символисты внесли в потребление и пропаганду своего искусства элемент продуктивной неоднозначности. К тому времени читающая публика давно уже влияла на институты русской литературы. Как показал на материале романтизма Уильям Миллз Тодд, «эта публика предъявляла русскому писателю набор определенных ожиданий, и писатель вынужден был делать выбор в пределах нескольких моделей, которые можно с полным основанием назвать институционализированными»[14]14
Todd W. M. III. Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. P. 46. Похожую дидактическую и переменчивую динамику в постсталинской советской литературной культуре, сложившейся вокруг журнала «Новый мир», раскрывает Денис Козлов: Kozlov D. The Readers of Novyi Mir: Coming to Terms with the Stalinist Past. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2013. С исследованием Ханны Чучваха я познакомился уже после того, как закончил работу над книгой. В нем тоже показана связь институтов периодики конца XIX – начала XX века с эстетикой русского модернизма. Chuchvaha H. Art Periodical Culture in Late Imperial Russia (1898–1917). Leiden: Brill, 2016.
[Закрыть]. Вплетение институциональной динамики символизма в паутину оценочных актов размывает грани между разными ролями. Символистские читатели создавали символистские институты; символистские книги и сборники задумывались еще до того, как для них набиралось достаточно материала. Форма и содержание словно бы одновременно возникают на фоне артикулирования идеи символизма как своеобразного сплава воли художника с читательскими, издательскими и организаторскими ожиданиями. Шаг более общего порядка, предпринимаемый мною при анализе этой стороны концептуального развития символизма, включает рассмотрение институтов, которые отвечали за его публикацию и организацию, соединяли форму с содержанием. Более частный шаг, сопровождающий это обсуждение, состоит в конкретизации взаимоотношений читателя с символистским текстом. На заре модернистской эпохи сложилась принципиально новая для русской читающей публики ситуация: аудитория находилась везде и вместе с тем – парадоксальным образом – оставалась довольно разобщенной и ограниченной. Интерпретация символистских произведений через призму аудитории позволяет увязать современные эпохе реакции на символизм, проистекавшие из разделения читателей на благожелательных и настроенных враждебно, с ретроспективными оценками его становления в России, тяготеющими к нарративу поступательного исторического развития. Это та золотая середина, которую я стремлюсь нащупать, показывая, как небольшая группа людей сумела своей организаторской деятельностью глубоко повлиять на развитие русского модернизма.
Формирование русского символизма отмечено крайней неопределенностью, сопровождавшей уже его зарождение в 1890‐е годы. Парадигматические аспекты символизма явились реакцией на эту неоднозначность – и ее преодолением. Важнейшие из этих усилий были связаны с пропагандой концепции символизма в печати. В этом заключалась цель созданных русскими символистами институтов, а их стратегия распространения своего искусства как именно символистского состояла в применении эпитета «символистский» к любым его проявлениям, материальным и нематериальным. Для того чтобы проследить успешное «приживление» символизма на русской почве, необходимо раскрыть напряжение между его глубокой неоднозначностью и всем тем, что было призвано ее уравновесить: символистским издательством, символистским читателем и символистской книгой. Мой подход к русскому символизму основан на анализе его становления через призму перечисленного. Что такое символистская книга, как она создавалась, как была устроена, как ее выпускали и читали? Все эти проблемы влекут за собой вопрос о смысле и оценке нового искусства. Каково было значение адекватных или неадекватных суждений о символизме, чтения сочувственного или враждебного? Вот вопросы, которые находятся в центре моего обсуждения символизма и которые я считаю фундаментальными для понимания целенаправленно созданной символистской эстетики. Был ли символизм всего лишь бандой литературных мошенников, которые «прикидыва[ли]сь сумасшедшими лишь с тем, чтобы собирать с публики деньги за свои издания», или же глубоко трогающей поэзией, «полн[ой] удивительного таинственного смысла»[15]15
Таковы лишь два из многочисленных и чрезвычайно разнящихся откликов на выпущенные в 1894–1895 годах брошюры «Русских символистов». Первый был напечатан А. В. Амфитеатровым (под псевдонимом «Old Gentleman») в газете «Новое время» (1895, № 7036), а второй содержался в письме 1894 года Владимиру Маслову (придуманному Брюсовым издателю «Русских символистов») от начинающего поэта «Л. В.», прочитавшего первый выпуск сборника (РГБ. Ф. 386. Карт. 110. Ед. хр. 53).
[Закрыть]?
В этой книге я выстраиваю нарратив о символистском лавировании между Сциллой понятности и Харибдой недоступности, анализируя взаимодействие символизма с литературными институтами. Институты эти, создавая символистскую книгу, черпали как из проверенных, устоявшихся традиций печатной культуры XIX века, так и из новейших подходов к производству, презентации и распространению литературы. Опираясь одновременно на старые и новые механизмы, они материально воплощали понятие, которое по большому счету материализации противилось. И все же такое материальное воплощение было одной из ключевых составляющих символизма, очень важной, как будет показано, для его эстетики. Существование символизма в качестве объекта – вполне осязаемого набора книг – стало частью символистской репрезентации собственного искусства и прочно вошло в самоопределение этих художников. Сформулировать же это самоопределение не всегда было легко даже самым искушенным из символистов.
Когда в 1891 году французского поэта Поля Верлена спросили о сущности символизма, он парировал: «Символизм? Не понимаю. Это, должно быть, немецкое слово?»[16]16
Huret J. Enquête sur l’évolution littéraire (1891). Paris: José Corti, 1999. P. 109.
[Закрыть]. Этот иронический ответ Верлена на вопрос о движении, в развитии которого он сам сыграл огромную роль, подчеркивает неопределенность, сопутствовавшую понятию символистской литературы с самого начала. У символизма как поэтики, извлекающей смыслы из символов, велик риск показаться непонятным. Именно на символы возлагается задача сообщить нечто такое, что зачастую выражению не поддается, и в этом парадоксе заключается суть символистского проекта. Несмотря на подчеркнутый интерес к невыразимому, символизм оказался чрезвычайно продуктивной художественной формой. Он призвал к эстетической переоценке, которую и осуществили несколько поколений поэтов конца XIX – начала XX века. Суть этого художественного перелома – в способности символистской литературы артикулировать мировоззрение, чьим фундаментом служил бездонный, казалось бы, кладезь стилистических абстракций и эпистемологического релятивизма. По выражению Артура Саймонса, символ представлял собой бесконечное, превращенное в конечное[17]17
Symons A. The Symbolist Movement in Literature (1899). New York: E. P. Dutton, 1919; reprint, Whitefish, Mont.: Kessinger, n. d. P. 2.
[Закрыть]. Задачей символистов было материализовывать идеи в виде книг и придавать конкретность нередко смутному миру знаков, области ноуменального. Им пришлось искать средства, позволяющие сделать поэтику, понятную лишь посвященным в ее широкий социально-философский контекст и причастным к внутренним символистским кругам, доступной для читателей. Часто за ней следовал неотступный призрак пародии и насмешки – и, как следствие,
неэкспертов, тем не менее открыто отдававших должное [модернизму], подозревали в безумии. Модернизм … был не просто поддающейся категоризации совокупностью художественных объектов, но системой представления этих произведений в серьезном свете[18]18
Mock Modernism: An Anthology of Parodies, Travesties, Frauds, 1910–1935 / Ed. L. Diepeveen. Toronto: University of Toronto Press, 2014. P. 5–6.
[Закрыть].
Определенную роль в этом процессе играют теоретическая сторона символизма и попытки поэтов, критиков и позднейших исследователей этого направления сформулировать символистский метод, однако не менее важны и материальные продукты символизма, а также задействованные в их создании сети и механизмы. В «Институтах русского модернизма» предлагается альтернативная хронологической интерпретация символизма, прослеживающая его концептуальное становление через призму читательской фигуры. В основе моего подхода к раннему русскому модернизму лежит акт чтения символизма вкупе со всей материально-эстетической организацией и медиацией такого акта. Чтобы продемонстрировать это, я обращаюсь сначала к недружелюбным реакциям на символизм, а затем перехожу к чувству продуктивной неоднозначности, которое появляется, если рассматривать символистское письмо и пародию на него как взаимосвязанные результаты одного и того же импульса. Я ввожу понятие символистской книги через анализ изменений, вносимых процессами ее подготовки и выпуска в принципы чтения, легитимации и оценки литературы. Я утверждаю первостепенную важность читателей, прослеживая их приобщение к символизму через участие в его оценке, их встречу с визуальными репрезентациями его эстетики на обложках символистских книг, а на поздних этапах – с подчеркнуто биографическими аспектами этой эстетики. Вместо того чтобы расценивать символизм как линейную последовательность ключевых событий и влиятельных публикаций, я помещаю в центр моего описания более гибкие метафорические понятия. Идея культурного ландшафта, попытка запечатлеть характерную для группы художников и их публики атмосферу, сосредоточенность на понятии момента, позволяющем лучше понять развитие конкретной литературной концепции, – все это отражает ту подвижную неустойчивость, которая выступала определяющей чертой модернизма.
Вскоре после притворного верленовского признания в неосведомленности о сути символизма уже искреннее непонимание этого термина проявилось в России. Ища возможности издать свою вторую книгу стихов «Символы» (1892), Дмитрий Мережковский написал А. С. Суворину – «в России единственн[ому] издател[ю], который смотрит на литературу с литературной точки зрения»[19]19
Это письмо, датированное 14 сентября 1891 года, цитируется в: Мережковский Д. Стихотворения и поэмы / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. К. А. Кумпан. СПб.: Академический проект, 2000. С. 803.
[Закрыть]. Тот факт, что в этом газетном магнате, издателе архиконсервативной газеты «Новое время», Мережковский видел потенциального публикатора своей «символической» поэзии, проливает свет на литературную ситуацию в России начала 1890‐х годов. Преобладавший печатный формат литературных дискуссий того времени сложился в атмосфере позитивизма и реализма 1860‐х годов. Даже в 1892 году толстые журналы оставались единственным рупором нового искусства, отражавшего переход от материалистических основ к эстетике идеализма. Плохая совместимость нового искусства и старой массовой периодики подчас проявлялась в отсутствии языкового взаимопонимания. Жертвой подобного казуса стал и Мережковский: в газете его поступившая в книжные магазины «Нового времени» книга оказалась анонсирована под бессмысленным названием «Символье». На том этапе связь между поэзией и понятием символа казалась сотрудникам газеты ничуть не яснее абсурдного неологизма.
История символистского письма – это еще и история чтения (и превратного прочтения) символизма. Зная, где искать, русские поэты, чье становление пришлось на 1890‐е годы, могли черпать из сокровищницы символистских произведений, главным образом французских. Те, кто к 1895 году торжественно провозгласили себя «русскими символистами», пришли к этому самоназванию и превращению в поэтов-символистов не раньше, чем попробовали себя в роли читателей символизма. В этом проявилось сознательное размывание границы между понятиями читателя и писателя. Для того чтобы в полной мере приобщиться к символизму и «получить квалификацию» символиста, требовалось быть обоими. Определяя эту квалификацию как «активность восприятия» при интерпретации символистского текста, Инна Корецкая цитирует высказывание Иннокентия Анненского: «самое чтение поэта есть уже творчество»[20]20
Корецкая И. В. Символизм. С. 709.
[Закрыть].
Вопрос о том, как в России 1890‐х годов становились читателями-символистами, существенно приближает нас к пониманию того, как в тот же период времени становились поэтами-символистами. Изолированность положения читателя-символиста, т. е. читателя, воспринявшего установку нового искусства на производство смысла из трудноуловимых оттенков, отражается в ряде тавтологичных определений, неизменно сопровождавших само представление о чтении символизма. Так, одна рецензия 1895 года, помещенная в «Новостях дня» и в целом повторяющая характерный для популярной печати отрицательно-пренебрежительный взгляд на символизм, цитирует выдержки из занимательного и красноречивого документа – письма, якобы написанного «читателем-символистом» в защиту движения. Рецензент комментирует: «По мнению автора письма, нужно быть символистом, чтобы как следует понять такое стихотворение». Однако далее проговаривает невысказанный элемент этой формулы: «Но автор ничего не говорит о том, кем надо быть, чтобы сделаться таким символистом»[21]21
Новости дня. № 4398. 7 сентября. Эта рецензия хранится в коллекции вырезок Брюсова в его архиве: РГБ. Ф. 386. Карт 124. Ед. хр. 1. Л. 11–12.
[Закрыть].
Вопрос о ценности символизма и критериях ее определения станет центральным для производства русского символизма на протяжении последующих двадцати лет. Создавая новую категорию читателей, не вполне отвечавшую нормам и ожиданиям традиции чтения XIX века, символисты пропагандировали основанный на новом своде ценностей и правил подход к своему искусству. Модернизм озадачивал и обескураживал большинство читателей, столкнувшихся с произведениями, которые не придерживались условностей реалистической прозы. Такие читатели склонны были отвергать русский символизм в том же ключе, в каком это делает «Иванушка Дурачок» в рецензии для «Нового времени» начала 1894 года:
Для тех, кто любит литературные курьезы ‹…› и кто не прочь расширить селезенку здоровым смехом, произведения московских символистов … доставят, конечно, неоценимое наслаждение[22]22
Новое время. 1894. № 6476. 10 марта. Цитируется в: Ашукин Н., Щербаков Р. Брюсов. М.: Молодая гвардия, 2006. С. 62–63; также хранится в коллекции вырезок Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 124. Ед. хр. 1. Л. 3–4).
[Закрыть].
Для читателей, которые так и не сделались символистами и не приобщились к элитарным кругам символизма, вся ценность подобных произведений сводилась к забавной курьезности. Я еще вернусь к этому подробнее при обсуждении символистской книги, пока же важно в общих чертах рассказать об этой перемене в контексте читателей и обозревателей русских толстых журналов.
Ежемесячные толстые журналы ориентировались на широкую читательскую аудиторию, интересующуюся литературными, историческими, политическими, социальными и экономическими вопросами (список можно продолжить). Разношерстность этой публики, разбросанной по всей России, рождала представление об анонимном и пассивном читателе, соответствовавшее литературной рутине журналов с вкраплениями стихов и публикуемыми по частям романами. Главными показателями ценности таких произведений служили популярность и коммерческий успех, зависевшие от массового читателя этих массовых публикаций. Для этой категории читателей достоинства модернизма исчерпывались веселой развлекательностью – и только. Чтобы утвердить свою серьезную литературную и культурную значимость и, соответственно, легитимность, символизм должен был изменить аудиторию. Коль скоро он не удовлетворял запросам массовой публики, требовалось найти более узкую прослойку читателей, которые, избавившись от своей анонимности, влились бы во внутренние круги символизма и воплотили представление Бодлера о читателе как о брате-близнеце поэта[23]23
Соответствующее утверждение содержится в последней строке предисловия к «Цветам зла», озаглавленного «К читателю».
[Закрыть]. Бодлеровское программное предисловие к программной же книге отнюдь не ограничивается ролью риторического украшения: в нем описывается тип мышления, вне которого ее нельзя по-настоящему прочесть и понять. Поэт предлагает здесь ключ к ее «скрытой архитектуре»[24]24
Это понятие, использованное Бодлером для защиты его книги, подробно обсуждается в главе 4.
[Закрыть]. Читатель как двойник поэта – такая же неотъемлемая составляющая символистского производства смысла и ценности, как и сам автор.
Читать – значит оценивать. Чтение находится на пересечении двух систем оценки – обменной и внутренней ценности. В своем исследовании художественной ценности, делающем особый упор на ее подвижность и контингентность, Барбара Смит отмечает гибкость обеих систем. Хотя индивидуальный субъективный актор играет некоторую роль в принятии подобных решений, произведения искусства попадают к читателю «заранее оцененными»:
Как и любые другие объекты, произведения искусства и литературы несут на себе следы истории собственной оценки, признаки ценности, обеспечиваемой различными общественно-культурными практиками, а в данном случае еще и определенными высокоспециализированными и развитыми институтами. Конечно, обычно уже сами термины «искусство» и «литература» отчетливо свидетельствуют о принадлежности к категории почитаемого. Однако конкретные функции, подразумеваемые этими терминами в отличие от, скажем, «дверных стопоров» и «часов», не являются ни узко ограниченными, ни легко уточняемыми, а, напротив, исключительно разнородными, изменчивыми и неуловимыми. Стабильность (всегда ограниченная) соотношения этих наименований с конкретным набором ожидаемых и желательных функций внутри некоего сообщества по большей части обеспечивается нормативной деятельностью различных институтов – прежде всего литературно-эстетической академии (academy), которая, в частности, разрабатывает педагогические и другие аккультурирующие механизмы, направленные на поддержание по меньшей мере (и, как правило, самое большее) подмножества участников такого сообщества, в котором «признают ценность» произведений искусства и литературы «как таковую». Иными словами, предоставляя им «необходимую подготовку», обучая «соответствующим навыкам», «формируя их интересы» и вообще «развивая их вкусы», академия воспитывает все новые поколения людей, для которых объекты и тексты, маркированные таким образом, действительно выполняют подобные привилегированные функции, и тем самым обеспечивает преемственность взаимно определяющих канонических произведений, канонических функций и канонических публик[25]25
Smith B. H. Contingencies of Value: Alternative Perspectives for Critical Theory. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988. P. 43–44. Похожую мысль о важности литературных институтов в определении ценности высказывает Херберт Линденбергер. «Мой главный тезис состоит в том, что свои убеждения и оценки мы не черпаем напрямую из природы (в физическом или более отвлеченном смысле), а получаем через посредство семейных, образовательных и социальных сетей, внутри которых находимся на протяжении жизни» (Lindenberger H. The History in Literature: On Value, Genre, Institutions. New York: Columbia University Press, 1990. P. 26).
[Закрыть].
Этот удивительно насыщенный и содержательный пассаж затрагивает многие из тех идей и целей, которые в 1890‐е годы сформируют русский символизм и достигнут высшей точки в создании символистских институтов, академий и канона. Обзор Смит можно рассматривать как модель механизмов, приведших к появлению читателей-символистов. На раннем этапе это было первостепенной задачей, необходимой для завоевания символистами своего собственного подмножества российской аудитории. Описание этого процесса через призму сдвига, произошедшего в оценке модернистской литературы, предполагает несколько важных ответвлений. Создание книг связано с эстетической концептуализацией; постижение идеи символизма требует приобщения к его сетям материального и культурного производства; чтение книг равносильно наделению их ценностью. Обменная ценность символизма как корпуса объектов неразрывно переплетается с его внутренней ценностью в качестве нового метода создания и восприятия литературы. Первое десятилетие русского символизма (1892–1902) пройдет в активной разработке соответствующих оценочных парадигм. Символисты сами контролировали создание, презентацию и распространение своих произведений, приучая читателя к признанию символизма как новой литературной формы. Как отмечает Корецкая, главным источником новизны символизма и используемого им языка были «не словарные изыски, не словотворчество, а измененная функция обычной лексики»[26]26
Корецкая И. В. Символизм. С. 709.
[Закрыть]. Подобная смена перспективы требовала нового метода взаимодействия с текстом.
Средством осуществления столь обширного сдвига русской литературной парадигмы служили отнюдь не разрозненные, изолированные индивидуальные реакции на новое искусство. Этот сдвиг стал возможным благодаря созданию институциональной платформы, которая явилась связующим звеном между символистами и их аудиторией. Толстые журналы были не только контекстом, в котором тогдашние читатели впервые встретились с символизмом, но и площадкой, откуда символисты могли обращаться к публике. Журналы как пространства медиации сформировались параллельно с институционализацией и профессионализацией русской литературы XIX века. Этот процесс подробно прослеживает Уильям Миллз Тодд, отмечая характерную для начала XIX столетия
институциональную недостаточность [которая] яснее всего проявлялась в нехватке критической активности, способной посредничать между авторами и публикой, осведомляя последнюю о происходящем в литературе и донося до авторов четкое представление о читательских интересах и ожиданиях[27]27
Todd W. M. III. Fiction and Society in the Age of Pushkin. P. 89.
[Закрыть].
Изображая узы знакомств и сети, взаимодействующие с литературными институтами и приводящие их в движение, при помощи многочисленных схем, Тодд подчеркивает коммуникативную природу этих институтов. Абрам Рейтблат, тоже прибегающий к схематичному изображению отношений между ключевыми участниками литературного производства, сосредоточивается на динамичной, изменчивой природе этого конструкта: «Функционирование литературы как социального института основано на постоянном взаимодействии исполнителей социальных ролей»[28]28
Рейтблат А. И. Русская литература как социальный институт. С. 16.
[Закрыть]. Эти диаграммы иллюстрируют способность литературных институтов к распространению информации, одновременно обращая наше внимание на обилие обеспечивающих их деятельность агентов и ролей. Концептуальное развитие русского символизма неотделимо от способов, при помощи которых символисты осуществляли эту агентность и выполняли эти функции, тем самым устанавливая контроль над институционализацией своей эстетики.