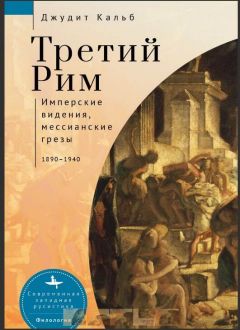
Автор книги: Джудит Кальб
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Леонардо да Винчи, Евтихий Гагара и Третий Рим
Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты – предвестник
Еще неведомого дня.
Дмитрий Мережковский.Леонардо да Винчи (1894)
Во втором романе трилогии – «Воскресшие боги: Леонардо да Винчи» (1900) – Мережковский обращается к итальянскому Возрождению, сосредоточившись на художнике, в ком видел предвестника синтеза язычества и христианства, к которому стремился. И снова его выбор темы резонирует с дискуссиями, характерными для современного ему европейского и русского общества. В то время, когда он работал над романом, художник и ученый Леонардо да Винчи был фигурой, вызывавшей огромный научный и общественный интерес в Европе. Как пишет Ричард Тернер: «Во второй половине XIX столетия Леонардо да Винчи стал предметом, наверно, большего количества исторических и критических трудов, чем любой другой исторический персонаж» [Turner 1993: 100][126]126
Дмитрий Панченко также отмечает источники, которые были доступны Мережковскому, когда он начал работать над романом [Панченко 1990: 629]. Знакомый Мережковского Аким Волынский опубликовал работу, посвященную Леонардо, в 1900 году, незадолго до появления романа Мережковского (там же, 632).
[Закрыть]. В России благодаря усилиям, в частности, Ф. Ф. Зелинского, идея славянского Возрождения обретала почву в среде интеллектуалов, вызывая сравнения предыдущих ренессансов в искусстве с потенциалом религиозного и культурного перерождения Европы, в этот раз вдохновленного славянскими веяниями.
Мережковский все сильнее убеждался в том, что разлагающееся европейское общество, которое он описывал через призму Древнего Рима в «Юлиане Отступнике» и в своих стихах начала 1890-х годов, можно спасти благодаря притоку русского, эллинистического в своей основе христианства. В критическом исследовании «Л. Толстой и Достоевский», написанном вскоре после окончания романа и тематически в определенной степени связанном с ним, он отметил, что Россия не может более полагаться на Европу в поисках вдохновения, как зачастую делала раньше. Скорее, приближалось время, когда Европа обернется к России в поисках спасения, понимая, что судьба Европы зависит от «слова» русских, обладающих «новым религиозным сознанием». «Или мы, или никто», – делает вывод он [Мережковский 2000: 189–190].
Мережковский продемонстрировал в «Юлиане Отступнике», что различия между Востоком и Западом, свойственные его времени, связаны своими корнями с Римской империей, когда христианство возникло в восточной половине государства и победило язычество, ассоциирующееся с Западом. Затем Великая схизма 1054 года разделила христианскую церковь на католический Запад и православный Восток, во многом сохранив прежние границы империи в новом контексте. Тем временем, начиная с V века, Западная империя стала распадаться на мелкие государства и княжества, тогда как восточная часть, Византия, продолжала существовать в прежних границах еще около тысячелетия. Для Мережковского решающим в этой преемственности и изменениях стало возникновение на православном Востоке христианской России в конце X века. Затем в 1453 году, год спустя после рождения Леонардо да Винчи, мусульманская Турция завоевала Константинополь, и Россия осталась самым могущественным православным государством. Вразрез с общепринятым мнением Мережковский предположил связь между Россией и Возрождением. В частности, во время жизни Леонардо, по мнению Мережковского, Россия «родилась» как потенциальная наследница Римской империи. Современные автору русские могли учиться на взаимодействиях Европы и России периода Возрождения, чтобы предвосхитить грядущее славянское Возрождение.
Во втором романе Мережковский в явном виде описывает уже существующее Московское государство, связывая концепцию современного Возрождения, имеющего славянские корни, со своим видением России как Третьего Рима. Основываясь на ассоциациях с Западом и Востоком, предложенных в «Юлиане Отступнике», автор изобразил Запад, представленный Римом, во многом как переродившуюся империю Цезарей, а Восток, в особенности Россию, как оплот христианства. Придерживаясь географических реалий периода после раскола церквей, он, однако, теперь зачастую относит Грецию к Востоку, как и Россию. Мережковскому в постоянных попытках выстроить уникальность присущего русским синтеза язычества и христианства эта связь Греции с христианским Востоком позволила провозгласить греческое язычество основой восточно-православного христианства.
Через историю русского иконописца Евтихия Паисиевича Гагары Мережковский показал признание русским художником классических языческих корней русской православной веры, которую он любит. Роман заканчивается тем, что Евтихий осознает: отождествление России с Третьим Римом воплощается в союзе России и Европы. Одинокий среди своих европейских современников, Леонардо, вдохновленный своим приходом в мастерскую Евтихия, признает славу, которая ждет Россию на пути следования ее уникальной, спасительной роли. Таким образом, в «Леонардо да Винчи» Мережковский в сущности использует Леонардо и Италию эпохи Возрождения, чтобы благословить грядущее русское Возрождение, которое автор предвидит.
Роман Мережковского не только содержит мессианские смыслы, но и, подобно «Юлиану Отступнику», является настоящим справочником тщательно выверенных исторических фактов, дополненных религиозно-философскими акцентами и творческими находками. «Леонардо да Винчи» охватывает целиком долгую жизнь художника (1452–1519), начиная с детства в Тоскане, затем описывает периоды его службы при дворе герцога Лодовико Сфорца («Мавра») в Милане; у Чезаре Борджиа, герцога Валентино, в Риме; при правительстве Республики Флоренция и, наконец, при французском дворе сперва Людовика XII, а затем Франциска I. Мережковский и его супруга Зинаида Гиппиус проехали по следам художника по всем этим местам, когда Мережковский готовился к написанию романа. Он также изучал исторические артефакты, включая дневники Леонардо, выдержки из которых включил в роман. Мережковский показал процесс создания живописных работ, таких как «Тайная вечеря», «Колосс», «Мона Лиза», и картины, изображающей Иоанна Крестителя, напоминающего Диониса. Он показал отношения между Леонардо и другими значимыми фигурами Возрождения, включая Николо Макиавелли, автора «Государя». Кроме того, Мережковский уделяет внимание отношениям Леонардо и его учеников[127]127
Мережковский также добавляет то, что отсутствует в исторических источниках. К примеру, нет свидетельств того, что Леонардо лично был знаком с Макиавелли или влюбился в Мону Лизу, создавая ее портрет, а Мережковский предполагает, что эти события имели место [Панченко 1990: 630–631].
[Закрыть]. Он особенно выделяет раздираемого противоречиями Джованни Бельтраффио – отсылая к поискам «истины» самого Мережковского и его современников. Джованни мечется между красотой и знанием, обретенными в мастерской Леонардо, и «историческим» христианством монаха Савонаролы. Когда его подруга Кассандра начинает настаивать на том, чтоб тот принял идею синтеза язычества и христианства, Джованни совершает самоубийство. Другие ученики – похожий на Сальери Чезаре да Сесто, который яростно завидует таланту Леонардо и при этом испытывает тягу к нему, и Франческо Мельци, который обожает учителя и в старости художника заменяет ему сына. Мережковский аллегорически показывает взаимосвязь между окружением персонажей и его собственным, поскольку период Возрождения становится мостиком, соединяющим Древний Рим первого романа трилогии и современную ему Россию.
Италия эпохи Возрождения у Мережковского напоминает возрожденную Римскую империю. Он описывает правителей, воплощающих идею сверхчеловека Ницше (или человекобога у Мережковского): они обретают власть, славу и красоту, ощущая свою вседозволенность. Лодовико Сфорца, который пришел к власти, свергнув законного наследника, мечтает, чтобы его исповедовал папа, а император Священной Римской империи возглавил его войско. Он называет Цезарем сына, которого родила ему его красавица-любовница. Это звучное имя императора носит и Чезаре Борджиа, герой «Государя» Макиавелли. Пользуясь дарованной ему красотой (говорили, что он красив как бог), а также красотой и талантами тех, кто служил при его дворе, он очаровывал всех, с кем встречался, и хладнокровно убивал тех, кто вставал на его пути к власти. Отец Чезаре папа Александр VI Борджиа со свойственной ему убийственной тягой к власти, в свою очередь, является воплощением языческого, имперского Рима, распространившегося на Ватикан, оплот католической церкви. Когда Александр чествует Чезаре как грядущего объединителя Италии, темой празднования он выбирает «Триумф Юлия Цезаря» (3: 121). Церемония устроена так, как описана в древнеримских текстах и запечатлена в памятниках: Чезаре в лавровом венке едет на колеснице, окруженный солдатами, чья форма напоминает форму римских легионеров. Преемник Александра Лев X покровительствует великим художественным талантам Возрождения и заявляет, что готов скорее расстаться с мощами апостола Петра, чем с недавно обнаруженным Лаокооном. Тем не менее, как и в «Юлиане Отступнике», время полностью языческого государства прошло. Лодовико Сфорца и Чезаре Борджиа повержены, папа Александр умер, а первые шаги Реформации угрожают власти Ватикана.
Как и в первом романе, Мережковский показывает «историческое» христианство, воплощением которого становится фигура Савонаролы, связанного на ницшеанский манер с иудаизмом. Савонарола стремится танцевать, как библейский Давид перед Ковчегом Завета, а толпа вокруг его «костра тщеславия», поглощающего работы Боттичелли и самого Леонардо, поет про царя Давида[128]128
Минц полагает, что фигуру Савонаролы в романе можно воспринимать как карикатуру на Льва Толстого, чей отказ от земных удовольствий ужасал Мережковского [Минц 2004: 18].
[Закрыть]. «Историческое» христианство воплощается в инквизиции, которая отправляет язычницу Кассандру на смерть как ведьму, оно также отражается в таких русских, как надзирающий за Евтихием Илья Потапыч Копыла: они путешествуют по Европе, но отвергают здесь все, испытывая отвращение к телесности и красоте.
И вновь противоядием от такой неполноты веры оказывается объединяющее «истинное» христианство, имеющее языческие греческие корни, которое обнаруживается в России, что показано через историю Евтихия и даже через само его имя. Имя содержит русский корень – тих, подразумевающий мягкость и спокойствие – качества, которые связаны с русским православием, – но происходит оно от греческого корня, означающего «благополучие» (eu+tyche). Таким образом, Евтихий воплощает главные, собирательные черты «истинного» христианства. В этом контексте он один воспринимает на картине Леонардо Иоанна Крестителя как Диониса. Это смешение языческого и христианского смущает и обескураживает всех остальных зрителей. Отображая признание Евтихием классических языческих корней его христианской веры, а затем и его видение объединяющего русского Третьего Рима, Мережковский создает персонажа, который в XX столетии мог вдохновить его художественных наследников в России[129]129
Фигура Евтихия привлекла на удивление мало внимания критиков, в особенности учитывая его важность в отображении Мережковским своей очарованности доктриной Третьего Рима (о чем я рассуждаю ниже) и в более широком смысле в предоставлении альтернативы «историческому» христианству Савонаролы и ему подобных. Поэтому я не согласна с мнением исследователей, полагающих, что отражение Мережковским христианства во втором романе трилогии является однобоким (см., к примеру, [Кумпан 2000: 63]).
[Закрыть].
Мережковский признает, что путь к Третьему Риму не будет легким. В самой первой сцене книги, где показаны русские, дается слабая надежда на новое знание, идущее из этого края, – или что это важное русское послание будет принято на Западе. Лодовико Сфорца организует прием, на котором присутствуют как европейцы, включая Леонардо, так и русская делегация, приехавшая с визитом. Возглавляет делегацию Данило Мамыров, посланец великого князя Москвы. Мамыров, представитель «исторического» христианства, отворачивается от статуй олимпийских богов как от «антихристовой мерзости» и называет празднество у герцога Моро «языческой поганью» (2: 255). Он убежден, что является носителем «истинной» христианской веры, и поэтому требует отвести ему почетное место за столом, пока размышляет о славе России:
Великий князь московский уже объявлен был единственным наследником двуглавого орла Византии, объединившего под сенью крыл своих Восток и Запад, так как Господь Вседержитель, сказано было в послании, низвергнув за ереси оба Рима, ветхий и новый, воздвиг третий, таинственный Град, дабы излить на него всю славу, всю силу и благодать Свою, третий полуночный Рим – православную Москву, – а четвертому Риму не бывать (2: 253).
Мамыров далек от продвигаемой Мережковским идеи синтеза восточного, т. е. просветленной веры, и западного, т. е. языческого имперства. Он отвергает европейские влияния и стремится, напротив, расширить влияние узко понимаемого русского православия[130]130
Для Мережковского на данном этапе Третий Рим был всеобъемлющей концепцией, вбирающей в себя как православную религию с ее языческими эллинистическими корнями, так и римское имперство. Таким образом, даже воспевая национальные черты и предназначение России на этом пути, Мережковский делал это, как отмечает Бен Хеллман, в глобальном контексте: «Духовное величие России не отрицало других народностей и являло собой не опасность, а скорее благословение для остального мира, поскольку состояло на службе у идеи всеобщего спасения» [Hellman 1995: 225]. Хеллман утверждает, что Мережковский отвергал национализм, опираясь на идею Достоевского о том, что русские люди уникальны в особенности тем, что способны вбирать в себя, как это делал Пушкин, черты других народов. Русские должны были вести мир к единству. Таким образом, для Мережковского Мамыров, с его уклоном в «историческое» христианство, является выражением нетерпимости к западным тенденциям, которые, по Мережковскому, должны стать частью истинного Третьего Рима, и тем самым подрывает собственную уверенность в доктрине Третьего Рима.
[Закрыть].
В то же время большинство собравшихся европейских гостей столь же мало заинтересованы в том, чтобы понять Россию, как и Мамыров – в том, чтоб понять их. Они принимают отказ Мамырова за отсутствие воспитания и с издевкой говорят о русских:
Что такое? Опять с московитами неприятности? Дикий народ! Лезут на первые места – знать ничего не хотят. Никуда их приглашать нельзя. Варвары! А язык-то – слышите? – совсем турецкий. Зверское племя!.. (2: 251).
Садясь отобедать «голою Андромедою, из нежных каплуньих грудинок, прикованною к скале из творожного сыру, и освободителем ее, крылатым Персеем из телятины», европейцы называют Россию «злополучной, Богом проклятой землей» (2: 254).
Леонардо, с его стремлением к новым открытиям и необычным для собравшихся на празднестве европейцев желанием узнать больше о России, перекидывает мост между Европой и Россией. В изображении Мережковского Леонардо предстает примечательным результатом различных влияний. Он сын простой крестьянки, добрый, любимый детьми и животными, религиозный и в то же время очарованный чудесами этого мира и не желающий от них отворачиваться. Он с одинаковой сосредоточенностью работает над лицом Иисуса на «Тайной вечере» и над созданием своей летающей машины, о чем он мечтал всю жизнь. Он не разделяет их: ведь и Иисус, и летающий аппарат являются составляющими вселенной Бога, включающей в себя как чудеса христианской веры, так и земную красоту и знания. Мережковский сравнивает Леонардо со святым Франциском Асизским. Для автора этот святой – один из немногих христиан, кто, воспевая природу, достиг «истинно» христианской любви, охватывающей весь мир [Bedford 1975: 32][131]131
Изображение Леонардо у Мережковского следует французским традициям XIX века [Turner 1990:143]. У Жюля Мишле Леонардо привлекают язычество и природа, а Эдгар Кине описывал Леонардо как предвестника современного человечества (op. cit., 105–109). Тем временем Арсен Уссе добавляет христианство к французской версии Леонардо: как отмечает Тернер, Уссе изображает Леонардо как «христианина-художника-героя», написав, что «для Леонардо да Винчи наука освещает образ Бога еще более ярким светом» (op. cit., 113).
[Закрыть].
Леонардо не склонен судить: не задаваясь вопросами и с равным интересом он работает на лишенных морали правителей, заполонивших Европу эпохи Возрождения, создавая предметы искусства или войны. Мережковский противопоставляет такой всеобъемлющий взгляд на мир взгляду Джованни, ученика, не способного объединить противоположности. Разница между ними четко выявляется, когда Леонардо приводит Джованни взглянуть на «Тайную вечерю», а потом показывает ему глиняную статую всадника, известную как Колосс, изображающую Франческо Сфорца, миланского герцога-узурпатора и отца покровителя Леонардо Лодовико Сфорца. Сфорца представлен как сверхчеловек Ницше: «сильный как лев, хитрый как лиса, достиг вершины власти злодеяниями, подвигами, мудростью – и умер на престоле миланских герцогов». Впечатленный «языческими» чертами правителя, Леонардо с ницшеанской иронией выводит на памятнике слова: «Ессе deus – Се Бог!» (1: 358)[132]132
Кристенсен утверждает, что морально амбивалентный Леонардо Мережковского «пошел по тропе к спасению через творчество, а не через следование традиционной морали», и рассуждает о связях между идеями второго романа Мережковского и идеями Бердяева [Christensen 1991: 177].
[Закрыть].
Джованни поражен тем, что Леонардо прославляет этого человекобога, и противопоставляет Сфорца Христу, Богочеловеку:
«Бог», – повторил Джованни, взглянув на глиняного Колосса и на человеческую жертву, попираемую конем триумфатора, Сфорца Насильника, и вспомнил безмолвную трапезу в обители Марии Благодатной, голубые вершины Сиона, небесную прелесть лица Иоанна и тишину последней Вечери того Бога, о котором сказано: Ecco homo! – Се человек! Джованни стоял молча, потупив глаза; лицо его было бледно.
– Простите, учитель!.. Я думаю и не понимаю, как вы могли создать этого Колосса и Тайную Вечерю вместе, в одно и то же время?
Леонардо посмотрел на него с простодушным удивлением.
– Чего же ты не понимаешь?
– О, мессер Леонардо, разве вы не видите сами? Этого нельзя – вместе…
– Напротив, Джованни. Я думаю, что одно помогает другому: лучшие мысли о Тайной Вечере приходят мне именно здесь, когда я работаю над Колоссом, и, наоборот, там, в монастыре, я люблю обдумывать памятник. Это два близнеца (2: 66–67).
Джованни не способен понять, как Леонардо связывает воедино человекобога и Богочеловека, то есть Антихриста и Христа. Он полагает, что это две совершенно разные сущности, и убежден в том, что на самом деле Леонардо предан одной из этих сторон. Сведенный с ума своими страхами, что Леонардо привержен Антихристу, Джованни воображает, что у его любимого учителя есть двойник: ведь Христос и Антихрист сливаются в нем. Леонардо тем временем не способен объяснить свое видение современникам, ведь он сам не целиком понимает значимость своего взгляда на мир. Это отсутствие понимания в сочетании с двойственностью, присущей Юлиану, находит в романе выражение в неспособности Леонардо, к примеру, окончить свои работы и в трудностях, возникающих у него при общении в различными покровителями, – ему с большим трудом удается донести свои идеи до других[133]133
Айрин Масинг-Делич рассуждает о неспособности Леонардо у Мережковского продвинуться от художественного творчества к созданию жизни при написании «Моны Лизы»: «Да Винчи создает портреты, исполненные точно подмеченной правды, даже внутренней правды. Ему, однако, не удается выйти за рамки экспериментальной психологии. Поэтому он также не способен выйти за пределы искусства, поскольку детального изучения и эстетического приукрашивания моделей, как бы глубоко и красиво он это ни делал, недостаточно для высшего акта создания жизни. Этот акт истинного творения нуждается в мощной энергии страсти и веры». Она сравнивает да Винчи с европейскими декадентами, современниками Мережковского [Masing-Delic 1994: 70].
[Закрыть].
Исключением, конечно, является Евтихий. Для Мережковского важно, что происхождение Евтихия самое простое, как и у Леонардо, чья мать была простой крестьянкой – Мережковский подчеркивает это в романе. Евтихий приезжает в Европу весной 1517 года, через двадцать лет после злополучного празднования у Лодовико Сфорца; его приезд – следствие переговоров между Московским государством и папой Львом X относительно его стремления объединить две церкви и создать альянс против турок. Русские не берут на себя обязательств по осуществлению данного плана, но отправляют двух послов – Дмитрия Герасимова и вышеупомянутого Мамырова – для продолжения переговоров. Герасимов – исторический персонаж, обеспечивающий связь между первым и вторым романами трилогии. Считается, что он сочинил «Повесть о белом клобуке», в которой описывается передача власти и праведности, символом которой является белый клобук, от Константина Великого Византии, а затем России [Гудзий 1962: 241][134]134
Дмитрий Стремоухов, напротив, пишет: «Мнение о том, что Дмитрий Герасимов является автором этой Повести, неоднократно оспаривалось», хотя и связывает повесть с его именем в собственном исследовании [Stremoouk-hoff 1953: 92].
[Закрыть]. Евтихий использует эту повесть в конце романа, предсказывая мессианское будущее России.
Надзирающий за Евтихием Илья Потапыч приходит в ужас от западного искусства, которое делегация видит в Европе, а собрат Евтихия по ремеслу Федор находит его привлекательным. Один раз Федор осмеливается сказать Илье Потапычу, что русские иконописцы могли бы поучиться у западных художников, особенно всему, что касается перспективы. Илья Потапыч воспринимает это высказывание как ересь, но Евтихий заинтригован. Позже в тот день он пролистывает псалтирь, написанную в городе Углич в 1485 году – этот момент в романе, очевидно, вдохновлен реальной псалтирью, с которой Мережковскому удалось ознакомиться как благодаря посещению Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, так за счет детального обсуждения ее содержания в работах известного энографа XIX века Федора Ивановича Буслаева (рис. 8). Евтихий поражен тем, что среди иллюстраций в книге находит изображения, напоминающие ему западную языческую античность, с которой он познакомился благодаря поездке в Европу. Он узнает бога солнца Аполлона в юноше с короной на голове, управляющем двумя лошадями, и видит речного бога в фигуре с кувшином, из которого льется вода (3: 340). Евтихий осознает, что языческие эллинистические фигуры связаны с христианскими и каким-то образом попали из Греции в Углич. Демонстрируя принятие им эллинистических истоков и отвергая «исторические» христианские порицания своего наставника, Евтихий, представитель простого русского народа, изображает языческие фигуры на одной из своих икон[135]135
Федор Буслаев исследует псалтырь 1485 года, созданную Федором Климентьевым Шараповым, которая находилась в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге [Буслаев 1861,2:201]; Мережковский также проводил некоторые исследования для романа в этой библиотеке [Соболев 1999: 35]. Буслаев нашел эллинистическое влияние в простых христианских изображениях в тексте и заявил, что художник-иконописец пятнадцатого столетия, сочетая классическое искусство и христианскую веру, понимал эти изображения лучше, чем образованные современники исследователя [Буслаев 1861, 2: 203]. Буслаев включает в свое исследование репродукции рисунков, о которых идет речь. Вероятно, интерпретация Буслаева оказала влияние на Мережковского, который отражает в романе мнение о значимости псалтыри и иллюстраций, которые тот выделяет. Например, как Мережковский (3: 340), так и Буслаев (204) упоминают Псалом 41:2 («Как желает олень на источники водные, так желает душа моя к тебе, Боже») и связывают его с изображениями в псалтыри. Поскольку описания Мережковским рисунков в «Леонардо да Винчи» предполагает знакомство и с другими изображениями, помимо описанных у Буслаева, весьма вероятно, что он ознакомился и с оригиналом псалтыри.
[Закрыть].
Вскоре после этого к Евтихию в мастерскую приходит посетитель – это любознательный Леонардо, теперь уже старик, который услышал о приезде русских в Амбуаз, где он теперь служит у французского короля. В мастерской Леонардо рассматривает коллекцию Евтихия: миниатюрные изображения восточных православных икон. Леонардо, посвятивший большую часть своей жизни поискам возможности летать, поражен тем, что византийская традиция зачастую изображает Иоанна Крестителя с крыльями. Современники осуждали интерес Леонардо к полетам, в особенности после того, как один из его учеников покалечился в нерабочей летающей машине, но Леонардо был зачарован идеей, что русские «варвары» связывают идею святости с полетом (3: 357). Видевший ранее мозаики византийского периода в Равенне, Леонардо отмечает их сходство с иконами и описывает иконы в книге Евтихия как «таинственные сумерки, в которых последний луч эллинской прелести сливался с первым лучом еще неведомого утра (3: 357).

Рис. 8. Страница из книги Ф. И. Буслаева «Исторические очерки русской народной словесности и искусства», 1861, с рисунками из Угличской псалтири 1485 года
В конце романа, после смерти Леонардо, Евтихий возвращается во Францию и приходит в восторг от написанного Леонардо загадочного андрогинного изображения Иоанна Крестителя, напоминающего Диониса (рис. 9). Той ночью, не в силах уснуть, Евтихий достает две своих любимых книги: «Повесть о белом клобуке», посвященную божественному величию России, и «О Вавилонском царстве», предсказывающую будущую земную славу России. Так же как белый клобук совершает свой путь в Россию после остановок в Риме и Константинополе, корона Навуходоносора во второй истории привозится из Вавилона в Константинополь, а оттуда в Россию. Оба повествования являются вариациями доктрины Третьего Рима. Пытаясь понять, как корона языческого правителя Навуходоносора может выполнять ту же роль, что и священный белый клобук, Евтихий приходит к мысли, что преображенные человекобог и Богочеловек сойдутся в России, в Третьем Риме. Потрясенный этим открытием Евтихий наконец засыпает и видит сон, в котором Леонардо связан и с пророком Илией, и с крылатым Иоанном Крестителем, явившимся со свитком, на котором написано: «Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною» (3: 386)[136]136
См. Книгу пророка Малахии 3:1; см. также версии в Евангелиях от Матфея 11:10, Марка 1:2 и Луки 7:27.
[Закрыть]. Евтихий просыпается и продолжает работу над иконой, изображая крылатого Иоанна Предтечу (рис. 10). Вдохновленный сном, он вписывает в свиток Крестителя слова, которые видел во сне. На этом роман заканчивается. Русский человек Евтихий осознает, что сам Леонардо является предвестником будущего синтеза Востока и Запада[137]137
Стаммлер отмечает влияние поэмы Владимира Соловьева «Ех oriente lux» на отображение Мережковским мессианских идей Евтихия в отношении России и вкратце отмечает, что откровение Евтихия является отказом от «земной власти и славы» в пользу Христа [Stammler 1976: 128]. Я согласна с тем, что Мережковский пришел к этому мнению к моменту написания третьего романа, но тот факт, что он изобразил Леонардо с его тягой и к человекобогу, и к Богочеловеку как провозвестника будущих откровений, предполагает, что в тот момент автор не до конца расстался с идеей их грядущего синтеза на русской почве.
[Закрыть] – и тех людей из будущих поколений, кто признает роль России в создании и развитии такого единства.
История Евтихия раскрывает современникам Мережковского его замыслы: Евтихий тоже является предвестником более поздних русских художников. Особенно значима тяга Евтихия к искусству Леонардо, столь же свойственная русским и европейским декандентам эпохи Мережковского. Широко известная характеристика, данная Уолтером Пейтером «Моне Лизе» Леонардо в 1869 году как «символу современной мысли», – это типичная для модернистов fin-de-siecle (в особенности Оскара Уайльда) попытка объявить Леонардо одним из них [Turner 1990: 125][138]138
Пейтера критиковали за включение его собственных художественных взглядов в прочтение работ Леонардо, однако Уайльд был среди тех, кто не возражал против таких художественных оценок, написав: «Да нет же, именно душа воспринимающего находит в прекрасном мириады новых значений, и делает прекрасное прекрасным для всех нас, и постигает особое отношение этого прекрасного к нашему веку, так что оно становится необходимой частью нашей жизни и символом того, за что мы молимся, а может быть, вознося за него молитвы, и опасаемся как реальности» [Уайльд 2003,3:178].
[Закрыть]. Иконописец Евтихий Гагара из Углича становится у Мережковского прототипом декадента – русского христианского художника, созвучного западным модернистским творческим идеалам. Мережковский сохраняет убеждение, которое было у него в период написания «Юлиана Отступника» и стихотворений «Символы», что Европа является современной версией языческой Римской империи периода упадка. При этом он написал в работе «Л. Толстой и Достоевский», цитируя Пушкинскую речь Достоевского, что Европа была в той же степени родиной для русских, что и Европа. Для спасения Европы русским нужно было учиться у Европы, как сделал это Евтихий. Им также было необходимо принять «истинное» христианство, все еще живущее в сердце народа, и принести свою веру через искусство на Запад. Представителям русской интеллигенции предстояло претворить в жизнь новое художественное и религиозное Возрождение, столь значимое для современной Европы. Тем временем Европе, представленной в романе Мережковского образом Леонардо, предстояло научиться ценить то, что русские могли предложить через свое символистское искусство, находящееся под влиянием Запада, но при этом вдохновленное христианством. Мережковский написал введение к своему переводу «Дафниса и Хлои» 1896 года: «И вот теперь, на рубеже неведомого XX века мы стоим перед тем же великим и неразрешенным противоречием Олимпа и Голгофы, язычества и христианства, и опять надеемся, опять ждем Renescimento, чей первый, смутный лепет называем символом»[139]139
Цитируется у [Фридлендер 1992: 52; Кумпан 2000: 67]. Более подробное исследование «Дафниса и Хлои» Мережковского, связи произведения с концепцией «новой красоты» и его значимости для культурной транформации см. [Кумпан 1990: 66–67].
[Закрыть].

Рис. 9. Леонардо да Винчи. «Святой Иоанн Креститель», 1513–1516 (Арт-ресурс, Нью-Йорк)

Рис. 10. Икона Святого Иоанна Крестителя. Крит, 1450 (Попечители Британского музея)
Закончив свой роман, Мережковский имел причину надеяться, что его видение плодотворных русско-европейских культурных связей было жизнеспособно. Позже он заявит, что название его поэтического сборника было первым упоминанием слова «символ» в России[140]140
«“Что значит: символы?” – спрашивали меня с недоумением» [Мережковский 19146:292]. О том, в каком отчаянии был Мережковский, когда в анонсе новой книги название написали ошибочно «Символье», см. комментарий [Кумпан 2000: 804].
[Закрыть], но к концу века он был вовлечен в поиски «нового» символистского искусства Валерием Брюсовым, в особенности в литературной сфере, и объединением художников «Мир искусства». Движущей силой этой группы был Сергей Дягилев. Дягилев, которого Андрей Белый сравнивал по степени самоуверенности с римским императором Нероном, походил на Мережковского и Брюсова в своем стремлении залатать брешь между русской и европейской культурой. Воспевая Петра Великого, который решительно открыл Россию влиянию Запада, Дягилев, организатор «Русского балета», старался показать европейцам русских, которых те боялись. Он заявил: «Надо поражать и не бояться этого, надо выступать сразу, показать себя целиком, со всеми качествами и недостатками своей национальности»[141]141
Цит. по: [Пайман 1998: 93].
[Закрыть]. Вместе со своими коллегами он отправлял образцы «нового» русского искусства на европейские выставки и привозил в Россию работы европейских художников. Его усилия не всегда оказывались успешными. Дягилев был, к примеру, возмущен, когда совсем мало русских мастеров согласились отправить работы на немецкую выставку, несмотря на приглашение ее европейских организаторов. А когда на официальной выставке акварелей 1897 года в Петербурге запретили выставлять иностранные работы, он выразил негодование русскому «истеблишменту» следующими словами: «…новое поколение приходит со своими требованиями, и оно пробьется и скажет свое слово. Ваш панический страх перед Западом, перед всем новым и талантливым, есть начало вашего разногласия, ваш предсмертный вздох» (там же).
Третий Рим Евтихия совпал с желанием Дягилева донести до европейцев русские культурные традиции, переработанные современными русскими художниками. Кроме того, хотя Дягилевым несомненно двигали отнюдь не мессианские побуждения, через объединение «Мир искусства» Мережковский познакомился с несколькими людьми, столь же сильно, как он сам и Гиппиус, заинтересованными в духовных вопросах [Bedford 1975:113–114]. Когда объединение «Мир искусства» основало первый в России модернистский журнал с одноименным названием, Мережковский опубликовал в нем статью «Л. Толстой и Достоевский», отражающую мессианские видения будущего России. А в 1901 году Мережковский, Гиппиус и их компаньон Дмитрий Философов сделали следующий шаг и основали Религиозно-философские собрания в Петербурге. Собрания имели целью объединить русскую интеллигенцию и священников Русской православной церкви для открытого обсуждения таких вопросов, как взгляды Мережковского на «истинное» христианство и отношение последнего к красоте человеческого тела и сексуальности. Мережковский надеялся, что русские интеллектуалы, как и Юлиан, отрицавшие Христа, признают свою христианскую духовность, как в мучениях сделал это Юлиан. Он также надеялся, что возможно изменение опасного «исторического» характера православия русского духовенства и священники признают ценность «языческого» взгляда Мережковского на христианскую веру. В 1903 году начал публиковаться журнал «Новый путь» с целью более широкого распространения идей, обсуждавшихся двумя этими группами российского общества[142]142
Описание целей Мережковского и истории событий см. [Гиппиус 1990: 353 (прим.)]. См. также [Scherrer 1973; Pyman 1984: 181–219].
[Закрыть].
Мережковский пытался воплотить видение Евтихия России как Третьего Рима. Славянское Возрождение, обсуждаемое русскими интеллектуалами на рубеже веков, имело особое значение для Мережковского в связи с идеей Третьего Рима[143]143
См., к примеру, его письмо к П. П. Перцову, в котором он заявляет, что спасение мира кроется в приверженности русской культуре и идее «Третьего Рима – и четвертому не бывать» [Коренева 1991: 136].
[Закрыть]. Через пятнадцать с лишним столетий после создания Арсиноей статуи Галилеянина – Диониса мир, в котором существовало взаимное принятие Востока и Запада, вдохновленный русским искусством, исполненным веры, наконец мог осуществиться.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































